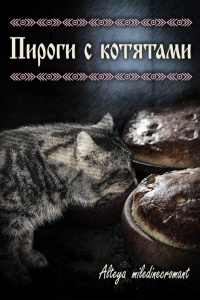





|
↓ Содержание ↓
↑ Свернуть ↑
|
Кошка-матушка
Котик-батюшка,
Ешьте маслице.
Не ступайте за порог,
Запечём мы в вас пирог!
С травами с грибами —
Будем живы сами.
Старинная народная припевка
— Ну давай, кушай же, окаянный, не вороти нос.
Миклош подтолкнул блюдце к коту, но тот, вместо того чтобы приняться за трапезу, повалился на пол и, вытянувшись, перекатился с бока на бок и лениво мяукнул.
Миклош тяжело вздохнул. Этого кота он выменял летом на ярмарке у цыгана. Ох, и нахваливал тот его, но сколько шерсть не пуши, не начёсывай, сколько масла в усы не втирай — на такого вот степенного да взрослого зверя только бы простак и купился. Денег у Миклоша особо-то и не водилось; походил он, пощупал кота за бока, под хвост заглянул — да только языком и поцокал. Недёшево стоили коты нынче: за упитанного трёхлетку так и свинью отдавали. Но чем-то, видно, зацепил его этот тощий полосатый разбойник.
Только завечерело и стали все уже разъезжаться, как заприметил Миклош, что так и не продал цыган своего кота. Подошёл он к цыганской кибитке и снова со всех сторон котейку тощего оглядел. Знал Миклош, что медяков, оставшихся после того, как сторговал он себе топор — новый и справный — ему и на котёночка-то не хватит, паршивого и полного блох, но что деньги? Ведь можно и выменять.
Не так уж много было у него на мену добра, что предложить и цыгану не стыдно — разве что вот рубаха. Льняная, новая, женой вышитая — и так ни разу и не надёванная. Не успел он её поносить: жену его, Марицу, унесло прошлой весной моровое поветрие. Была, да за седмицу сгорела. Выкосило тогда едва ни четверть села — а у Миклоша так и не достало сил надеть ту рубаху. Носить её — только душу себе травить… вот и лежала она у него без дела. А так хоть будет, кого по весне в пироги запечь… Марица бы одобрила, думал он, неся домой своего кота в деревянной клетке.
Так они с лета и жили: кот в коти́це, как положено, да и Миклош с ним. Котица у них в доме была на загляденье: целая каморка за печью. В зажиточных да богатых домах нет такой! Когда-то Миклош с женой думали, что будет там жить их сынок или дочка — да так тех и не нажили, и когда поняли, что, видно, не судьба им уже, перенесли туда из-под крыши котицу. Со временем Марица навязала туда половичков, лежанок нашила, а Миклош всюду развесил шариков шерстяных да связанные пучки перьев — а подоконник аж на целый локоть надставил, и теперь тот больше напоминал стол, на котором коту удобно было и сидеть, и даже лежать.
Ходила за их котами обычно Марица — но теперь, овдовев, деваться Миклошу было некуда. Приходилось справляться со всем самому: чесать да кормить. Имени он коту — как положено — не давал, и звал просто «котюшкой» да «котейкой». Заглядывал, стоило запеть петухам — c чесалкой, а когда солнце за лесом садилось — с мышиным хвостом. Так и тянулись их дни до зимы — покуда снег и стужа не загнали людей по домам.
Хлопот по хозяйству не стало меньше — куры, козы, кроли требовали и еды, и воды, и заботы — но ночи стали длиннее и злей, и Миклош начал приходить в котицу не только чтобы покормить да поиграть с котом — как полагалось — но и так… покалякать. За ухом почесать, да погладить… Шерсть у кота была короткой и в пятнах да полосах, точно у щуки, и лишь на груди да под мордочкой — белой, словно тот вымазался в сметане. Глазищи же у кота были зелёные да хитрющие, как у того цыгана. Что ни на есть обыкновенный да беспородный кот — худой вот только, ничего не наросло на боках. Захочешь запечь, да и нечего.
— Вот что из тебя за пирог выйдет, а? — спрашивал кота Миклош — а тот лежал на его коленях, месил воздух лапами и оглушающе громко мурлыкал. — Тощий-то! — Миклош вздыхал в сердцах, щупая его задние лапы. — Кожа да кости. Разве что на похлёбку, стыд один!
И снова вздыхал.
Кота было жалко.
Эх, недаром исстари порядки заведены: вот говорят же, что нельзя сидеть в котице дольше, чем лучина горит! И говорить с котом, словно с тварью разумной, никак нельзя. Играться, кормить да убирать еловый ящик с песком — и всё. И чесать. Придёт весна — как же ему без кошачьей шерсти?
Коты — они ведь не для людей дадены.
А для Лиха.
Хочешь, чтобы оно по весне, как снег сойдёт, твой дом и двор стороной обошло — как солнце на весну повернёт, всех угости пирогом вешним с котейкой, да сам кусок съешь — и живи год спокойно. А нет — выест тебе Лихо глаза, сорвёт мясо с косточек, и костей тех потом не найдут, в землице не похоронят, и скитаться душе неприкаянной. Мучиться. Вот и соревновались все — чей пирог выйдет лучше. Чего только туда не добавляли! Грибы, травы и ягоды. Кто курицу не жалел, а кто и перепела — а уж теста у каждой хозяйки был свой, особый рецепт. Вот и у Марицы был — да уж теперь не замесит… придётся Миклошу самому. Хотя, конечно, где оно видано — чтобы мужик тесто месил? Все знают, что бабья это работа — в день, когда ставили тесто на кошачьи вешние пироги, мужиков и стариков с мальчишками, отроду лет с семи, гнали взашей. И до самого заката на порог избы не пускали — пока пирог в печь не сядет. Пироги в печь ставили с последним лучом солнца — и потом до полуночи ждали, и спать ложились уже с новыми сутками.
А этой весной вдовому Миклошу придётся хлопотать самому. Прошлой… прошлой весной ещё была жива Марица. У них был бело-серый кот, и обо всём-то жена сама радела. Вышел и из уха кошачьего оберег, и пирог удался всем на зависть — даже старухи хвалили, а Миклошу, как всегда, кусок в горло не лез. Так, надкусил слегка. Но он всегда был мягкотелым — как все мужики, да. Говорят, их потому и выгоняли… у кого рука поднимется котюшку-то запечь? Бабам оно всё проще, они с Костлявой «на ты» — а вот мужики, те не выдерживали. И навлекали беды… вот Марицы его и не стало. Но в этом году он справит всё как положено — будет у него и вешний пирог, и кошачье ухо. Как же ему иначе? Он же ей обещал позаботиться и о себе, и о козах — уж так она их любила! И ведь козы-то — козы у них на загляденье! С длинной, в пол локтя шерстью, мягкой как облако: две с белою, да две с чёрной, а одна с невиданной — как топлёное молоко — какой даже в окрестных сёлах ни у кого не найти! Миклош помнил, как они с женой разглядывали диковинного козлёнка и думали тогда, что осень придёт, он и перелиняет — ан нет. Козочка выросла, да и осталась такой же диковиной — и шерсть её бывала всегда в цене. Вот только некому её теперь было прясть — пришлось Миклошу или самому эту науку осваивать, или нести на торг вычесанный с козы пух. Оно было жалко… вот он и взялся за прялку: всё равно долгими зимними вечерами нечем себя занять.
А чтоб не скучать, запирал покрепче Миклош двери, окна и подпол — да брал котейку с собой. Конечно, боязно было, что изловчится тот и сбежит — сколько историй было о том, как откормленные к вешнему пирогу коты в лес сбегали! А где посреди зимы нового взять? Нигде! Разве что в город ехать — но там, рассказывали, кот стоил уже как корова.
А кот, котейка, котюшка, меж тем, всё рос — но так и не толстел, всё словно в лапы уходило, в хвост и когти. И ещё в зубы вот — клыки у котюшки теперь торчали из-под верхней губы, словно у дикого зверя. Хоть нанизай из них ожерелье и носи, как охотники носят, посмеивался Миклош себе в усы, но на душе было горько. Да, правду говорят про мужиков… но куда же ему, одинокому горемыке, деваться. Сам не помрёт, так соседей погубит.
Зима, меж тем, подходила к концу — и вот настал последний холодный день, когда в избы приходили старейшины. Справлялись, готов ли кот для вешнего пирога: насколько он здоров да откормлен.
Прежде, говорили, пироги пекли с новорождёнными котятами: их запекали целиком, освежевав сперва, а затем томили в печи так долго, что все их косточки становились мягкими. А из шкурок выделывали особый пергамент, который и князю не стыдно было отдать вместо податей — но это было уже так давно, что даже старейшины тех времён не помнили. Говорят, в ту пору котов было много, а кошки приносили в избытке котят — куда всё ушло? То ли мор какой приключился, то ли пожрало всех Лихо. Лютое оно, одноглазое — ни человека не щадит, ни зверя лесного. Вот и не бродят больше свободно коты по дворам, не бегают по селу, не сидят на крылечке. Теперь-то их ещё попробуй купи, а потом откорми да вырасти.
В некоторых богатых домах котята до сих пор нет-нет, да плодились — но сколько, вестимо, таких домов? Котяток приносит лишь кошка — а кто ж её продаст, коль рождается их по одной на четыре дюжины, да не все выживают? Дураков нет — так что, мил человек, коль судьба тебя обделила, изволь себе кота каждое лето на ярмарке покупать да выменивать. С другой стороны, Миклош и представлять не хотел, как это — оторвать от матери-кошки дитя, что на твоих глазах народилось, да и запечь в пирог. Чтобы из пирога оно на тебя глядело…
Ладно кроли! Или вот куры. Плодятся себе — не жалко! Какая этой напасти разница, что во её имя схарчат? Что ей за радость такая? Да того же кроля без шкурки от котейки на вид и не отличишь!
Эта мысль занозой засела у Миклоша в голове. Шкуру снять, да отрезать голову — ей-ей и не отличишь! И потом, кто же о том прознает? Разве что вот надобен ещё оберег… но без уха-то и люди живут… Хотя что это он, дурень, удумал — кому он голову заморочить хочет, кого обдурить? Лихо? Так оно — не человечьей природы, учует наверняка — его не обманешь, не проведёшь, как старейшин. А попытаешься — оно, как снег сойдёт, явится в ночи на порог, и поминай как звали.
Сожрёт, растерзает, не оставив и потрохов. Ох, и лютое оно, Лихо то одноглазое: кого за дверью подстережёт, а кого и из дома вытащит. Расплескает кровушку по талому снегу, а потом в селе начнётся и мор — как тот, что сгубил его Марицу. Нет, негоже… никак негоже помышлять о таком.
— Прости дурака, котюшка, — Миклош поднял лежащего на коленях кота и прижал к себе так сильно, что тот запищал. — Я быстро. Вот как кролю — сверну башку-то легонько, и всё. Ты и не почуешь. А как ухо отрежу, так ты уж и знать не будешь о том.
Кот дёрнулся и вдруг стал вырываться — и когда Миклош отпустил его, спрыгнул с колен и, на полусогнутых лапах добежав до угла, сперва замер там, а затем заскрёб половицы.
— Да не сейчас, — тяжело вздохнул Миклош. — Нет — завтра только поглядеть на тебя придут. Пойдём в котицу, — позвал он его. — Узнают, что я выпустил тебя — забранят.
К дому Миклоша старейшины пришли не рано, обходя сперва людей поважней, да дома получше. Но явились вместе, всем десятком — важные, в богатых шубах и шапках котовьих со свисающими ниже плеч пушистыми хвостами и лапами. Разными: серыми, белыми, рыжими и чёрными, и даже в полоску и в пятна.
Тьфу ты, пропасть.
Да нет, Миклош понимал всё. И темнел лицом, когда щупали старики и старухи его кота, вертели его так и сяк, недовольно цокали языками, да пеняли:
— Худой. Худой, рёбра одни, да жилы! Чем же ты его, окаянный, кормишь?
Пришлось ответ держать да оправдываться: мол, да уж получше, чем самого себя, и курятину даю, и сметану…
— Откорми получше, — велели старейшины Миклошу. — За три седмицы. Усердие прояви. Маслицем его, что ли, попотчуй — а то вон, на своих-то усах блестит, а котейку-то обделил, обделил!
Миклош хотел было сказать, что кот то масло не жрёт — разве что со свежим вот хлебом, который всё норовит стянуть, по цыганской своей повадке, да смолчал. Кому дело какое? Это его кот. Да. Его. Он сам решит, как с ним сладить. Есть время ещё до весны.
А тот словно чуял — и ластился, и тёрся об ноги, и запрыгивал к Миклошу на колени, и обнимал его за шею лапами… так душу и рвал.
Вот уж и канун радения вешнего наступил, и тесто для пирога подошло дважды; пора было и за начинку браться. Миклош посидел, гладя свернувшегося на его коленях кота, поглядел по сторонам, сплюнул — поднялся, закрыл его в котице, да и пошёл в сарай.
За кролём.
Ну что же, значит, так посему и быть. Придёт Лихо — вот тогда он с ним и померится. Посмотрим ещё, кто кого. Сожрёт — так сожрёт. Растерзает — так растерзает. А может, кривая вывезет, думал Миклош, свежуя кроля. Глядишь, и стороною пройдёт. А что мор по селу пойдёт… Он сглотнул и посмотрел на только что снятую окровавленную серую шкурку. Ну, значит, пойдёт мор. А соседи? Где прошлой зимою соседи те были? А может, само обойдётся. Бывали же такие годы, что и обходилось.
Чтоб едоков запутать да заморочить, Миклош щедро сдобрил пирог клюквою да грибами, трав добавил, кореньев, да луку в свином сале-то пережаренного. Резал, да слёзы всё утирал. А потом достал заветный марицын жестяной коробок, понюхал его, чихнул, да и всыпал перцу заморского, и соли не пожалел. Попробуй теперь, разбери, кот там внутри пирога али кроль.
Поставил Миклош пироги в печку — и заткнул за пояс костяной нож. Котейку-то он ещё загодя отнёс в старую котицу, ту, что под крышей, да спрятал. Мало ли, вдруг кто проверить сподобится? Всякое может быть. Повздыхал Миклош, приоткрыл низкую дверь в старую котицу, ухватил котейку за шкирку, да, вынув нож, ухо-то ему и обкорнал — так рук едва не лишился. Да ничего, рукавами потом царапины те прикроет.
Едва рассвело, пропели в который раз петухи, и Миклош посмотрел на восход — утро выдалось погожим да ясным. Добрый знак. В центре села уж и столы поставили, и начал туда стекаться народ от велика до мала. Каждое семейство — со своим вешним из кота пирогом. И каких только ни было! И огромных, с тележное колесо, и едва ль на один укус крохотных; высоких да низких; украшенных из теста плетёнками, да узорами и цветами, которым и названия-то не было. Пироги составили на стол, вместе с медовым пивом да деткам брусничной водой. Вот собрались все, загомонили. А как явились старейшины всем десятком, достали костяные свои ножи — не то что у Миклоша, — вострые, длинные, с обтянутыми чёрной кошачьей шкуркой ухватистой рукояткой, да камушками цветными — и попритих народ, замер. Посмотрят, значит, старейшины на подкопчённое ухо, порежут пирог на куски, в рот по крошке положат — вот тогда можно выдохнуть, дают добро, стало быть, старейшины пирогу.
И вот как каждый пирог они взрезали, да от каждого пирога вкусили, вот тут-то праздник и начался.
А Миклоша всё с души воротило. Нет, и к пиву он приложился, и пироги ел — большей частью, конечно, свой, но и соседей пришлось уважить. Многие, он видел, поступали как он — но чем больше вглядывался Миклош в лица за длинным столом, тем больше хмурился сам. Назвать всё это праздником язык у него бы не повернулся. Детки-то несмышлёные, те веселились, да и ряженые прыгали вокруг стола, хватая с него куски побольше да повкусней — но весна в этом году выдалась ранней, и снег уже во многих местах сошёл. Ещё пара недель — и всё… придёт время Лиха. А там кому и оплакать ничего не останется. Был человек — и нету; и пойдут одни за другими поминки.
Расходились, как положено, после полудня; недоеденные пироги остались на столах, и старейшины уже складывали их в плетёные коробы — окурят травами, да и разложат в лесу за околицей попотчевать голодное с зимы Лихо.
Вернувшись домой, запер Миклош за собой дверь, проверил ставни на окнах — и поднялся в старую котицу. Котюшка встретил его на пороге, потёрся об ноги головой, и Миклош, тяжко опустившись перед ним на колени, поднял котейку на руки, стараясь ухо-то не тревожить, прижал к себе, да и зарылся лицом в его щучью шерсть:
— Всё, котинька. Теперь мы с тобой лиходеи. Хуже татя ночного. Хуже лесного разбойника. Узнают — тебя запекут в пирог, а меня за околицею повесят. Ох, котик-котюшка…
Кот оглушающе замурлыкал, а потом вдруг начал облизывать Миклошу лицо своим шершавым, как сосновая кора, языком. А тот только вздыхал и смотрел исподлобья — но сделанного ведь уже назад не воротишь.
Стал Миклош готовится к встрече с Лихом: дверь в избу укрепил железными скобами, да навесил железный засов. Ставни железом обил изнутри, да и им засовы новые справил. Набил в щели пучки полыни, да посыпал подпол золой. Топор новый свой наточил, так что им можно бриться, да косу с вилами поставил в сенях. Знать бы ещё, как с этим Лихом бороться… но об этом даже говорить было вслух нельзя. Прознает кто — осерчают старейшины. Может, в старых книгах было что — да кто ж Миклоша к ним допустит? А коль и допустит, так читал Миклош разве что по слогам — много он там вычитает? Вывеску над трактиром прочесть — одно, а книгу… нет, он в этих премудростях не разберёт, и ничем они ему не помогут.
Встретит он Лихо вилами да углями из печки — а там уж как будет.
Вот сошёл снег с полей, обнажил спящую под ним землю — и пришла пора тяжёлой работы, что кормила после весь год. Миклош больше не играл и не беседовал с котюшкой: поднимался затемно и ложился, и ему едва хватало сил и времени зайти в котицу, накормить его да проверить ставни — плотно ли те закрыты. Нельзя было, чтоб его кота до лета увидел кто, иначе несдобровать им обоим. Кот, конечно, маялся, да скучал, — и через седмицу Миклош махнул рукою на всё, да и улёгся ночевать в котице. И так сладко было ему спать в ту ночь на связанном Марицей половичке, с лежанкою под головой и тёплым котом под боком; так он решил отныне и делать.
Давно уж взошли озимые, и яблони расцвели, а Миклош так в котице и спал. Придёт, ляжет — и смотрит, как ходит котейко из угла в угол, потягивается, да когти о половик точит. Потом придёт, прищурит глаза и под боком устроится. И ни сквозняков, ни ночных шорохов можно уже не бояться.
И вот, стоило луне округлиться да отрастить бока, чу — проснулся посреди ночи Миклош. Прислушался — и не услышал он ничего. Страшная стояла вокруг тишина, и послышалось в той тишине глухое, утробное завывание, от которого душа у Миклоша в пятки-то и ушла, и затихло. Вот оно, Лихо пожаловало, лютое, одноглазое. Не слышно было ветра, не скрипели стены в сенях, и молчали внизу половицы — будто и избу и всё село окутала глухая, мертвенная тишина, вязкая, словно дёготь.
Припал, не дыша, Миклош ухом к бревну, и услышал за стеной жуткий шорох — словно целое полчище незримых зубастых гадов катилось по прелой листве. Вот она, лихова поступь. Не в первый раз слышал Миклош эти недобрые шорохи и зловещую тишину. Нет, не пройдёт оно мимо, не минует его. Пришло нынче по его душу, но и Миклош давно был готов.
Отворил он дверь из котицы, да кот под ноги так и шмыгнул, и в ночной тиши растворился. Пусть бы и спрятался понадежней, оно и к лучшему — глядишь, и до утра доживёт.
Огня зажигать Миклош не стал, да и к чему оно? Он свою избу так знал, что с закрытыми бы прошёлся глазами. Вот печь, а за нею коморка-котица, по правую руку — горница, где прежде спал Миклош с женой, покуда Марица была жива. А уж дальше сени — за сенями крыльцо. А в сенях — вилы.
Оделся Миклош в темноте — хотя что там надевать? Натянуть сапоги да кафтан, подбитый шерстью — всё одно помирать сегодня. И уж всяко топором-то махать — сподручнее в одежде-то попросторней. Нагрёб в печке углей в горшок, достал кошачьей валеной шерсти, бросил, да чуть не закашлялся. За пояс Миклош сунул с одной стороны нож, с другой — топор, взял в руки вилы — и вышел так на крыльцо.
Ночь была тёмной: небо ещё днём закрыли тучи. Но даже в ночной черноте углядел Миклош Лихо. Тёмное, о четырёх лапах, мохнатое да сутулое — сидело оно по ту сторону, положив крючковатые лапы с когтищами на плетень, и поводило мордой. Принюхивалось, вглядывалось во тьму горящим, как уголь, глазом. Тут жуть Миклоша и пробрала — если бы не дым из горшка, точно б его учуяло.
Есть у него лапы, и голова, так рассудил, поудобней перехватив вилы, Миклош, а значит, и сердце где-то под шкурою быть должно. Может, не одно даже. Но его поди, попробуй, достань — или вот если б до башки добраться… да всадить в неё топор или хоть вилами глаз выколоть окаянный… но поди дотянись: Лихо было выше самого высокого мужика мало что вдвое. Разве что влезть на крышу…
Эх, была не была! Двум смертям не бывать, а терять-то Миклошу всё равно нечего.
Дымом заволокло полдвора, и Миклош, тихо ступив обратно в сени, задвинул засов, затем и в избу дверь затворил, да бросился к лестнице на чердак, и полез, едва не оскальзываясь на ступеньках. Прошёл, согнувшись, мимо пустой котицы, вот уж и доски с соломою отодвинул, да и выбрался потихоньку на крышу. И затаился на самом краю.
Разъярилось Лихо, стегнуло лысым хвостом по траве, да как поднялось, кажется, став ещё больше, да перешагнуло плетень. Двигалось Лихо почти бесшумно, лишь тот самый шорох следовал за ним по пятам. Вот Лихо снова принюхалось, но, видно, страсть как ему не нравилась кошачья палёная шерсть. Приоткрыло оно усеянную зубами пасть — да дохнуло стылым туманом.
Миклош и дышать перестал: видел он острый нос и вислые, тленом тронутые усищи прямо рядом с собой. Стиснул Миклош вилы покрепче и проверил, насколько легко топор выходит из-за пояса. Если ему свезёт, он сумеет воткнуть вилы в лихову мохнатую шею — а потом всадить в глаз топор.
От Лиха пахло гиблым и нехорошим лесом — прелым деревом, топким болотом — и гниющей плотью. Воздух словно замер и стал плотным, почти как кисель, и Миклош ощутил, как тот колышется от смрадного злого дыхания. Ощутил Миклош и как все волосы на его теле встали дыбом...
Тут-то предательская луна и вышла. Углядело Миклоша Лихо, зашипело, ощерилось, да как, растопырив когтистую лапу, потянулось к нему — ей-ей человеческая рука, костлявая только. Вскочил он, размахнулся, да швырнул вилы куда попадёт — где уж тут целиться, если вот она, смерть пришла.
Не брызнула кровь — вилы завязли в шерсти, но тут распахнуло пасть Лихо да как завизжит — пронзительно, мерзко, да так громко, что Миклошу показалось, что он сперва оглохнет, а потом лопнет его голова как горшок. Может, куда и достал Лихо-то, понадеялся Миклош. Выдернуло Лихо те вилы и отшвырнуло прочь, и пока он топор доставал, ухватило Миклоша крепкими, словно коряги, пальцами, да сжало за плечи, не давая поднять руки, так что кости у него затрещали, и подняло.
Вот и всё.
Думал Миклош, что уж распростился с жизнью, и свидится он со своей Марицей, как прорезал ночь новый звук:
— Ма-а-а-а-у! Мра-а-а-а! — прокатилось над спящим селом. — Ма-а-а-у-а-у!
Вздыбившись, на печной трубе замер кот, сверкая на Лихо глазами — а потом как бросился серой тенью, распластался в воздухе, и вцепился в горящий глаз, да всеми когтями. Пуще прежнего взвыло Лихо, выронило уж почти бездыханного Миклоша, и тот, рухнув на крышу, покатился по ней, безуспешно пытаясь за что-нибудь ухватится, да так и перевалился за край, повиснув с трудом на руках.
Но уж какие тут силы? Разжал он пальцы и свалился прямиком в росший под окном котицы шиповник. Выпутался из колючих кустов — да ринулся за угол. Воздух так и звенел от леденящего душу визга, почти сбивавшего с ног. И увидел Миклош, как пятится Лихо и машет когтистыми лапами, пытаясь стащить с морды тень, да так достать и не может.
Вдруг оборвался визг, и стало вновь страсть как тихо — а потом заколыхалось Лихо, рябью пошло, поплыло, зашаталось… и рассыпалось полчищами пищащих мышей да крыс. А уж сверху шлёпнулся и его котейка. Котюшка. Кот. Он крутился среди копошащейся тёмной кучи, давил мышей и ловил крыс зубами. Схватил Миклош с крыльца дымящий горшок, да и бросился на подмогу:
— Изыди, погань! Прочь! Прочь! Оставь их, котюшка! Выплюнь!
Бросился он в это живое месиво, давя злую напасть сапогами и рассыпая угли вокруг. Густо валил едкий дым, хрустели под сапогами кости, но не было крысам числа, и лезли они по Миклошу вверх, цепляясь когтями.
— Уходи, котенька! Уходи! — кричал он, скидывая с себя крыс и видя, как одолевают они его спасителя, да никак не мог до него добраться. Вот уж почти скрылся его кот под кучею шевелящих тел, и вновь:
— Ма-а-а-а-у! Мра-а-а-а! — разнеслось над селом.
— Ма-а-а-у-а-у! — ответили ему со всех крыш и с окрестных улиц.
Миклош глазам своим не поверил, но со всех сторон к ним с котом устремились тени. Совсем маленькие и большие, хвостатые и все корноухие — как один.
Котюшки, котейки, коты!
Неслись он к Миклошу по залитой лунным светом едва покрытой травою земле — и прыгали, кидались на то, что ещё недавно было Лихом.
— Ах ты ж матушка-кошка, — охнул Миклаш, утирая залитое кровью лицо — и, с новой силой ругаясь отчаянно, продолжал сбрасывая с себя грызунов и топтать.
А со всей деревни сбегались люди — и не только лишь мужики. Бежали с топорами, с косами и вилами, и с цепами, и с рубелями, и даже с вениками и кочергами. Уж кто с чем… С горшками, полными углей да кипятка. Вот тут-то Миклош и углядел, как его котюшка-кот, серый разбойник, вдруг выскочил из-под совсем скрывших уж его тварей, держа в зубах огромную, едва ли не в половину него самого, крысу, и побежал, мотая рассерженно головой.
И вдруг все остальные мыши с крысами стали в разные стороны разбегаться — будто кто-то то ли их отозвал, то ли напугал вусмерть. Они с писком бежали к темневшему за околицей лесу — а за ними неслись коты и люди с огнём в руках.
А Миклош тяжело похромал к своему коту, уже умывавшемуся поодаль над дохлой крысой. Наклонился Миклош — и, подняв грызуна за хвост, увидел на его морде один-единственный глаз, вернее, то, что от него осталось после того, как кот вонзил в него когти свои и клыки.
— Ох, котюшка, — Миклош грузно опустился подле на землю. — Ох, котюшка… убил ты его. Как есть свернул Лиху шею, — он погладил умывающегося кота, и тот, мурлыкнув, тут же взобрался Миклошу на колени. — Эх, котик-котюшка… как думаешь, повесят меня теперь, али как? — спросил он, утыкаясь носом в круглый лоб своего кота.
Так они и сидели, покуда не вернулись люди — и изумлённый Миклош ни углядел, что едва ли не каждый второй из них держит на руках по коту.
Вот тут и выяснилось, до чего же хитрые у них на селе жили люди, да жалостливые! Не один подменил начинку в своём пироге — уж у скольких за эти годы рука да дрогнула не впервые. В иных семьях прятали котов и годами, показывая старейшинами каждый год одного. То сажей вымазав, то пятна белым ему дорисуя, а в пироги отправляя курицу да кроля, а с ними грибы и коренья. А что уха у кота только два, так для этого есть на ярмарках и цыгане.
С тех пор в сёлах окрестных котов перестали прятать, а радение вешнее праздновали, да пироги к нему уже пекли самые что ни на есть обычные, мясные да с ягодами-грибами. Уж кто с чем. Котов же везде привечали — ибо хоть Лихо и сгинуло, да зимы теплей не стали, не перестали шастать из лесу волки с лисами. Что уж там до амбарных мышей! А кто лучше кота отгонит их, да и предупредит, что тать во дворе? И кто спину старикам поврачует и согреет постель, и за дитём приглядит, да отогреет его лучше печки?
Сам же Миклош с тех пор уважаемым человеком стал. За то, чтобы котейку его погладить, да чем угостить, соседи до хрипоты спорили. А уж кому прясть миклошевых коз шерсть, соседки так и передрались вовсе. Вот что значит нет у двора хозяйки!
О том, что в их краях случилось, прознали и в стольном граде — и как-то летом Миклоша с котом позвали пред княжьи очи: очень уж хотелось тому поглядеть на диковинного кота да пожаловать Миклошу серебра вместе с княжьей шубой за избавленье от нечисти. Ну, Миклош сел на телегу и съездил — поглядел на князя да как городские живут, а заодно и право торговать на большом рынке выпросил. Князь посмеялся — да и даровал. Но поставил условие: торговать там Миклош мог только с котом. Тем самым — ну, или его потомками, коль те наплодятся.
Вот так и вышло, что по осени Миклош повёз в город шерсть да шкурки кроличьи — соседские и свои — вместе с котом, которого так дальше и звал Котюшкой. За пол дня они всё и распродали, понабрали заказов — и пошли глазеть по сторонам да город смотреть. Шли — дивились и на каменную красоту, и на разряженных городских, а на встречу им княжья дочка с шёлковою ленточкой в белой ручке. А на ленточке той — белая кошечка. Чинно по мостовой ступает, метёт её пушистым хвостом. Вот уж зрелище — никто от них глаза оторвать не мог. Поглядели Миклош с котом, подивились — и дальше пошли: в их краях такие не приживутся.
Ничего.
Найдут они невест по себе. Вот, говорят, в соседней деревне ярмарка через три седмицы грядёт — ох и народу съедется, слышал Миклош.
Может, им и свезёт.
А нет, так, глядишь, и у цыган диковинное что попадётся, да, котеечка-котюшка?






|
Alteyaавтор
|
|
|
Aliny4
Alteya Стиль?! Он же тут... другой совсем! Разве нет?Так и вы котиков тоже любите нестандартно в этом фике)) Я когда читала, узнала стиль с первых строк. И именно поэтому мне было не страшно - знала, что с главным котиком всё у вас будет хорошо)) если бы стиль не узнала, сильно бы испугалась) |
|
|
Alteya
Авторский стиль один, художественный стиль разный) Пунктуация, напевность, образность очень характерны |
|
|
miledinecromantавтор
|
|
|
Aliny4
Alteya Ну вот, я же говорю, плохо стилизованный лубок ))Авторский стиль один, художественный стиль разный) Пунктуация, напевность, образность очень характерны Мы можем лучше! ))) |
|
|
miledinecromant
Эй-эй, почему плохо?! Ну вот художник может работать в разных стилях. И работать хорошо. А характер мазков - один! Разве это плохо?)) |
|
|
Alteyaавтор
|
|
|
Aliny4
Alteya А мне кажется, он тут другой совсем...Авторский стиль один, художественный стиль разный) Пунктуация, напевность, образность очень характерны miledinecromant Aliny4 Это не лубок! ((( Ну вот, я же говорю, плохо стилизованный лубок )) Мы можем лучше! ))) Но да. Мы можем лучше! ) |
|
|
Alteya
miledinecromant Так... а я поняла лубок в смысле - народное творчество. Я не правильно поняла? Не слышала это слово как ругательство. И лубок как графику я очень люблю. |
|
|
miledinecromantавтор
|
|
|
Aliny4
miledinecromant Черт! У нас на продажу два поддельных Пикассо и один Матисс!Эй-эй, почему плохо?! Ну вот художник может работать в разных стилях. И работать хорошо. А характер мазков - один! Разве это плохо?)) 2 |
|
|
Alteyaавтор
|
|
|
miledinecromant
Aliny4 Тссссс! Не оглашайте весь список, пожалуйста!Черт! У нас на продажу два поддельных Пикассо и один Матис! 3 |
|
|
Ничто, если договорился, дроу поклянется, что лично спер это полотно с подрамника у Матисса)))
1 |
|
|
Alteyaавтор
|
|
|
Nalaghar Aleant_tar
Ничто, если договорился, дроу по клянется, что лично спер это полотно с подрамника у Матисса))) Клянётся? Дроу? Точно?)1 |
|
|
Alteyaавтор
|
|
|
Агнета Блоссом Онлайн
|
|
|
Alteyaавтор
|
|
|
1 |
|
|
Агнета Блоссом Онлайн
|
|
|
Alteyaавтор
|
|
|
Агнета Блоссом Онлайн
|
|
|
Alteya
пичаль... =( |
|
|
Alteyaавтор
|
|
|
1 |
|
|
Alteya
Ловчий Листвы Виноват, дурак, исправлюсь! А "нравится!" я поставила!)))(Ворчит) Вот вечно ходють, тащуть и не голосують! |
|
|
Alteyaавтор
|
|
|
А у нас обложка! )
2 |
|
|
↓ Содержание ↓
↑ Свернуть ↑
|