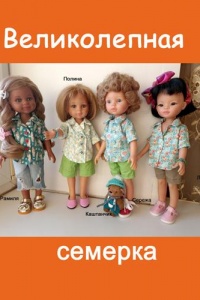





Сережа вдруг ахнул.
— Смотрите! — позвал он всех. — Вот, сюда, встаньте на это место и смотрите наверх по горе!
Посмотреть определенно было на что. Здесь они стояли на самом берегу, за ними, огороженный перилами, круто обрывался вниз берег, поросший высокой жесткой травой, чем-то типа камыша и осоки, и ниже переливалась на солнце серо-голубая вода. А если смотреть вперед и вверх — за хитрыми асфальтовыми петлями развязки серела бетонная стена ограждения, на которой кто-то нарисовал зеленого тиранозавра с красным арбузом в маленьких лапках, а дальше поднимался вверх почти такой же крутой склон, поросший цикорием и маленькими кустами, еще дальше лепились по склону разноцветные дома, между которыми петляла, то исчезая, то выныривая, узкая дорога наверх, где просто дорога, асфальтовая, где лестница, местами даже с перилами. Это был интересный, но в целом знакомый вид. Но на самом верху… дома вдруг расступались по сторонам — и в этом прогале темнела крохотная отсюда, но все равно величественная фигура пахаря-воина со своим могучим конем. Солнце зажглось на острие копья. А за Поселенцем — уже смазанный расстоянием, но все-таки вполне различимый, поднимался крепостной вал древнего города, а над ним — сияла белизной и золотом громада собора, белая и золотая на фоне ярко-голубого неба, точно солнце и облако. А над всем этим — огромное голубое небо с солнцем и сияющими белыми облаками.
— Красота! — в один голос выдохнули Рамиля и Лиу.
— Вот отсюда, из этой точки, как всё здорово видно, — пояснил Сережа. — Все как по одной линии. Так красиво!
— Слушайте, я поняла! — воскликнула Полина. — Вот отсюда всё как раз хорошо понятно.
— Что понятно? — не поняли остальные.
— Как тут всё было устроено! — нетерпеливо воскликнула Полина. — Когда тут была крепость! И понятно, почему ее именно тут и построили. Вот прямо в этом месте.
— Ну, потому что на холме, — предположила Лиу. — Крепости всегда на холмах строят.
— Вот, смотрите, как всё здорово продумано, — торопилась объяснить свое открытие Полина. — Крепость ведь от кого? От кочевников. Кочевники приходят с той стороны реки, где берег низкий, на своих конях переправляются через реку, и тут им надо штурмовать крепость. Представьте, что тут никаких домов нет, их тогда еще не было, просто склон. И вот кочевники атакуют вверх по склону, на своих конях разгоняются — а их сверху из крепости обстреливают, вот тут как раз удобно стрелять со стен, из пищалей, или даже из луков… тогда, наверное, из луков тоже еще стреляли. И вот тут как раз всё прекрасно простреливается сверху донизу. И кочевники до крепости не доходят! И убираются восвояси, обратно за реку.
— Точно! — выдохнул Сережа, завороженно слушавший.
— А зачем им именно здесь атаковать, если тут всё так хорошо простреливается? — проявила скептицизм Рамиля. — Они могут в другом месте переправиться, и там подняться, и атаковать… — она задумалась, как это правильно назвать, но ничего не придумала, и попыталась показать это рукой, — сбоку.
Полина задумалась.
— А тогда, пока они будет двигаться, их обнаружат из крепости и навстречу отряд отправят! И все равно в итоге кочевники уберутся восвояси. — Почему-то Полине ужасно понравилось это выражение. — Ну, слушай, кочевники же крепость ни разу не взяли? Не взяли. Значит, всё так было, как я говорю. Если бы им было как атаковать по-другому — они бы так и делали.
Рамиля пожала плечами, не слишком-то убежденная.
Но что-что, а вид города на холме впечатлил всех без исключения. И всем представлялась деревянная крепость, и стрельцы в красных кафтанах, как в «Иване Васильевиче», или не в кафтанах и не стрельцы, а бородатые воины в кольчугах и плавно скругляющихся шлемах с алыми флажками-яловцами на самой верхушке. И как мчится наверх темная лава мокрых всадников на мокрых конях… конечно же, они были мокрые, раз только что переплавились через реку, и потому же и темные, мокрое всё темнеет.
Полина первая предложила играть в кочевников и в оборону крепости.
— А для кочевников лошади у нас уже есть. Мы же делали для индейцев, — эпопея с индейскими конями стоила родителям немалых переживаний, а также пряжи, веревок, выметенных стружек и йода для порезанных пальцев (детских). Но кони из палок, с нарисованными мордами, приделанными хвостами и съемными уздечками, надо признать, получились на славу. — Только надо будет придумать им кочевнические имена.
— А кто будет кочевниками? — спросил Сережа.
— Рамиля, — логично предложила Полина. — И еще кто-нибудь. Двое кочевников и двое защитников крепости. А крепость у нас будет на горке. Она как раз высокая. Ну или если ты не хочешь, тогда посчитаемся… — неуверенно прибавила она.
— Давайте тогда сначала играть, как мы кочуем, — внесла встречное предложение Рамиля. — Кочевники кочуют, юрты ставят, охотятся и все такое. А земледельцы строят крепость и тоже всё делают. А потом кочевники отправятся в набег, и вот тут и будет защита крепости. А то чего сразу нападать! Кочевники должны кочевать, в этом и смысл, а то какие они кочевники, если не кочуют, а только на всех нападают.
Вариант с юртами потребовал дополнительных вложений, а именно вьючную лошадь, на которую грузить юрту… и собственно юрту. Лошадь сделали по проверенной технологии. Сережа, который вместе с Полиной пошел в земледельцы (Полина — заодно в воеводы), решил, что им тоже нужна дополнительная лошадь, которую запрягать в плуг, и тоже сделал еще одну. Он даже нарочно ходил смотреть на памятник, чтобы морду нарисовать, как у того коня. Похоже получилось или не очень — если честно, трудно сказать, когда конская морда изображается акриловой краской на сучке. Но сам Сережа остался вполне доволен результатом и нарек нового коня Орликом. И предупредил, что будет как будто он очень сильный.
Для юрты использовали те же старые детские одеяльца, которые ранее успели побывать частью вигвама. Но юрта с вигвамом имеют принципиальное конструктивное отличие, поэтому палки от помидор сюда никак не подошли бы. К тому же они уже все равно уже стояли в помидорах. Но тут тетя Белка включилась в процесс и раздобыла где-то дуги от огурцов. Такие металлические штуки, которые втыкают в огуречную грядку и накрывают сверху пленкой, чтобы получился парник. Законный владелец дуг в этом году огурцы не сажал и согласился одолжить конструкцию — с условием, что к концу сезона ее вернут в целости и сохранности.
Набеги были грозными, оборона из водяных пистолетов, вполне правдоподобно изображающих пищали — отчаянной и неизменно успешной, а все вместе — настолько шумным, что баба Нина однажды даже высказала всей компании:
— Да что ж у вас за бедлам! Вы же девочки… в основном. А носитесь и орете, как сущие сорванцы!
А закончилось дело тем, что всем надоело воевать, и воевода и ханша (вопреки предположениям баба Нины, Рамиля прекрасно помнила, что она девочка) решили заключить между собою союз, торговать и обменивать творог и адыгейский сыр на булочки с маком. Адыгейский сыр, конечно, делают в Адыгее, но они же играют — а в этот день у Лиу в холодильнике имелся только такой. В честь заключения союза даже лошадей угостили булочками (понарошку). И медведя тоже. Конечно же, в крепости имелся медведь! Его даже нарисовали на стяге, потому что у каждой заслуживающей рассмотрения крепости должен быть стяг.
— И все-таки мне не нравится эта идея, — говорила Рамиля, орудуя иголкой. Она шила лошадь.
— Какая? — спросила Лиу.
За окном шумел летний дождь, окно было распахнуто, и в него входил влажный запах — листвы, помидорных кустов под окном и близкой реки. Вся компания собралась у Полины, потому что у Полины был самый лучший вид из окна — а когда в летний дождь сидишь у окна, это очень важно, какой из этого окна вид.
Рамиля шила лошадь. Полина сначала хотела шить наряд для куклы и принесла куклу с собой, но потом подумала и тоже решила шить лошадь, только свою. Лиу рисовала всадников, а Сережа — кафе динозавров. Все это хорошо, крепости, кочевники, лошади и всё прочее, но динозавров он всё равно любил больше всего.
— Что во всех книгах кочевники всегда на всех нападают, — объяснила Рамиля.
— Но они же правда нападали на земледельцев, — сказала Полина. — В летописях это зафиксировано. И крепость тут ведь не просто так построили — если бы не нападали, то и крепость бы строить не надо было.
— Ну да, — сказала Рамиля. — И именно это мне и не нравится. — Она отмотала красную нитку, чтобы вышить лошади рот. — Что-то здесь не так. Что получается как-то вот так, — она показала на картинку в книге, которая была открыта перед Лиу — для образца, как правильно рисовать сбрую.
На монохромной гравюре, на заднем плане, горели две избы, а на переднем, на весь разворот, всадник в шапке конусом с мехом гнался за двумя удирающими со всех ног босыми детьми, явно намереваясь ухватить старшую девочку за косу.
— Что кочевники вроде как злые и то и дело совершают набеги, тем и живут, и от них надо защищаться. Но вот в Монголии и сейчас полно кочевников, помните, мы читали журнал про Монголию, и еще книжку, забыла как называется, про то как лошади из Англии сбежали в Монголию? И ни на кого они не набегают. Или вот даже не в Монголии. Вот дедушка Абдулл — он ведь был почти кочевник. Ну то есть это папин дедушка, а мне прадедушка. Я его совсем мало застала, только когда он уже на пенсии был. А до пенсии он работал табунщиком, это почти совсем как кочевничья жизнь, лошадей пасти и табуны куда надо гонять. У него даже маленькая юрта была, он мне показывал. И он был совсем не злой, наоборот, очень добрый. Он всех птичек кормил. У него даже в засохшем дереве жил уж, уж — он ужас какой противный, я к тому дереву подходить боялась, только если с дедушкой и не очень близко. А он дерево специально не пилил, хоть и место занимало, чтоб там уж жил в дупле, и ужа тоже кормил. Он бы точно ни за что не стал никого за косы хватать!
Рамиля задумалась.
— Он однажды собаку за шкирку схватил, — призналась она. — Там у них в деревне, не у дедушки, была такая здоровенная собака, Акбар. Прямо огромная! И этот Акбар хотел выскочить на дорогу, а там по дороге фуры носятся. И дедушка схватил его прямо за шкирку, потому что больше не за что было, у него ни ошейника, ничего такого не было, а если бы не схватить — он бы прямо на дорогу выскочил. И Акбар разворачивается — и своими здоровенными зубами его за руку как укусил! У дедушки даже шрам на ладони остался, он мне показывал. И дедушка даже на него ни капельки не ругался!
Лошадь у Рамили получилась бурой масти, из трикотажа от водолазки, веселая и пухленькая. Рамиля назвала коня Найман, как в книжке «К последнему морю». Она сделала ему попону, седло из кусочка кожи от сумки (какие на сумках к биркам приделывают, как раз подходящего размера) с подпругой и даже стременами из проволоки. И уздечку, только без трензеля, его тоже можно было бы сделать из проволоки, но рот у коня не открывался, он был вышит нитками (и получился, как будто конь улыбается, это само так получилось), так что смысла в трензеле не было.
Полина шила конкретно мустанга, а правильный мустанг должен быть стройный — поэтому Полина сделала ему длинные ноги и длинную шею. Ноги, к сожалению, в сшитом и вывернутом виде получились слишком тоненькие, так что их вовсе не получилось набить наполнителем. Но Полина сказала, что так и надо, это будет лошадь не стоячая, а висячая. Типа как брелок. Только без веревочки. Мустанг был блестящий, в черно-синюю ёлочку (ткань — это были обрезки от юбки, и, собственно, для юбки изначально и предназначались), и Полина сказала, что это тоже так и должно быть, вот такой он необычной масти. Хвост и гриву она сделала из черных ниток, предусмотрительно завязав каждую прядь у основания узелком, чтобы нитки не выдергивались при расчесывании. И тоже сшила попону на бельевой резинке. А сбрую отложила до следующего раза. Зато сделала денник из коробки от чая пакетиками, и нарезала туда бумажного сена. Своего коня она назвала Морис-мустанг. Вот есть Морис-мустангер — а это мустанг.
Через пару дней тетя Белка заметила, что если ребята так заинтересовались историей города, что даже в нее играют, то почему бы в выходные всей компаний не сходить в краеведческий музей. Идея нашла полный и восторженный отклик. Тем более что Сережа в музее вообще еще ни разу не был. А там есть настоящий мамонт! Так что в субботу после завтрака все двинулись туда — с разрешением каждый от своих родителей после музея зайти в кафешку напротив и там купить хачапури с сыром.
Классический маршрут по музею начинался с зала СССР, но ребята никак не могли удержаться и первым делом помчались в доисторический зал. Мамонт — он такой огромный! И с вот такущими бивнями! Такой огромный, что никто даже не смог дотянуться до бивня, даже тетя Белка. Правда, мамонт еще и стоял на подставке, не на полу, но все равно, если вычесть высоту подставки, все равно никто бы не дотянулся. А бивни — они на вид как будто деревянные, вот бывают такие, например, в деревенских заборах, столбы из старого рассохшегося дерева — вот так они выглядели. А если присмотреться как следует — тогда видно, что все-таки костяные.
— А представляете, вот такие прямо по улице ходили! — восхитилась Полина. — Ну то есть, понятно, тогда еще улиц не было, просто по земле ходили, там, где сейчас у нас улицы. Здоровенные, меховые — и целое стадо!
А еще там был кусочек ихтиозавра! Оказывается, в древности на месте Города было море…
— По-моему, неправильно говорить «плескалось море», как тут написано, — заметила Рамиля. — Вот если бы тут был берег, тогда да, у берега был бы прибой, и он бы плескался. Но тут как раз была самая глубина. А где глубина — там море или неподвижное, когда штиль, или по нему бежит рябь, или оно бушует, когда буря. Но никак не плещется. Обо что ему плескаться, если берега нет?
Как бы то ни было, плескалось оно или делало что-то другое, но море здесь было, и в нем водились морские динозавры. Останков в хорошем состоянии, чтобы их можно было включить в экспозицию, пока нашли мало, только от ихтиозавра, но они точно водились, всякие, неоспоримые свидетельства этого найдены, и все это было написано и нарисованы динозавры, какие водились. Сережа прямо завис у этой витрины, все остальные уже обошли весь зал и вернулись к нему, а он всё рассматривал окаменелые позвонки и кусочки черепа.
— Представляете, — обернулся он к друзьям, — он же живой был! Настоящий живой ихтиозавр! И он тут плавал и рыбу ел, может, вот прямо тут, где мы сейчас стоим!
Зато от ледникового периода осталось куча всего! Кроме мамонта — еще полно всяких разных зверей, от кого только черепа, а от кого — прямо целый скелет. И пещерный медведь, и шерстяной носорог, и древняя лошадь, и гигантский олень, прямо как лось короля Трандуила. И первобытные люди. Оказывается, в окрестностях Города раскопали аж несколько поселений: одна совсем древняя стоянка, неолит, в витрине были выставлены пара наконечников от каменных стрел и черепки от горшка. И более поздние, где уже были металлические вещи и даже украшения. Девочек особенно впечатлилипозеленевший бронзовыйн акосник: это какую же косу надо иметь, чтобы такую тяжесть на ней таскать!
В зале фауны посмотрели на чучела всяких животных и птиц, которые водятся в области. Волков, и зайцев, и белок, и ласку, и выхухоль, и лису, и медведя. Это было ужасно интересно, но только немножко грустно. Сережа опять первый нашел интересное.
Позвал:
— Лиу, иди сюда, гляди что!
Лиу подошла — и позвала остальных:
— Смотрите, оказывается, у нас тут тануки водятся!
Тут чучела не было, поэтому, наверное, раньше и никто не обратил на это внимания, только фотография енотовидной собаки и текст, что в таком-то и таком-то году их завозили в область и выпускали в таки-то районах.
— Тут написано, что пытались разводить, но они не прижились, — с огорчением возразила Рамиля.
— Ха! Конечно, написано — они же замаскировались! Они знаете какие хитрые. Стопудово развелись, еще как, и от людей замаскировались, чтобы люди думали, что не водятся. Если увидите в местных новостях про какие-нибудь странные происшествия — теперь мы знаем, кто их устраивает! — торжествующе заключила Лиу.
А в зале средневековой истории они посмотрели макет самой первой крепости, и старинное оружие, и детали от крепостных ворот, и кафтаны и всякую одежду. Одежда в основном была — современная реконструкция по археологическим материалам, а вот оружие — настоящее. А еще тут появилась совсем новая экспозиция, которой не видели еще даже завсегдатаи музея.
Несколько лет назад случилась научная сенсация: совсем недалеко от Города археологи обнаружили место средневекового сражения, которое знали по летописям и давно искали. Во время монгольского нашествия объединенное войско булгар, буртасов и мокши билось здесь с монголами; победили монголы. Раскопки там все еще шли; но первые результаты, о которых столько писали в СМИ, и даже не только в местных, наконец выставили на обозрение публике.
Были тут заржавевшие наконечники стрел, обрывки кольчуг, стремена и остатки упряжи, даже с кусочками очень и очень ветхой кожи, целый, но тоже насквозь проржавевший шлем и ржавые обломки меча — так что непонятно, сломался меч еще во время сражения, или потом уже развалился от старости. Мелкие монетки, которые были в кошеле у какого-то воина; глиняная свистулька-птичка — ей совсем ничего не сделалось, может, она предназначалась в подарок ребенку, а может, наоборот, ребенок сунул тяте в руку на счастье?
Ребята выходили из зала переполненные информацией и задумчивые. А в зале быта народов области оказалось весело! Девочки как-то в прошлые разы этим залом мало интересовались, они любили мамонта и зверей, и еще немножко оружие. А тут, оказывается, тоже было так интересно! Тут наряды все были подлинные: русские, татарские и мордовские, повседневные и праздничные, со всякими украшениями и вышивками, такие красивые! И всякие старинные вещи, прялки, коврики, горшки и кувшины, и чего только нет! И некоторые вещи разрешалось даже потрогать, посидеть на деревянной лавке и попробовать покрутить веретено. И даже попробовать поиграть на ложках. Попробовали все. Не получилось ни у кого.
И еще был зал СССР, куда они пошли в самом конце, хотя и полагалось в начале. И там был макет спутника, оказывается, в Городе делали какое-то оборудование для первых космических полетов. И, наверное, не только для первых. Так вот почему один из главных памятников в Городе — это Ракета! И швейная машинка, как у тети Белки! И еще много макетов кораблей и морская форма с бескозырками и тельняшками.
Ну уж а потом — все с огромным удовольствием засели в кафе, нагрузив подносы горячими хачапури, чаем, какао и лимонадом, кто чем, а также пончиками и кленовым пеканом. Тетя Белка едва успевала носить.
И вот тут-то, за какао с зефирками вприкуску с шоколадным рогаликом, Лиу и заявила, что она все поняла.
— Что поняла? — спросили все у нее.
— Про кочевников! Какое тут выпавшее звено, чего мы не видим, почему у нас не складывается полной картины.
— И чего?
Лиу потыкала трубочкою в стакан, подцепила наконец-то размокшую маршмелоу, съела ее и принялась излагать свою теорию.
— Вот, смотрите сначала пример. Вот у нас есть наш двор — и он наш, правильно? Мы в нем непосредственно не живем, живем в доме, но во двор ходим играть. А вот представьте, что какая-нибудь другая компания, из другого дома, построят там вигвам и будут сами играть, что нам и места совсем не останется. Мы же возмутимся?
— Еще бы! — воинственно подтвердила Полина.
— И будем правы.
— Конечно, правы!
— А они нам скажут: двор — это общественная территория. Если забором огорожено, на замок заперто и табличка висит «ЖК Такой-то» — тогда да, тогда территория частная. А если нет — тогда общественная, могут играть все желающие. И самое интересное, что они будут правы.
— Ну… пожалуй… — неуверенно согласился Сережа.
— И с кочевниками то же самое. Кочевники — они ведь везде кочуют, где место есть, там и кочуют. А оседлые земледельцы — они где деревню построили, там и живут. А им ведь надо искать пахотные земли. У них же было перекладное земледелие.
— Переложное, — поправила Рамиля.
Ей подумалось, что это какое-то неправильное название, как будто от слова «ложить», которое само по себе неправильное. Перекладное звучит логичнее. Но вслух она этого не сказала, чтоб не перебивать.
— Переложное. И вот, земледельцы смотрят: о, свободное место. Тут же его распахали, построили деревню, и живут. А тут прикочевали кочевники — и очень удивились: с какой стати вы тут живете, это наши земли! А земледельцы еще больше удивляются: где на них написано, что они ваши, раз мы тут деревню построили — значит, теперь наши. А кочевники им: как построили, так и снесете! А не снесете сами — так мы поможем. И так слово за слово — тут и до драки недалеко. А если только начинаешь драться — потом уже никак не остановишься.
— Это точно, — вздохнул Сережа.
Все подумали.
— Или еще может так быть, — дополнила Рамиля. — Кочевники слишком далеко закочевали, видят — свободное место. А земледельцы эти земли считают своими. Может, еще распахать не успели, или наоборот, уже переложились на новое место, а это оставили, но раз оно освоенное — то считают своим. И тут им земледельцы говорят: убирайте свои юрты, это мы тут живем. А кочевники им: а где написано, что вы тут живете, тут даже домов нету!
— Ну да, — согласилась Лиу. — И вот так оно все и происходило. Кочевники думают, что они правы, земледельцы — что они. И все друг с другом дерутся. И так распространяется на целые государства. А если где сообразят, как договориться по хорошему — там никто ни на кого и не нападает.
— А вы знаете, что на одном и том же пастбище можно пасти и коров, и лошадей? — внезапно сказал Сережа.
— Ну да, — не удивиласьЛиу. — Мы же когда купаться на озеро ездили, видели, как пасутся и коровы, и лошади.
— Нет, не одновременно! — нетерпеливо воскликнул Сережа. — Лошади траву откусывают ниже, чем коровы. Земледельцы попасли своих коров, они траву на пастбище объели, и им здесь больше делать нечего. А кочевники могут пригонять свой табун — для лошадей там еды еще полно осталась.
— Главное, коз туда не пускать, — сказала тетя Белка, подходя со вторым стаканом кленового бамбла. — После коз уже никому ничего не останется.
На берегу, в его «дикой» части, одно время ходила бабуся с козами. Козы были забавные, особенно маленькие козлята. Но выедали они всю траву подчистую, так, что после них не попастись было бы даже кузнечику.




