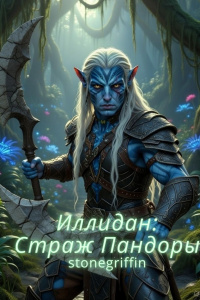





| Предыдущая глава |
↓ Содержание ↓
↑ Свернуть ↑
| Следующая глава |
После поединка прошла неделя, и деревня изменилась — или, точнее, изменилось её отношение к существу, которое носило лицо Тире'тана.
Иллидан замечал это в мелочах, которые складывались в общую картину. Охотник на сторожевой платформе, который раньше провожал его настороженным взглядом, теперь кивал в знак приветствия — коротко, сдержанно, но это был кивок равному, соплеменнику, а не подозрительному чужаку. Женщины у общинного очага, которые прежде замолкали при его приближении и отводили детей подальше, теперь продолжали свои разговоры, лишь понижая голос. Старейшины, встречая его на мостах между платформами, больше не ускоряли шаг — некоторые даже останавливались, чтобы обменяться парой слов о погоде или предстоящей охоте.
Страх никуда не делся — Иллидан видел его в глубине глаз, в том, как на'ви неосознанно отступали на полшага, когда он подходил слишком близко. Но теперь страх был другим. Раньше они боялись непонятного, непредсказуемого существа, которое могло сделать что угодно. Теперь они боялись воина, чьи способности были очевидны, но чьи намерения, по крайней мере, не казались враждебными.
Разница была тонкой, но существенной. С первым видом страха нельзя работать — он порождает только ненависть и желание уничтожить источник угрозы. Со вторым уже можно что-то выстроить, если действовать правильно.
Тсу'мо и его ближайшее окружение демонстративно его избегали. Когда Иллидан шёл по деревне, они меняли направление, сворачивали на боковые тропы, внезапно «вспоминали» о срочных делах в противоположном конце поселения. Несколько раз он ловил на себе взгляд Тсу'мо издалека — тяжёлый, ненавидящий взгляд, который обещал, что история не закончена. Иллидан отмечал это и двигался дальше. Враг, который прячется и копит злобу — это проблема для будущего. Сейчас у него были другие заботы.
Олоэйктин вызвал его на третий день после поединка.
Хижина вождя располагалась в самом сердце древнего дерева, вокруг которого выросла деревня — просторное помещение с плетёными стенами и потолком, увешанным трофеями многих поколений охотников. Черепа пал-лоранов, клыки штормовых хищников, перья редких птиц, засушенные цветы растений, которые цвели раз в десять лет. История клана, написанная костями и кожей.
Олоэйктин сидел на низком возвышении, скрестив ноги, и указал Иллидану на место напротив себя. Между ними стоял плоский камень с двумя чашами — какой-то напиток из перебродивших фруктов, судя по запаху.
— Пей, — сказал вождь. — Это не отрава и не испытание. Просто... традиция. Когда двое говорят о важном, они делят питьё.
Иллидан взял чашу и отпил. Напиток был кисловатым, с лёгким покалыванием на языке — слабый алкоголь, недостаточный, чтобы затуманить разум, но достаточный, чтобы расслабить мышцы.
— Расскажи мне о своих тренировках, — сказал Олоэйктин без предисловий. — О том, чему ты учишь Ка'нина. О том, что ты делаешь каждое утро в лесу.
Иллидан рассказал — не всё, но достаточно. Физическая подготовка. Боевые техники. Работа с оружием. Он не упомянул яды, не упомянул разговоры с Цахик о грядущей войне, не упомянул глубину своих планов. Но он описал свой метод тренировок достаточно подробно, чтобы вождь мог составить об этом представление.
Олоэйктин слушал молча, иногда кивая, иногда хмурясь. Когда Иллидан закончил, он долго смотрел в свою чашу, как будто искал там ответы.
— Ты готовишься к войне, — сказал он наконец. Это не было вопросом.
— Я готовлюсь к тому, что может прийти. Война — одна из возможностей, и не самая маловероятная.
— С кем?
— Пока не знаю. — Иллидан решил быть честным — настолько, насколько это было возможно. — Но я чувствую... — он поискал слово, которое не прозвучало бы слишком странно, — ...я чувствую, что мир меняется. Что приближается что-то большое. Называй это предчувствием, называй видением от Эйвы, называй паранойей старого воина. Но я предпочитаю быть готовым к худшему, чем надеяться на лучшее.
Олоэйктин снова замолчал. Его пальцы постукивали по краю чаши — нервный жест, который выдавал внутреннее напряжение.
— Торговцы с дальних троп рассказывают странные вещи, — сказал он наконец, понизив голос, хотя в хижине не было никого, кроме них двоих. — О небесных странниках с блестящей кожей. О громовых машинах, которые пожирают землю. О деревьях, которые падают там, где прошли эти существа, и не прорастают снова.
Он посмотрел Иллидану в глаза.
— Я не глупец. Я вижу, что происходит за пределами наших лесов. Пока это далеко — много дней пути на восток, за Синими Горами. Но расстояние — слабая защита. Если эти... небесные люди... если они решат прийти сюда...
— Тогда вам понадобятся воины, которые умеют больше, чем охотиться на зверей, — закончил за него Иллидан.
— Да. — Олоэйктин допил свой напиток и поставил чашу на камень. — Ты странный, Тире'тан. Ты смотришь на мир глазами, которых нет у наших юношей. Ты двигаешься так, как не двигается ни один охотник, которого я знал за свою жизнь. Ты несёшь в себе что-то... чужое. Цахик говорит, что ты — испытание от Эйвы. Что твоё появление здесь — часть какого-то замысла, который мы не понимаем.
Он встал, и Иллидан поднялся следом.
— Я не понимаю этого замысла, — продолжил вождь. — Может быть, никогда не пойму. Но я вижу результаты. Я видел, как ты сражался с Тсу'мо — не как берсерк, который рвётся убить врага, а как мастер, который контролирует каждое движение. Я видел, как ты выхаживал умирающего детёныша палулукана, хотя любой другой оставил бы его гнить. Я видел, как ты разговариваешь с Лала'ти — не как сын, но и не как чужак. Как кто-то, кто несёт ответственность за то, что забрал.
Он положил руку Иллидану на плечо — тяжёлую, твёрдую руку воина, который провёл жизнь в охоте и сражениях.
— Ты не враг. Это я вижу ясно. Но друг ли ты — это ещё предстоит доказать. Продолжай делать то, что делаешь. Тренируйся. Учи тех, кто хочет учиться. Готовься к тому, что может прийти. И если однажды эта подготовка понадобится... — он сжал плечо сильнее, — ...тогда мы поговорим снова.
Он отпустил Иллидана и отвернулся к стене с трофеями, давая понять, что разговор окончен.
Иллидан вышел из хижины вождя с новым пониманием своего положения в племени. Не принятый, но и не отвергнутый. Не свой, но и не чужой. Он был где-то посередине — в пространстве, которое ему предстояло заполнить действиями, а не словами.
Цахик пришла к нему на следующий день после разговора с вождём.
Она появилась у его хижины на рассвете, когда он только заканчивал утреннее кормление Грума. Детёныш, который теперь съедал за раз столько же, сколько взрослый на'ви съедал за день, возился с куском мяса в углу, урча от удовольствия и разбрызгивая кровь во все стороны.
— Пора, — сказала Цахик без приветствия, без объяснений. — Идём.
Иллидан посмотрел на Грума, потом на шаманку.
— Мне нужно...
— Он справится сам. Он уже достаточно большой, чтобы несколько часов обойтись без тебя. — Она развернулась и пошла прочь, не оглядываясь. — Идём. Нейралини ждёт.
Он последовал за ней, оставив Грума наедине с его завтраком.
Теперь, сидя на корне священного дерева в предрассветных сумерках седьмого дня обучения, он начинал понимать, что имела в виду Цахик, когда говорила о «настоящем обучении».
Первые шесть дней интенсивного обучения стали для него испытанием — не его тела, не его боевых навыков, а чего-то более фундаментального. Его способности бездействовать в течение целого дня, слушать.
Каждое утро она приводила его к Нейралини, усаживала на этот самый корень и говорила одно и то же: «Сиди. Дыши. Слушай. Не думай». Потом она садилась рядом и замолкала, иногда на час, иногда на три, иногда — как в четвёртый день — на целый день, от рассвета до заката.
И каждый раз Иллидан терпел поражение. Иногда ему удавались короткие вспышки успеха, повторяя его предыдущий опыт, но без прямого подключения это было нелегко и недолго.
Его разум отказывался молчать. Это было не просто неудобство, не просто отвлечение — это была фундаментальная неспособность. Тысячи лет он выживал благодаря тому, что его мозг никогда не прекращал работу: анализировал угрозы, просчитывал варианты, планировал на шаги вперёд. Во время заточения, впав в своеобразный анабиоз, он отключил свое тело почти полностью, но в активном состоянии отключить мышление для него было так же невозможно, как отключить сердцебиение или дыхание.
Он пробовал разные подходы. Сосредотачивался на одной точке — мысли всё равно просачивались через концентрацию, как вода через щели в плотине. Считал вдохи и выдохи — и обнаруживал себя анализирующим алгоритмы дыхания, эффективность газообмена, оптимальный ритм для медитации. Пытался визуализировать пустоту — и его воображение немедленно заполняло эту пустоту тактическими схемами, картами местности, планами тренировок.
На третий день он сорвался — встал посреди сессии и заявил, что это бессмысленная трата времени, что он мог бы тренировать Ка'нина, совершенствовать своё оружие, изучать местность. Цахик выслушала его тираду молча, потом сказала: «Закончил? Тогда садись обратно».
Он сел. Не потому, что она его убедила — просто у него не было альтернативы. Связь с Эйвой была единственным источником силы и могущества, доступным ему в этом мире. Без неё он оставался просто воином — хорошим воином, возможно даже лучшим в этом племени, но всё равно ограниченным возможностями одного тела.
А он помнил, какой силой обладал раньше. Помнил магию Скверны, текущую по его венам. Помнил, как призывал инфернальный огонь, как разрывал пространство порталами, как его тело трансформировалось в демоническую форму, способную противостоять величайшим угрозам Легиона.
Эйва не была Скверной. Но у нее была сила — возможно, даже сопоставимая с его прошлыми способностями. И он собирался получить к ней доступ, чего бы это ни стоило.
Седьмой день начался также, как и все предыдущие. Цахик пришла на рассвете, они дошли до Нейралини в молчании, она указала на привычное место. Но прежде, чем он успел сесть, она заговорила — и впервые за всё время обучения начала объяснять.
— Ты знаешь, почему у тебя не получается?
Иллидан остановился, повернулся к ней.
— Потому что мой разум не умеет молчать.
— Нет. — Она покачала головой. — Теперь я вижу. Это не потому что ты не понимаешь, чего я от тебя хочу. Ты думаешь, я прошу тебя опустошить разум. Сделать его пустым, как сосуд без воды. Это невозможно — ты прав. Разумное существо не может просто перестать думать.
Она указала на дерево.
— Смотри на Нейралини. Что ты видишь?
Иллидан посмотрел. Священное дерево мерцало в предрассветном полумраке, его светящиеся нити покачивались от едва ощутимого ветерка. Корни уходили в землю, ствол поднимался к небу, ветви раскидывались во все стороны, образуя купол.
— Дерево, — сказал он. — Большое, старое, связанное с планетарной сетью сознания.
— Это то, что ты знаешь. Я спросила, что ты видишь.
Он нахмурился, не понимая разницы. Цахик подошла ближе и встала рядом с ним, глядя на дерево.
— Когда ребёнок на'ви впервые приходит к Нейралини, он не знает ничего из того, что знаешь ты. Он не знает о планетарной сети, о памяти предков, о связи всего живого. Он видит просто дерево. Большое, красивое, светящееся. Он чувствует его — не разумом, а телом. Тепло от ствола. Запах коры. Звук, с которым ветер играет в ветвях.
Она повернулась к нему.
— Ты смотришь на мир через фильтр знания. Всё, что ты видишь, немедленно классифицируется, анализируется, помещается в какую-то категорию. Это полезно для воина — знание даёт преимущество. Но это же знание отделяет тебя от прямого опыта. Ты не видишь дерево. Ты видишь свою идею о дереве.
Иллидан молчал, обдумывая её слова. В них была логика, которую он не мог отрицать, хотя его инстинкты протестовали.
— И как мне перестать? — спросил он наконец. — Как мне забыть то, что я знаю?
— Не забыть. Отложить. — Цахик улыбнулась, и морщины на её лице сложились в узор, который делал её похожей на древнюю черепаху — мудрую, терпеливую, пережившую несколько поколений тех, кто считал себя умнее неё. — Представь, что твои знания — это инструменты. Полезные вещи, нужные для работы. Но когда ты ложишься спать, ты не держишь их в руках. Ты откладываешь их в сторону, чтобы они не мешали отдыху.
— Сон — это другое. Во сне я не контролирую...
— Вот именно, — перебила она. — Во сне твой контроль ослабевает. И именно поэтому сны могут показать тебе вещи, которые разум бодрствующий отказывается видеть. Грань между знанием и восприятием размывается. Ты просто... проживаешь свои мысли и чувства.
Она указала на корень.
— Сядь. Закрой глаза. Но на этот раз — не пытайся ничего делать. Не пытайся очистить разум, не пытайся остановить мысли, не пытайся достичь какого-то состояния. Просто сядь и позволь всему быть таким, какое оно есть. Если приходят мысли — пусть приходят. Если приходят чувства — пусть приходят. Не боролся с ними, не хватайся за них. Просто... наблюдай.
— В чём разница? Я пробовал это раньше.
— Разница в намерении. — Цахик тоже села, устраиваясь на соседнем корне. — Раньше ты пытался достичь тишины. Это было целью, задачей, которую нужно выполнить. Ты превращал медитацию в ещё одно поле боя, где нужно победить. Сегодня я прошу тебя отказаться от победы. Отказаться от цели. Отказаться от самой идеи, что ты должен чего-то достичь.
— Это противоречит всему, во что я верю.
— Я знаю. — Её голос был мягким, почти сочувствующим. — Поэтому это так трудно для тебя. Ты — воин. Вся твоя жизнь была борьбой за что-то: за силу, за победу, за выживание. Ты не умеешь просто быть, без цели, без направления. Для тебя это равносильно смерти.
Она помолчала, давая ему время осмыслить её слова.
— Но подумай вот о чём. Ты говорил мне о пустоте — о том месте, где оказалась твоя душа после смерти. О бесконечном ничто, в котором ты дрейфовал. Ты боролся там?
Иллидан вздрогнул. Он редко вспоминал о том периоде — воспоминания были слишком... странными, слишком чуждыми нормальному опыту.
— Сначала — да. Я пытался найти выход, вырваться, сделать хоть что-то. Но там не было ничего, против чего можно было бороться. Никаких стен, никаких врагов, никакого направления.
— И что случилось потом?
Он задумался, погружаясь в те смутные воспоминания.
— Я... перестал бороться. Я не сдался, но понял всю бессмысленность пустых усилий. Борьба требовала энергии, а энергия уходила в никуда. Я просто... существовал. Дрейфовал. Позволял ничему нести меня, куда оно хочет.
— И тогда ты нашёл путь сюда.
Иллидан посмотрел на неё, и что-то щёлкнуло в его понимании.
— Ты хочешь сказать, что это как-то связано?
— Я хочу сказать, что ты уже однажды научился отпускать контроль. Не по своей воле, не с радостью — но научился. И это открыло тебе дверь, которой не существовало, пока ты боролся. — Цахик встала и отряхнула колени. — Я оставлю тебя одного сегодня. Сиди столько, сколько нужно. Не думай о времени, не думай о результате. Просто будь здесь, в этом месте, в этом моменте. И если что-то произойдёт — хорошо. Если ничего не произойдёт — тоже хорошо. Я приду за тобой, когда солнце достигнет зенита.
Она ушла, и её шаги быстро растворились в утренних звуках леса.
Иллидан остался один.
Первый час прошёл в привычной борьбе. Мысли атаковали его разум волнами — тренировки Ка'нина, которые он пропускал; Грум, который, возможно, уже доел свой завтрак и бродит по хижине в поисках хозяина; планы по улучшению лука, которые он обдумывал накануне; воспоминания о поединке с Тсу'мо; более далёкие воспоминания — Тиренд, Малфурион, Война Древних, падение, тюрьма, смерть...
Он не боролся с ними. Это было единственное изменение, которое он внёс в свою практику после слов Цахик. Вместо того чтобы отталкивать мысли, он просто... замечал их. «Вот мысль о Ка'нине», — говорил он себе. — «Вот мысль о Груме. Вот воспоминание о Тиренд». Он не анализировал их, не следовал за ними, не пытался их изменить. Просто отмечал их присутствие, как отмечал бы пролетающих птиц.
Это было странно. Непривычно. Каждый инстинкт кричал, что он должен что-то делать с этими мыслями — решить проблему, спланировать действие, отреагировать. Но он сопротивлялся этим инстинктам — не борьбой, а простым отказом следовать за ними.
Второй час был легче. Или, может быть, он просто устал настолько, что сопротивление стало требовать слишком много энергии.
Мысли всё ещё приходили, но их поток замедлился. Они были похожи на облака, проплывающие по небу — появлялись на горизонте сознания, дрейфовали через его восприятие, исчезали за другим горизонтом. Он не держался за них, и они не держались за него.
Между мыслями начали появляться промежутки. Не пустота — скорее тишина. Моменты, когда ничего не происходило, и он просто существовал: дышал, чувствовал тепло солнца на коже, слышал шелест листьев над головой.
В эти моменты он начал замечать что-то странное.
Звуки леса, которые раньше были просто фоном, стали... объёмнее. Он слышал не отдельные звуки — птица, ветер, шорох — а что-то вроде общей мелодии, в которой все звуки были нотами. Они не просто сосуществовали рядом друг с другом; они перекликались, отвечали друг другу, создавали узор, который был больше, чем сумма его частей.
Запахи тоже изменились. Или, точнее, изменилось его восприятие запахов. Прелая листва, смола деревьев, цветочная пыльца, далёкий мускус какого-то животного — всё это сплеталось в единую картину, которая рассказывала историю леса. Не факты — историю. Здесь прошёл олень, вчера или позавчера. Здесь цветёт растение, которое привлекает определённых насекомых. Здесь почва более влажная, и корни деревьев уходят глубже.
Он не анализировал эту информацию — он просто воспринимал её, как воспринимают картину, не разбирая её на мазки и цвета.
Третий час... он потерял счёт времени на третьем часу.
Мысли почти прекратились. Не исчезли полностью — время от времени какая-то поднималась на поверхность, как пузырёк воздуха в глубоком пруду. Но они больше не требовали внимания, не кричали, не тянули в разные стороны. Они просто были — частью общего потока, не более важной, чем шелест листьев или тепло солнца.
И в этой тишине — на самом краю его восприятия, там, где заканчивался он сам и начиналось что-то другое — он почувствовал.
Ритм.
Это было похоже на сердцебиение — но не его собственное и не чьё-то конкретное. Пульсация, которая пронизывала всё вокруг: землю под ним, воздух, которым он дышал, корни дерева, на котором сидел, листья над головой. Она была везде и нигде одновременно, слишком большая, чтобы иметь источник, слишком всеобъемлющая, чтобы её можно было локализовать.
Он вспомнил, как чувствовал нечто подобное у главного Древа Душ, когда Эйва хлынула в него и попыталась поглотить. Но тогда это было давление, вторжение, угроза его идентичности. Сейчас... сейчас это было просто присутствие. Как будто огромный спящий зверь лежал рядом, и он чувствовал тепло его дыхания.
Его первым инстинктом было потянуться к этому присутствию. Схватить. Изучить. Использовать.
Он подавил этот инстинкт.
Вместо этого он просто... оставался созерцающим. Продолжал дышать. Продолжал не думать. Позволял ритму быть тем, чем он был, не пытаясь изменить его или контролировать.
И произошло нечто странное — ритм начал откликаться.
Не на его действия — он не делал ничего. Скорее... на его присутствие? На факт того, что он был здесь, слушал, не пытался взять или дать. Как будто где-то в глубине планетарного сознания что-то заметило, что он перестал сопротивляться, и решило посмотреть ближе.
Он почувствовал связь. Не увидел — почувствовал. Сеть, охватывающую весь лес вокруг него. Корни деревьев, переплетённые под землёй. Грибницы, связывающие разные участки почвы. Животные, чьи тропы пересекались в определённых точках. Птицы, чьи песни передавали информацию от одного края леса до другого. Всё это было соединено — не физически, а чем-то более тонким. Потоками энергии? Информации? Сознания?
Он не мог найти правильное слово. Да и не пытался. Он просто переживал это, позволял этому течь сквозь своё восприятие, как река течёт сквозь долину.
И в этом потоке он почувствовал искру, которую знал. Маленькую, яркую, знакомую.
Грум.
Его детёныш, его подопечный. Иллидан почувствовал его так ясно, как будто они были соединены цвату — голод (уже утолённый), скуку (хозяин ушёл, а с кем играть?), и под всем этим — базовое, инстинктивное чувство, которое можно было бы перевести как «мой-защитник-близко-всё-хорошо».
Расстояние между ними было нереальным — Грум находился в хижине, далеко от Нейралини. Но через эту сеть, через пульсацию Эйвы, они были связаны так же тесно, как если бы сидели рядом.
И тогда Иллидан понял, что имела в виду Цахик, когда говорила о «песне».
Это действительно была песня. Не мелодия из нот — мелодия из жизней. Каждое существо было голосом в этом хоре; каждое действие — фразой в бесконечной симфонии. И Эйва... Эйва была не дирижёром, не композитором. Она была самой музыкой. Тем, что возникало, когда все голоса звучали вместе.
Мысль — «это невероятно» — пронеслась через его сознание, и связь оборвалась.
Он всё ещё сидел на корне Нейралини. Солнце поднялось высоко, его лучи пробивались сквозь листву, рисуя пятна света на земле. Птицы пели свои обычные песни. Ветер шелестел в ветвях.
Всё было как прежде. И всё изменилось.
Цахик пришла, когда солнце было почти в зените, как и обещала. Она нашла Иллидана сидящим в той же позе, в которой оставила его утром. Но что-то в нём было другим — она увидела это сразу, хотя не смогла бы объяснить, что именно. Может быть, линия плеч, которая стала менее напряжённой. Может быть, выражение лица, в котором появилось что-то похожее на покой. Может быть, просто энергия, которую он излучал — она стала... тише.
— Ты почувствовал, — сказала она. Это не было вопросом.
Иллидан открыл глаза и посмотрел на неё. Его взгляд был другим — более глубоким, более присутствующим.
— Да. — Он помолчал, подбирая слова для того, что пережил. — Это было... я не могу описать это адекватно. Как будто всю жизнь я смотрел на мир через пленку, и вдруг кто-то убрал ее.
— Это неплохое описание, — признала Цахик, садясь на свой привычный корень. — Хотя я бы сказала иначе. Как будто ты всю жизнь слушал звуки через толщу воды.
— Музыка. Да. — Иллидан кивнул. — Я понял, что ты имела в виду. Это действительно... песня. Не метафора, а буквальное описание. Всё связано, и эта связь звучит.
— Не совсем «звучит». Но близко. — Цахик посмотрела на него оценивающе. — Ты прикоснулся к краю того, что мы называем «сетью всего». То, что чувствует каждый на'ви с рождения — но так слабо, так привычно, что большинство даже не замечает. Ты заметил, потому что для тебя это было новым. Непривычным.
— И потому что я перестал бороться.
— Да. — Она улыбнулась. — Эйва не любит тех, кто приходит с требованиями. Она открывается тем, кто приходит с тишиной. Ты научился тишине — или, по крайней мере, начал учиться. Это... — она поискала слово, — ...это первая нить.
— Первая нить?
— Так мы называем первый момент настоящего контакта. Первую связь между отдельным сознанием и общей песней. Отсюда начинается путь — к более глубоким связям, к прямому общению с Эйвой, к способностям, которые вы, чужаки, назвали бы магией.
Иллидан вспомнил, как почувствовал Грума через сеть — его эмоции, его состояние, даже его местоположение.
— Я чувствовал своего... — он запнулся на слове, — ...своего палулукана. Грума. Через эту связь. Он был далеко, но я знал, что он чувствует.
— Потому что ты уже связан с ним. — Цахик кивнула. — Цвату, которую вы соединяете — это не просто физический контакт. Это создание моста между двумя сознаниями. Мост остаётся, даже когда физическая связь разорвана. Он слабеет с расстоянием, но никогда не исчезает полностью. Через сеть Эйвы ты можешь чувствовать тех, с кем связан, даже на другом конце мира.
— А если соединить цвату со многими существами?
— Тогда твоя сеть связей расширяется. Каждое новое соединение — это новая нить, новый мост. Некоторые шаманы проводят всю жизнь, создавая эти связи, и к старости могут чувствовать сотни существ одновременно. — Она помолчала. — Но это не главное. Связи с отдельными существами — это только начало. Настоящая сила приходит, когда ты учишься слышать саму Эйву. Не её детей — её саму.
— Я почувствовал... что-то. Когда был в этом состоянии. Ритм, пульсацию. Что-то слишком большое, чтобы быть отдельным существом.
— Это была она, — подтвердила Цахик. — Или, точнее, краешек её присутствия. То, что ты способен воспринять на своём текущем уровне развития. Представь, что ты муравей, который впервые заметил, что ползёт по чему-то живому. Ты не можешь увидеть всего зверя — он слишком большой. Но ты чувствуешь, что под тобой не камень, а что-то дышащее, тёплое, живое.
— Не самое лестное сравнение.
— Но точное. — Она не обиделась на его тон. — Мы все муравьи по сравнению с Эйвой. Даже те, кто слышит её яснее всего. Но муравей, который знает, что он на живом звере, может научиться понимать этого зверя. Чувствовать его настроение. Двигаться вместе с ним, а не против него. И однажды, если повезёт, если будет достаточно терпения и мудрости — может быть, даже общаться с ним.
Иллидан обдумал её слова. Сравнение с муравьём раздражало его гордость — ту самую гордость, которая когда-то заставила его поверить, что он может противостоять богам в одиночку. Но он не мог отрицать логику. То, что он почувствовал, было... огромным. Непостижимым. Любая попытка контролировать это, подчинить себе — была бы такой же бессмысленной, как попытки муравья командовать львом.
— Что дальше? — спросил он. — Какой следующий шаг?
Цахик встала, отряхивая колени.
— Практика. То, что ты испытал сегодня — это не навык, который ты освоил раз и навсегда. Это... дверь, которую ты научился открывать. Каждый раз, когда ты будешь медитировать, пытайся найти эту дверь снова. Иногда она будет открываться легко. Иногда — нет. Твоя задача — научиться открывать её по своей воле, в любой момент, при любых обстоятельствах.
— И когда я научусь?
— Тогда мы перейдём к следующему этапу. К тому, чтобы не просто чувствовать связи, но использовать их. Просить Эйву о помощи — и получать ответ.
Она повернулась, чтобы уйти, но остановилась.
— Ещё одно. То, что ты испытал сегодня — это не награда. Не приз, который ты выиграл. Это просто... часть реальности, которую ты начал замечать. Она всегда была здесь. Ты просто не видел.
— Цахик, — он окликнул её, прежде чем она успела уйти. — Почему ты помогаешь мне? Ты знаешь, кто я. Знаешь, что я сделал. Почему не боишься меня, как остальные?
Она обернулась, и в её глазах мелькнуло что-то — не страх, не осуждение. Что-то более сложное.
— Потому что Эйва показала мне твоё сердце, — сказала она. — В ту ночь, когда ты связался с Древом Душ. Я видела... не всё, нет. Но достаточно. Ты сделал ужасные вещи в своей прошлой жизни, дух-воин. Вещи, которые я не могу одобрить и не буду оправдывать. Но я также видела, почему ты их сделал. Видела боль, которая вела тебя. Одиночество. Отчаяние. Веру в то, что цель оправдывает средства, потому что альтернатива — гибель всего, что ты любил.
Она помолчала.
— Ты не чудовище. Чудовища не выхаживают умирающих детёнышей. Чудовища не щадят врагов в поединке. Чудовища не мучаются виной за то, что заняли чужое тело. Ты — сломленный воин, который ищет путь к исцелению. И Эйва... — она улыбнулась, — ...Эйва славится тем, что исцеляет.
Она ушла, оставив его наедине с мыслями.
Иллидан сидел у Нейралини ещё долго, после того как Цахик скрылась из виду.
Он не медитировал — просто думал. О том, что узнал сегодня. О том, что ещё предстоит узнать. О словах Цахик — о том, что Эйва видела его сердце.
Он всегда верил, что его сердце — это крепость. Стены, которые он строил тысячелетиями, защищали его от боли, от предательства, от всего, что могло его ранить. За этими стенами он хранил свою ярость, свою гордость, свою несгибаемую волю.
Но если Эйва видела сквозь эти стены... если она видела то, что он прятал даже от себя...
Боль. Одиночество. Отчаяние.
Он не хотел признавать, что это правда. Не хотел признавать, что под всей яростью и гордостью скрывался просто... раненый мальчик, который отчаянно хотел, чтобы его любили, и который разрушил всё, что любил, в попытке заслужить эту любовь.
Но здесь, у корней священного дерева, после того, что он пережил, он не мог больше лгать себе. Цахик была права. Он не был чудовищем в своей прошлой жизни. Возможно, он был даже чем-то худшим — разумным существом, которое знало, что делает зло, и делало его всё равно, потому что не видело другого пути.
И теперь... теперь ему предлагали другой путь. Путь, который не требовал жертвовать всем ради силы. Путь, который вёл не к разрушению, а к связи.
Он не знал, сможет ли идти по этому пути. Тысячи лет он шёл другим — путём огня и стали, путём, который оставлял за собой только пепел. Но впервые за очень долгое время он хотел попробовать. Он встал, отряхнул руки и пошёл к деревне, где его ждал голодный палулукан, нетерпеливый ученик и мать, которая потеряла сына, но нашла в себе силы остаться рядом с тем, кто занял его место.
Солнце клонилось к западу, рисуя длинные тени между деревьями. В кронах пели птицы, и Иллидан впервые заметил, что их песни — не просто звук. Они были частью чего-то большего. Частью той симфонии, которую он начал слышать.
Первая нить была протянута. Путь начался.
И где-то в глубине планетарного сознания, в переплетении корней и связей, в бесконечной песне жизни, Эйва наблюдала за своим странным, сломанным, пытающимся исцелиться сыном.
Не доверие — ещё слишком рано для доверия. Но надежда на то, что доверие однажды станет возможным. Семя, которое она осторожно поливала каждый раз, когда он делал шаг в правильном направлении.
* * *
Больше глав и интересных историй на https://boosty.to/stonegriffin. Графика обновлений на этом ресурсе это никак не коснется — работа будет обновляться регулярно, и выложена полностью : )






|
Все хорошо сделано. Приятно читать.
|
|
|
stonegriffin13автор
|
|
|
Дрек42
Спасибо) |
|
|
А мне кстати интересно? Будет ли у Иллидана/Тире’тана пересечение с персонажи из фильмов?
|
|
|
stonegriffin13автор
|
|
|
Дрек42
да, конечно. По плану, он придет к землям Оматикайя к концу событий третьего фильма |
|
|
Такое чувство, что Тсе'ло – это замаскированный орк Дренора.
|
|
| Предыдущая глава |
↓ Содержание ↓
↑ Свернуть ↑
| Следующая глава |