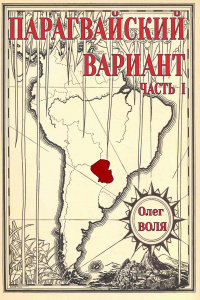





Гран-Чако делился на две зоны — словно два разных мира, соединённых одной картой.
Бахо-Чако, или Нижний Чако — это царство зелёного удушья. Оно питалось водами рек Пилькомайо, Бермехо, Ураменто и множества других, стекавших с Анд. Это был мир густых джунглей, где полог леса почти не пропускал солнечный свет, а воздух был тяжел от запахов сырости, цветов и разложения. Под этими деревьями обитали племена — дикие, воинственные, чуждые цивилизации. Путешествовать здесь — значит рисковать жизнью. Ни один караван не мог передвигаться по рекам и тропам без опаски: стрелы могли вылететь из любой тени.
Но чем дальше на север от Пилькомайо, тем реже становился лес. Деревья мельчали, а потом и вовсе исчезали. Земля выгорела и покрылась трещинами, как старая кожа. Реки превратились в пересохшие борозды, по которым когда-то текла вода. Этот край называли Альто-Чако — Верхнее Чако. Здесь не было ни тени, ни прохлады, только бескрайние просторы степи, переходящие в полупустыню. В сезон дождей эти земли на время оживали, покрывались жалкой травой и даже мелкими лужами. Но летом они были мертвы.
Пройти через этот ад в разгар жары — самоубийство. Поэтому маленький караван двигался по самой границе двух миров. Он осторожно ступал между жизнью и смертью, между людьми и пустотой, стараясь не приближаться к населённым пунктам и не попадать в ловушку жары.
Движение начиналось, когда солнце уже клонилось к закату. Тогда воздух становился чуть мягче, и можно было идти долго — до тех пор, пока глаза ещё различали дорогу. Если же ночь была безоблачной то караван шёл всю ночь. Луна освещала дорогу, а звёзды охраняли их с высоты.
Но утром, когда солнце начинало «припекать», искали укромное место, останавливались и растягивали большой тент на бамбуковых шестах, под которым могли укрытся не только люди но и лошади. Это было жизненно необходимо ибо даже в тени жара была невыносима.
Воду находили по чутью и опыту — гаучо умели читать землю так же, как другие читают книги. Но уверенности никогда не было. Поэтому на каждой лошади висели бурдюки — скудный запас, рассчитанный на сутки пути. Этого должно было хватить, чтобы добраться до следующего источника. Хотя, если он окажется сухим… тогда придётся молиться и идти дальше, полагаясь на инстинкты и удачу.
Где-то на середине пути Франциско неожиданно пришёл в себя. Теперь он мог ехать самостоятельно и не было нужды привязывать мальчика к седлу позади Санчо. Впрочем общаться Франциско не начал и ехал молча, равнодушно глядя на красоты прерий.
После месяца изнурительного перехода они наконец достигли обжитой земли — города Санта-Крус-де-ла-Сьерра, столицы департамента. Побеленные глинобитные дома под черепичными крышами, пыльные улицы, буйная зелень садов за глиняными заборами. На главной площади скромная церковь с колокольней соседствовала с одноэтажными административными зданиями. После бескрайнего Чако даже этот бедный по сравнению с Асунсьоном городок казался путникам земным раем.
Первоначальный план — остановиться на постой в монастыре Сан-Франциско — сорвался из-за Лопеса-младшего. Он при виде монастырских построек впал в тихую панику и всё время порывался убежать. Гаучо были в недоумении, а Санчо и Поликарпо поняли всё правильно и уговорили всех остановиться в «Тамбос» — местном постоялом дворе для торговцев. Благо в это время ярмарок не было, и заведение было почти пусто. Им выделили одну комнату с земляным полом и без каких-либо удобств. В качестве еды был только один вариант: кукурузная похлёбка «локро» и жареное мясо.
Несколько дней путники отсыпались, отъедались и отмывались. Потиньо и Санчо расспрашивали местных о предстоящей дороге и пришли к общему мнению.
— Нам надо обменять лошадей на мулов, — заявил Потиньо вечером второго дня.
Гаучо изумлённо воззрились на него, не зная, как прокомментировать подобную глупость. Но Санчо поддержал:
— Ну, не обязательно их продавать или обменивать. Можно оставить их при монастыре. А мулов купить. Деньги у нас есть.
— Да зачем?! — воскликнули гаучо практически хором. Им мысль обменять любимых криолло на крестьянских мулов казалась кощунственной.
— Амиго, — успокаивающе поднял ладони Поликарпо. — Мы идём в горы, где равнинные лошади просто умрут. Они лягут на полпути, и мы их уже не поднимем. И дальше пойдём пешком. Только мулы, выращенные в горах, легко выносят такую дорогу.
— Да не может быть! — послышались восклицания. — Наши чакские криолло — самые выносливые лошади в мире!
— Это правда, — хмуро подтвердил Санчо. — Пятнадцать лет назад генерал Андрес де Санта-Крус потерял почти всю конницу при переходе отсюда в Ла-Пас. Там тоже были отличные кони.
Гаучо выглядели растерянными и подавленными.
— Тут как раз из Уюни в Санта-Крус караван соли пришёл. Тамошние погонщики — аррьерос — скоро пойдут обратно и почти без груза. Можно недорого у них выкупить несколько мулов.
— Так может, просто с ними пойти? — нахмурился Санчо.
— Нам не по пути, — развёл руками Поликарпо. — Они пойдут через Сукре и Потоси, а нам надо в Кочабамбу.
— А почему туда? — удивился Санчо. Они ещё маршрут не обсуждали, собирая информацию, и такая уверенность удивляла.
— Мне подсказали, как найти тамошнего пако. Возможно, он нам сразу и поможет, и дальше идти не придётся.
Гаучо и Санчо повеселели от такой новости и согласились с планом.
Мулов купили без труда и не слишком дорого — всего по 40 песо. Но вот беда: они были приучены идти в караване, а потому добиться от них резвости было невозможно. Они шли очень ровно, плавно и очень неспешно — не быстрее обычного пешехода.
Второй этап пути оказался куда утомительнее и гораздо страшнее. Почти триста миль плохой дороги, петляющей меж скал, где камни под ногами мулов то и дело срывались в пропасть. Она то поднималась в гору, то спускалась. Хотя в гору — чаще. С каждым днём воздух становился разрежённее, холоднее, а небо — неестественно синим. Ведь до Кочабамбы, конечной точки их маршрута, нужно было преодолеть перевал, вознёсшийся выше облаков. Когда путники оглядывались назад, под ними клубилась молочно-белая пелена — казалось, будто они шагнули за край мира.
Дорога, проложенная ещё инками, казалось, с их времён и не ремонтировалась ни разу. Подвесные мостики вызывали в душах гаучо ужас — они скрипели и раскачивались над бездной, где внизу, в сизой дымке, серебрились ниточки рек. А узкие карнизы вдоль скал ещё долго потом преследовали их в снах.
Воздух становился всё разреженнее. С каждым шагом вверх он словно исчезал, оставляя в груди лишь жгучую пустоту. «Сороче», как называли эту муку горцы, не щадила никого — ни молодых, ни старых. Голова кружилась, ноги подкашивались, дыхание становилось прерывистым и беспокойным. Местные рассказывали, что это духи гор хватают за горло и не пускают выше, другие же говорили о ядовитых испарениях из глубин земли. На самом же деле просто не хватало кислорода.
Усталость стала постоянным спутником и не отпускала даже после ночёвки. Сны были тревожные и не приносили отдыха. Две недели такого пути вымотали больше, чем месяц в Чако. А ещё путников раздражала бесконечная болтовня Патиньо на непонятном языке.
Всю дорогу он подыскивал попутчиков из местных кечуа и без умолку болтал с ними. Всё это он делал, чтобы восстановить навыки языка, на котором не говорил с детства. Заодно он узнавал больше о местной жизни и настроениях коренных народов. Ведь Патиньо солгал Карлосу о своих связях. Он никогда не бывал в Андах и никого там не знал. Его отец всю жизнь прожил в Парагвае, так что даже старых знакомств не было. Но ищущий да обрящет, и Патиньо изо всех сил старался вникнуть в местные дела.
В Кочабамбе пришлось вскрыть запас вещей, заготовленных для подарков. Патиньо не без труда нашёл местного пако и договорился с ним о лечении мальчика. Но тот, едва взглянув на пациента, отказался даже пытаться.
— Я лечу тела, — пояснил он на ломаном испанском. — Но твой мальчик... его тело пусто. Ищи того, кто разговаривает с духами. — Он сделал жест в ту сторону, где лежало озеро Титикака. — Ищите там на островах Амантани или Такиле пако Атау и просите его. Он сильный. Если он захочет вам помочь, то он поможет.
* * *
8 марта в Асунсьоне наконец собрался новый конгресс — первый за 24 года. Его созывали в соответствии с прежним регламентом. Число депутатов составило 250 человек, из которых горожан было человек пятьдесят.
Члены хунты не стали предлагать ничего радикального. Они просто стряхнули пыль с проекта государственного устройства, принятого ещё в 1813 году, а депутаты зафиксировали статус-кво. Верховная власть и командование вооружёнными силами официально вручались двум консулам — Роке Алонсо и Карлосу Лопесу. По примеру Древнего Рима консулы были равноправны между собой. Согласно регламенту, они должны были управлять страной по очереди, по четыре месяца каждый.
Роке Алонсо просто поблагодарил народ Парагвая за доверие, а вот Лопес после слов благодарности произнёс давно продуманную речь:
— Уважаемые делегаты! Граждане Парагвая! Сегодня мы стоим на пороге новой эпохи. Всего лишь несколько месяцев прошло с тех пор, как наш Верховный руководитель, доктор Хосе Гаспар Родригес де Франсия, закрыл свои глаза навсегда. И хотя его тело уже не среди нас, его дух продолжает жить в каждом камне этой земли, в каждом сердце парагвайца.
Он был одиноким стражем нашего суверенитета. Он стоял между нашим народом и внешним миром, готовым поглотить нас. Он закрыл границы, чтобы защитить наше будущее. Он сделал нас нацией, которая знает своё имя, свою силу и своё предназначение.
Наша задача — не повторять ошибки прошлого, но сохранить лучшее из него. Наш долг — развивать страну, которую он создал, не теряя её духа. Парагвай должен стать не только свободным, но и сильным. Не только независимым, но и процветающим.
Парагвай должен научиться строить свои заводы, добывать свои ресурсы, обучать своих людей. Мы не можем зависеть от милости Европы или соседей. Мы должны сами ковать своё будущее!
Образование станет фундаментом нашей новой мощи. Наука и труд — инструментами прогресса. И каждый гражданин этой страны — участником великого дела.
Я, Карлос Антонио Лопес, даю вам слово: под моим руководством Парагвай не будет стоять на месте. Мы будем двигаться вперёд — с уважением к прошлому, с ответственностью за настоящее и с верой в будущее.
Земля наша богата. Народ наш трудолюбив. Воля наша едина.
Время действовать!
За Парагвай!
За будущее!
За величие!
Аплодисменты делегатов стали благословением новому курсу на интенсификацию. Но для начала предстояло разобраться с наследием.
* * *
Пятнадцать дней по безжалостному Альтиплано — и перед ними, наконец, засинело озеро. В прибрежной деревушке касик долго разглядывал Франсиско, потом кивнул: «Ладно. Лодку дадим». Но только трое — мальчик, Санчо и Поликарпо — отправились на Амантани. Остальные остались ждать и присматривать за лошадьми.
Лодка из тростника тотора шуршала под ногами как живая. Санчо вполголоса ругался на это плавсредство, называя его «убогим пучком соломы». Тем не менее на остров Амантани они добрались благополучно.
Однако встречи с шаманом пришлось ждать почти неделю. За это время Поликарпо стал местной знаменитостью: его с радостью приглашали в разные деревушки, разбросанные по острову, где он развлекал местных рассказами о большом мире. Он даже посетил плавучие острова племени уру, но, к своему огорчению, там все говорили на аймару, и нормального диалога не получилось.
Пако Атау был ещё не стар и больше походил на воина, чем на служителя культа. Но в его силу на озере и окрестностях верили все. Шаман внимательно выслушал историю мальчика и назначил обряд на утро следующего дня.
Когда солнце окрасило вершины гор в золотистый свет, раздетого Франсиско уложили на маленький тростниковый плот. Его тело покрывали таинственные знаки, а кисти рук, ступни и сгибы суставов были перевязаны пёстрыми ленточками. Сам шаман, наигрывая сложную мелодию на дудочке из кости кондора, вошёл в воду по грудь и, не прерывая игры, приник лбом к голове мальчика. Так он простоял в воде, пока солнце не поднялось над горными зубцами. Когда первые лучи осветлили воду, музыка смолкла, и пако выпрямился. Осторожно подтолкнув плот к берегу, он вышел из воды, его лицо было хмурым.
— Ваши утири думают, что душу можно загнать в угол, как перепуганную мышь? — произнёс он, обращаясь к спутникам. — Тот, кто оставил эти раны, выжег анчо мальчика, как испанцы жгут наши ваки! Он пропах дымом чужого бога, и Хозяйка Озера отворачивается от него.
Атау указал на Франсиско.
— Что же делать, пако? — почтительно склонив голову, спросил Поликарпо.
— Придётся звать Того, Кто не боится крестов, — ответил шаман, накидывая пончо. — Сегодня ночью.
Ночной ритуал отличался от дневного. В кругу слабо горящих костров лежал мальчик, а шаман, не переставая насвистывать в костяную дудку, двигался вокруг него странным танцем, подбрасывая в пламя зерна кукурузы. Из темноты доносился глухой ритм барабана ванкар, а звяканье колокольчиков из копыт ламы на ногах шамана добавлял хаотичности действу.
Кукурузные зёрна трещали и взрывались в огне. Шаман, прислушиваясь к этим звукам, задавал вопросы на непонятном языке. Внезапно он остановил танец и швырнул в костёр один из принесённых в дар кусков ткани.
— Учитель отказался говорить со мной, но не отказал мальчику. Отвезите его к Кураку Акуллек, чьё сердце из чистого горного хрусталя. Только через его чистоту рука Виракочи сможет коснуться этого тела и вновь зажечь анчо.
Шаман резко ткнул пальцем в грудь Санчо и Поликарпо:
— И не смейте везти туда свои кресты, если не хотите лететь с обрыва. Там, где живёт Кураку Акуллек, до сих пор правит дух Великого Инки.
По пути к деревне, где остались лошади и спутники, Поликарпо и Санчо долго спорили.
— Надо бросить всю эту дьявольщину и возвращаться, — ворчал Санчо, топорща усы. — Зря только подарки везли. Толку никакого.
— Нам дали шанс добраться до самого сильного шамана во всех Андах, — возразил Поликарпо. — Это как если бы епископ сказал, что сам не может помочь, и послал тебя к самому Папе Римскому.
И Патиньо покачал амулетом, привязанным к запястью.
— Бесполезно всё это, — упрямился Санчо. — Ещё месяц пути почти. И ради чего? Чтобы очередной туземный знахарь развёл руками? Дескать, не смог?
— Не попробуем — не узнаем. Или ты думаешь, у цивилизованных врачей всегда есть ответы? Дома нам уже не помогут, а здесь ещё есть шанс.
— Какой? Один из тысячи?
— Да хоть один. Но если мы откажемся, то не узнаем даже этого. И что мы потом расскажем сеньору Лопесу, что нам просто… надоело?
Санчо злобно засопел.
— Доедем до местного Ватикана, и там всё станет ясно. Если уж Кураку Акуллек не поможет, тогда совесть наша будет чиста, и мы вернёмся.
— Но я не сниму креста, — поджал губы старик.
— Будем ехать, пока будет можно, а потом я повезу Франциско один.
— Не верю я тебе.
— Зря. Твой хозяин спас мне жизнь. Долги надо отдавать.
На этом споры прекратились. Вскоре отряд двинулся на север — к Саксайуаману.
* * *
Карлос Лопес избрал своей резиденцией «дом губернатора», в котором жил, работал и скончался Франсия. Сделал он это не только потому, что дом был удобен, но и чтобы подчеркнуть преемственность своей власти с диктатором. Кроме того, здесь остались записи самого Супремо и находилась самая большая коллекция книг в Асунсьоне — даже больше, чем в публичной библиотеке, открывшейся четыре года назад.
Первый месяц ушёл на то, чтобы разобраться в текущей ситуации. Очень не хватало Поликарпо Патиньо, ведь никакого аппарата государственной власти у Франсии не существовало. Все важнейшие вопросы он решал единолично с 1824 года, когда была проведена реформа, упразднившая сенат (кабильдо) и правительство, состоявшее из него самого и трёх министров. На практике они были лишь исполнителями его воли. Министр финансов без его разрешения не мог даже выдавать деньги на казённые нужды.
Страна была разделена на 20 округов (делегаций), возглавляемых делегатами или комендантами — начальниками гарнизонов. Округа делились на партидос, а те — на селения, где власть принадлежала старостам. Местные народные собрания составляли списки кандидатов, из которых Франсия лично назначал всех чиновников.
Судеб в Парагвае также почти не было. Дела о наиболее серьёзных преступлениях рассматривал сам Франсия. В Асунсьоне функции судей первой инстанции по гражданским и уголовным делам выполняли два алькальда; в округах судебные полномочия имели делегаты, а для мелких споров существовали мировые и третейские суды. Соответственно, практически не было и судебного аппарата. Выборы не проводились, а значит, не требовался и аппарат для их организации. Поэтому расходы на содержание чиновников были минимальны. Таким образом, Франсии удалось воплотить идеал «дешёвого государства».
Экономия государственных расходов не касалась системы образования. Франсия ввёл обязательное и бесплатное начальное обучение для мальчиков до четырнадцати лет. В каждом селении имелась школа, и один учитель приходился примерно на тридцать-сорок учеников. Существовали как частные школы, так и государственные интернаты для воспитания детей-сирот и подкидышей. Школьникам выдавалась униформа за счёт государства.
В результате почти все парагвайцы-мужчины были грамотными. Однако грамотность распространялась именно среди мужчин; женщины оставались неграмотными, включая зажиточные семьи. С этим яростно боролась мать Карлоса Лопеса — Петрона Реголада Родригес де Франсия, старшая сестра диктатора. Она открыла в своём доме школу для девочек и стала первой женщиной-педагогом в истории Парагвая.
Её привилегированный статус позволял ей многое. Например, она первой отбирала книги из конфискованного имущества осуждённых семей для своей школы. Когда в 1836 году государству потребовалось сшить новую форму для армии, Петрона добилась издания декрета, официально разрешающего нанимать женщин на эту работу с оплатой, равной зарплате государственных чиновников.
«Матушка уже очень стара, — с грустью подумал Карлос. — А то лучшего кандидата в министры образования не стоило бы и искать».
Он вздохнул и продолжил анализировать ситуацию.
Газет в Парагвае не издавалось. Поскольку политика Франсии не менялась, он зафиксировал её в «Катехизисе патриотической реформы» и довёл до сведения каждого парагвайца через школьных учителей. Идеологическая работа на этом заканчивалась. Если возникала необходимость сообщить что-либо дополнительно, информация передавалась по административной пирамиде вплоть до каждого поселения.
Церковь, как потенциальный конкурент на идеологическом поле, была разгромлена и подчинена государству. В 1819 году был смещён последний епископ Асунсьона — Гарсия де Панес, и фактически во главе церкви встал сам Франсия. В 1820 году был издан декрет, ограничивший деятельность религиозных братств и потребовавший от них полной поддержки независимости Парагвая от Испании и других иностранных держав. Все священники обязаны были давать присягу на верность Республике и воздерживаться от любых действий, направленных против её суверенитета.
В 1824 году были закрыты все монастыри Асунсьона. Из четырёх мужских монастырей один был разрушен, второй превращён в приходскую церковь, третий использовался как артиллерийский парк, а четвёртый — как казармы. Три женских монастыря также были переоборудованы в казармы. Часовни стали караульными будками, а церковные облачения и хоругви пошли на пошив красных мундиров для улан.
Но народ ничуть не возмущался. В стране исчезли нищие и разбойники. Первые получили возможность заработать себе на хлеб, а вторых истребили совершенно безжалостно. Франсия вменил местным властям обязанность компенсировать украденное за свой счёт. Коменданты, делегаты и старосты сочли свои деньги более ценными и в кратчайшие сроки очистили свои территории от всех нетрудовых элементов, которые затем стали государственными рабами на «эстансиях Родины».
В налоговой системе Франсия сделал многое, чтобы снизить нагрузку на рядового труженика. Церковную десятину, взимаемую государством, заменили 5%-ным подоходным налогом. Были отменены налоги на производство йербы-мате и военный налог. Размер алькабалы (налога с продаж) сократили с 4% до 1%, а прочие мелкие сборы уменьшили хотя бы немного.
И тем не менее доходы государства значительно превышали расходы. Это позволяло закупать за рубежом оружие для армии — самую крупную и болезненную статью бюджета.
Регулярные войска Парагвая насчитывали около пяти тысяч человек всех родов войск. Они делились на батальоны и роты. Ротами командовали лейтенанты, а высшим военным званием в Парагвае было звание капитана. Офицеры готовились в специальной военной школе, куда принимали кадетов в возрасте 12-14 лет. Солдат набирали на добровольной основе, и срок службы не фиксировался. Карлос знал одного сержанта, который служил уже пятнадцать лет. Жалование было небольшим: офицеры получали от шестнадцати до тридцати песо в месяц, рядовые — шесть. При этом почти половина жалованья удерживалась за питание и обмундирование.
Небольшая по численности армия обеспечивала лишь караульную службу в городах и охрану пограничных гарнизонов. Основу вооружённых сил составляло ополчение — все взрослые и боеспособные мужчины. Его численность составляла от двадцати до тридцати тысяч человек. В каждом партидо формировались роты. Ополченцы собирались несколько раз в год на учения и несли пограничную службу. Каждый должен был явиться со своим оружием; тем, у кого его не было, выдавали пики с государственных складов. Ружей катастрофически не хватало.
«Надо решить эту проблему, — подвёл итог Лопес. — И тогда вместо дыры в бюджете это станет ещё одним источником прибыли».
* * *
Границу между Боливией и Перу они пересекли почти без приключений. Обозначена она не была никак — просто деревеньки, что раньше платили дань Сукре, теперь отдавали свои скромные урожаи и пряжу Лиме. А некоторым не повезло, и их донимали поборами обе стороны.
В одной из таких пограничных деревенек караван нарвался на подобие патруля. Пятеро оборванцев в остатках формы перегородили дорогу, а их «офицер» верхом на муле потребовал у опешивших путешественников документы.
— У нас всё в порядке, сеньор, — широко улыбаясь, выехал вперёд Поликарпо. — Вот, пожалуйста. Официальное разрешение на пересечение границы для нашей компании.
Предводитель пограничников растерянно принял официального вида бумагу, уставился на неё, шевеля губами, и покосился на подчинённых. Через какое-то время он вернул документ и махнул рукой:
— Всё в порядке. Проезжайте.
Когда «застава» осталась позади, Санчо, наконец, дал волю удивлению:
— Откуда у тебя такое разрешение? Где ты его взял?
Поликарпо расхохотался, глядя на изумлённые лица спутников:
— Вы что, всерьёз думали, что эти олухи читать умеют? Это же дезертиры. Они тут поборами промышляют. Мне о них мои спутники-кечуа рассказывали. А бумагу эту мне на всякий случай сеньор Лопес выписывал. Она действительно разрешает пересекать границу… Парагвая!
И снова захохотал. Теперь его смех подхватила вся компания.
До земель народа керо, известного как «ткачи света», они добирались двадцать дней. В общей сложности прошло уже три месяца с момента их отъезда из дома. Усталость накопилась, но все бодрились, поддерживая себя надеждой: это последнее путешествие, а потом — только домой.
Последний отрезок пути оказался непростым. Поликарпо приходилось без конца показывать местным шаманам и касикам свой амулет, демонстрировать больного мальчика и говорить, говорить, говорить. В конце концов они добрались до последней деревни перед целью. Там амулет пришлось отдать — быстроногий гонец умчался с ним куда-то вверх по склону, а им велели ждать разрешения.
К удивлению путников, разрешение пришло уже на следующее утро вместе с тем же гонцом. Староста деревни выделил им проводника и указал тропу.
Один гаучо с мулами остался внизу. Остальные начали восхождение, неся подарки на себе. Каждый шаг давался с трудом. Лёгкие рвались от недостатка воздуха, в ушах стучало, будто кто-то бился в далёкой горнице, зовя на помощь. Франсиско снова впал в странное забытьё и больше не мог идти сам — его пришлось нести. Поликарпо завидовал проводнику: тот, словно горный козёл, легко прыгал по камням, не задыхаясь и не спотыкаясь. А вот им приходилось останавливаться очень часто.
Проводнику это наконец надоело. Он присел на камень рядом с «равнинными», достал из поясного мешочка свёрток с листьями и маленькую тыкву-попоро с сероватым порошком.
— Вам надо жевать листья, — сказал он на ломаном испанском, протягивая каждому горсть сушёных листьев. — Иначе не дойти до ночь.
— Что это? — нахмурился Санчо.
— Жуйте. Вот так. — Проводник снисходительно усмехнулся, видя, как равнинные люди боятся того, что для него было привычнее воды.
Он сунул листья в рот, не спеша разжёвывая их в плотную массу. Потом приоткрыл губы, достал из попоро щепотку золы и ловко вмял её в сердцевину зелёного шарика.
— Видеть? Зола — внутрь! Не на язык. Иначе рот жечь. Язык жечь. Больно.
Поликарпо сомнений не испытывал. О коке он слышал и в её чудодейственные свойства верил. Он старательно разжевал листья, потом добавил льипту и, морщась от горечи, продолжил жевать (1). Проводник одобрительно хмыкнул:
— Не глотать. Держи за щекой. Скоро станет лучше.
Санчо и гаучо наблюдали, как у Поликарпо постепенно расслабляются плечи, а взгляд становится яснее.
— Ну как, работает?
Поликарпо кивнул. Во рту было горьковато, но тепло, а в груди — будто распахнули окно в душной комнате. Сил резко прибавилось, а боль в теле куда-то испарилась.
— Воистину волшебное средство! — в восторге заявил Поликарпо. — Жуйте, не сомневайтесь.
С «допингом» до убежища верховного шамана добрались засветло. Но нательные кресты действительно стали камнем преткновения на границе тайного поселения. Местный касик решительно запретил им пересекать линию, обозначенную двумя каменными ваками. Так что гаучо и упрямо не желавший снимать крестик Санчо остались разбивать лагерь, а Поликарпо понёс мальчика на встречу с верховным шаманом.
Кураку Акуллек был очень стар. Глубокие морщины изрезали его лицо, словно горные тропы Анд. Подарки ему даже не показали — их забрал недовольный вторжением чужаков касик. Но амулет на руке Патиньо старец осмотрел особенно внимательно, тихо шепча что-то себе под нос и временами усмехаясь.
— Молодец Атау. Всё правильно сделал, — наконец произнёс шаман. — Положи осколок сюда. — Он указал на мальчика и на шерстяной коврик у своих ног.
Поликарпо с облегчением выполнил указание. Франсиско лежал неподвижно, как покойник, лишь едва заметное движение груди выдавало, что он жив. Сам же Поликарпо дышал тяжело, его рёбра ходили ходуном, будто кузнечные меха.
Шаман положил иссохшую ладонь на лоб мальчика и покачал головой:
— Чужая кровь. Плохо.
Затем он пристально посмотрел на Патиньо:
— Насколько ты кечуа?
— Мой отец был полукровкой — кечуа и гуарани. Я рождён креолкой. Так что во мне четверть крови кечуа.
— Ну хоть на четверть, — хмыкнул Кураку Акуллек. — Будешь ключом. Без ключа я не открою дверь. Тем более такую сломанную.
Он сделал знак помощникам:
— Унесите его и приготовьте чакану. А ты иди к своим. Завтра продолжим.
Когда Поликарпо попытался что-то спросить, касик решительно взял его за локоть и направил к выходу. Сопротивляться не имело смысла.
На следующий день за ним пришли уже после полудня. Сначала накормили странной кашей, от которой во рту пересохло, будто он пробежал десять лиг под палящим солнцем. Затем подали глиняный жбан с густым настоем коки и велели выпить.
Поликарпо послушно осушил сосуд почти до дна. Вскоре мысли начали путаться, руки двигались сами по себе, а тело стало чужим и непослушным. Его усадили перед ритуальным ковром с замысловатым узором и велели ждать.
Он уставился на переплетения линий, водя по ним взглядом, будто пытаясь разгадать лабиринт. Внезапно его созерцание прервали — прямо на узор положили мальчика. Поликарпо успел заметить свежую татуировку между лопаток — чакану, священный андский крест, окружённый воспалённой красной кожей.
В этот момент вошёл шаман. Его многослойные одеяния шелестели при каждом движении. На поясе болтались кости и священные семена, на голове красовалась белая пуховая повязка — символ связи с небесами. Что-то произнеся на кечуа, он жестом велел Патиньо взять мальчика за руку.
Раздались пронзительные звуки свирелей, напоминающие крик ягуара. Глухой рокот барабана отозвался в груди, словно пульс самой горы. И тогда шаман запел — его голос гремел, как гром, рождённый в человеческом горле.
Поликарпо смотрел, не отрываясь, и постепенно всё вокруг перестало существовать — только старец, контуры гор и спирали, дрожащие в раскалённом воздухе.
И тогда он ухнул в пропасть. Сердце сжалось от ужаса. Он ждал, что в любой момент ударится о скалы, что его разобьёт, разметёт, как пыль. Но он летел… и летел…
Казалось, время растянулось в бесконечность. Мимо него промелькнуло нечто огромное, свитое в кольца, покрытое чёрной обсидиановой чешуёй. Он понял — это змей. Не просто зверь, а держатель путей, страж перехода. Какой же он огромный...
Полёт замедлился. Мысли стали яснее. И в этот момент он увидел ЕГО.
(1) Льипта — это зола растения. В Перу её используют в качестве компонента, раскрывающего максимальный эффект от особых листьев пепси.






|
А продолжение где?
|
|
|
o.volyaавтор
|
|
|
o.volyaавтор
|
|
|
trionix
Изначально такой вариант и был написан. Но позже я решил не усложнять. Всеведение персонажа раздражает. Не стоит вводить сущности сверх обыкновенного. |
|