|
↓ Содержание ↓
↑ Свернуть ↑
|
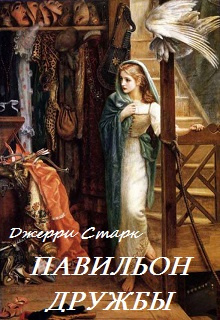
1840 год, Новый Орлеан.
Река ослепительно сияет под южным солнцем, в гавани угольный дым пятнает белые паруса, перекликаются многочисленные корабли, сладкий воздух пьянит и кружит голову, как молодое вино. Белые и розовые особняки среди садов, завитки чугунных решеток, улицы — широкие и узкие, модные магазины, многоголосый гомон, цокот лошадиных копыт и шелест колес открытых экипажей.
Город, прекрасный и опасный, город между рекой и зловонными болотами, город пугающих и прелестных историй, город золота, авантюр и музыки.
Кофейня в конце Французской набережной, изящная розовая вывеска в золотых завитках, надпись «У мадам Катрин». Середина дня, сиеста, посетителей немного — но в дальнем краю открытой террасы на скамейке-качелях расположились три дамы. Две молоденькие девушки, белокурая и черненькая, щебечущие, как птички, голова к голове рассматривают лежащий у них на коленях огромный альбом. Сидящая рядом с ними женщина давно перешагнула почтенный рубеж шестидесятилетия, некогда рыжие локоны сделались пепельными, и фигура ее наводит уже на мысли не о стройности, но о хрупкости старинной вазы.
Дополняет живописную группу молодой человек, время от времени наклоняющийся через плечи девушек и отпускающий ироничные замечания. Солнце пробивается через кружевные зонтики, пятнает золотыми пятнами старые гравюры и аккуратно накрытые папиросной бумагой акварели, слегка выцветшие со временем. Девушки аккуратно переворачивают тяжелые страницы, водят пальчиками под подписями, негромко произносят имена давно умерших людей, оживающие от прикосновения розовых мягких губок.
— Какие ужасные были времена, — вздыхает блондинка. — Мадам, а вам было страшно жить тогда?
— Нет, Шарлотта, — рассеянно улыбается пожилая дама, веер в иссохшей руке чуть колышется, разгоняя полуденную жару. — И да. Мы не задумывались об этом, мы просто жили. Голодали, плясали на площадях, устраивали праздники, влюблялись, рожали детей, хоронили друзей — и жили.
— «Гильотина, установленная в январе 1793 года на площади Революции для казни короля Людовика XVI», — читает брюнетка и нервно передергивает тонкими плечиками. — Мадам Катрин, а вы… вы ее видели, эту гильотину? Своими глазами?
— Да, Рашель, — чуть заметно кивает пожилая дама. Девушки дуэтом взвизгивают.
— Говорят, простой народ воспринимал казни чуть ли не как бесплатное развлечение, — замечает молодой человек и наклоняется чуть ниже. — О, смотрите, а вот и тиран собственной персоной.
— Кто, король Луи, которому отрубили голову? — поднимает бровки белокурая Шарлотта.
— Нет, гражданин Робеспьер.
— Фи! — хором выносят безжалостный приговор юные дамы, тщательно изучив гравюру. — Совсем неинтересный! Надутый, напыщенный, да еще и в парике! Ой, а вот этот, белокурый, это кто? Какой хорошенький, прямо как пасхальный ангел! Наверное, какой-нибудь казненный принц?
— Этого юношу звали Луи Антуан Леон Флорель Сен-Жюст, и в те времена за ним прочно закрепилось прозвище «Архангел Смерти», — мягко улыбается мадам Катрин. — Он был вернейшим и преданнейшим сторонником гражданина Робеспьера, погиб вместе с ним на эшафоте и действительно был на удивление хорош собой. Только глаза у него были злые — как у жестокого ребенка, любящего помучить беззащитных зверюшек. Да, Шарлотта, я как-то видела его вблизи.
Шарлотта задумчиво смотрит на акварельный портрет, молодой человек фыркает и вполголоса цитирует:
— «Логикой его была гильотина…»
— Раймон, перестаньте, мы все знаем, что вы закончили университет, — обрывает рассуждения брюнетка Рашель. — Пусть лучше мадам расскажет еще что-нибудь, это так занимательно! Мадам, а это кто? — палец с розовым ноготком чуть касается гравированного изображения. — Какое странное лицо… Вроде и некрасивое, но привлекательное. И взгляд такой… такой… — она запинается, не в силах подобрать нужное слово.
— Распутный, — спокойно произносит мадам Катрин, подчеркнуто не замечая, как смущенно краснеют девушки и одобрительно кивает Раймон. — Сей образчик рода человеческого мог соблазнить любую красотку… да и мужчины тоже не могли перед ним устоять, если говорить правду. Познакомьтесь, барышни, это гражданин Колло. Мы никогда не звали его по имени — ему не нравилось. Убийца, утопивший в крови город Лион, обаятельнейший нахал, он сперва был заодно с Робеспьером… а потом оставил его, переметнувшись на сторону его врагов, став сторонником императора Наполеона — который, разумеется, в те дни еще не был императором, а был всего лишь гвардейским поручиком с островка Корсика. Колло умер в изгнании, в Гвиане…
Шуршит перевернутый лист, открывая цветной рисунок. Девушки в задумчивости переглядываются — копия этого портрета висит в комнате мадам, и с него то ли задумчиво, то ли насмешливо смотрит темноглазый мужчина средних лет.
Шарлотта и Рашель не решаются расспрашивать, но уверены, что в те давние времена мадам была влюблена в этого человека, и наверняка безответно — ведь мадам Катрин в те времена была совсем девчонкой. Они знают его имя, но оно ничего им не говорит — просто еще одно имя из множества, еще один человек из времен юности мадам, некогда живший и умерший в стране за океаном.
В стране, взвихренной ветрами перемен, в стране свободы и равенства, залитой кровью во имя высших идеалов.
1793 год, Париж.
Вообще-то при рождении ее назвали Катрин. Катрин Леконт, класс младших воспитанниц танцевальной школы при Королевской Академии танца. По отзыву наставницы, мадам де Молиньяр, «настойчива и упорна в повторении упражнений, хотя не может похвалиться примерным поведением, достойным благонравной юной девицы».
Замечание касательно поведения было вполне справедливым. Появилось оно после того, как незадолго после своего тринадцатого дня рождения мадемуазель Катрин, всю неделю чутко прислушивавшаяся к тому, что доносится из-за стен пансиона, убедила подружек сбежать в город. Посмотреть на свержение тирана. Ибо в год разрушения Бастилии начинающим танцовщицам едва стукнуло десять-одиннадцать лет от роду, они по малолетству ничего не понимали и, разумеется, ничего не видели.
— Если мы и это прохлопаем, всю оставшуюся жизнь локти кусать будем! — решительно заявила Катрин под согласные поддакивания Люсиль и Сони.
Удирать было страшновато, но любопытство пересилило.
Поначалу беглянки ничуть не сожалели о своем поступке. Повсюду на площадях пели и плясали, швырялись камнями в окна дворцов, орали: «Да здравствует свобода!» и «Долой тиранов!». Катрин где-то подобрала трехцветное знамя и размахивала им, ее носили на плечах и поднимали повыше, чтобы ей было все видно и все могли ее рассмотреть. Кто-то спросил, как ее зовут, и девочка ответила не привычным с детства скучно-целомудренным «Като», а внезапно навернувшимся на язык звонким прозвищем — «Либертина».
Огромная шумная толпа ломилась в замок Тюильри, маленьких танцовщиц увлекло потоком. Заворожено глазея по сторонам, они слишком поздно заметили, что в общей неразберихе потеряли Люсиль. Поискав подружку — не слишком, впрочем, усердствуя — и не преуспев, они решили: Люсиль не маленькая девочка, сама в состоянии о себе позаботиться и помнит, где расположен пансион. Благо над ухом у них кто-то заорал: «Смотрите, вон коронованная шлюха!» — и они сломя голову помчались глазеть на бывшую первую даму Франции и ее фрейлин под конвоем.
У Либертины кружилась голова от восторга, все было так весело и захватывающе, так непохоже на пансион с его строжайшим расписанием уроков и занятиями в зеркальном зале… Они бегали по дворцу, восхищаясь, удивляясь, краем уха слушая громогласные речи избранников народа. Тихая и робкая прежде Соня успела свести знакомство с каким-то молодым человеком, помахала Катрин на прощание рукой — и исчезла.
Либертина осталась одна. К вечеру беглянка приуныла, поняв, что здесь, в шальном и безумном круговороте, до нее никому нет дела. Вдобавок к бродившей в одиночестве девушке начали приставать подвыпившие победители, и Либертина не на шутку струхнула. Наваждение схлынуло, в сумерках она поплелась обратно — куда ей еще было идти, сироте, взятой в школу по ходатайству родственников и мечтавшей однажды грациозно выпорхнуть на сцену Королевского театра?
В пансионе мадемуазель Тардье ожидали строжайшая выволочка от наставницы и ночь взаперти в старой кладовке. Люсиль больше не объявилась — ни на следующее утро, ни вообще. Соня пришла через несколько дней, собрала вещички и гордо объявила, что выходит замуж, а балет может катиться ко всем чертям.
Через месяц с небольшим грянули очередные перемены. Отныне и навсегда монархия в стране отменялась, ее сменяла Республика. В которой все будут равны между собой и с завтрашнего же дня начнут сообща стремиться к светлому будущему всеобщего равенства, братства и процветания. Старшим же классам Академии было сообщено, что их обучение окончено — и десять лучших выпускниц, согласно нерушимой традиции, будут переведены в Театр Оперы. Прочие вольны устраиваться кто куда, благо за последний год благодаря Декрету о свободе театров в Париже открылось не меньше двух десятков новых сцен, принадлежащих частным владельцам. Многие вовсю набирают труппы и вряд ли устоят перед юными ученицами Академии.
Позже Либертина сумела по достоинству оценить, насколько ей посчастливилось. Рыженькую и не слишком уверенную в себе юницу согласились приютить в бывшем Комеди Франсез (теперь гордо именовавшемся Театром Нации), что занимал чей-то внушительного вида особняк на бульваре Сен-Мартен. Как традиционно полагалось новенькой, она безропотно помогала в туалетных, гримерках и гардеробных, бегала по поручениям и получала разносы, если ее угораздило попасть под горячую руку. Порой ее для пробы выпускали на сцену, когда требовалось «дитя без речей», «танцующий путти» или вышагивающий за королевой паж. Либертина невозбранно болталась за кулисами, слушала во все уши, запоминала и училась.
Шумная городская жизнь накатывала волнами и разбивалась о ступени и колонны перед парадными дверями их театра.
Пытавшихся бежать от заслуженного возмездия Бурбонов поймали где-то в провинциальном городке и привезли обратно в столицу. В январе короля Людовика казнили на площади Революции, перед его же бывшим собственным дворцом. Несколько человек из труппы отправились посмотреть на зрелище. Либертина потащилась следом, но ничего толком не разглядела — они стояли слишком далеко — замерзла и соскучилась. С последним из Капетов покончили как-то слишком быстро — приглушенный стук, всплеск оглушительных воплей, от которых зазвенело в ушах — и все. Король на поверку оказался самым обычным человеком, напрочь лишенным какой-либо «божественности», и голова его отделилась от тела с такой же легкостью, как и голова обычного горожанина.
Королева Антуаннет и маленький дофин, если верить слухам, были еще живы — сидели за решеткой в тюрьме Консьержери. На площади за садами Тюильри казнили еще кого-то и еще, всякий день не по одному десятку человек, и в конце концов черная узкая тень Всеобщей Вдовы стала привычной.
В театре менялся репертуар — в соответствии с требованиями времени. Из Конвента прислали список пьес, категорически запрещенных к публичному показу, и другой перечень — произведения, настойчиво рекомендуемые к скорейшей постановке. Многие были недовольны таким распоряжением, роптали и вслух говорили, лучше бы рубили головы расплодившимся бездарным авторам, не способным создать пристойный текст. Директор пребывал в панике, и многие еще помнили, как в прошлом году почти треть труппы со скандалом ушла следом за Франсуа Тальма, основав Театр Республики.
— Иные времена — иные нравы, — не раз со вздохом повторяла симпатичная и добродушная Николь Годен. Лет десять назад она, думала Либертина, была удивительно хороша собой — да и сейчас, в гриме, парике и затянутом корсете, весьма походила живостью движений и речи на молоденькую девушку. Для актрисы Николь была на удивление выдержанной и спокойной, предпочитавшей держаться в отдалении от сплетен и бесконечных скандальчиков. Невесть с каких причин она решила оказать покровительство новенькой — разумеется, не без выгоды для себя, ибо заполучила в свое распоряжение служанку, которой не надо было платить жалованье. — Что ж, вместо маркиз и куртизанок будем играть честных гражданок и озлобленных поборников рухнувшей монархии… Маркизы, честно говоря, были мне больше по душе. Даже Бурбоны со своей цензурой не рисковали навязывать нам свое мнение о том, что играть, а что — нет. Не нравится мне все это, девочка, очень не нравится.
Либертина хотела спросить, почему, но не рискнула. Ей самой нынешние времена были по нраву. Больше не нужно зубрить скучные истории про давно умерших королей и ходить в унылом платье пансионерки, всякий день рядом происходит что-нибудь новое и занимательное. Николь обещала похлопотать, чтобы ей дали роль — пусть даже самую маленькую, в два-три слова — так чего еще можно желать?
В начале осени Второго года Республики — даже время теперь отсчитывалось по-иному, горожане путались в новых наименованиях месяцев и дней — пробежал слушок, якобы грядет очередное грандиозное представление, с парадом, шествием и живыми картинами. Слух вызвал нешуточное оживление, всплеск интриг, нашептываний и кляуз. Участие в подобном празднестве хорошо сказывалось на репутации, да к тому же за него еще и платили. Иногда ассигнациями, новыми бумажными деньгами Республики. Иногда — продуктами, что в нынешние голодные времена ценилось несравнимо дороже красивых, но бесполезно шуршащих ассигнатов. Хорошенькие актрисы, изображавшие аллегорические фигуры, обзаводились полезными знакомствами и покровителями.
Неудивительно, что накануне начала репетиций в театре разворачивались настоящие баталии за право оказаться в списках участников будущего празднества.
Маленькая танцовщица знала, что ей рассчитывать не на что, и не волновалась понапрасну. Вот года через два-три, когда она подрастет, тогда на нее и обратят внимание, а сейчас она всего лишь тощенькая девочка-подросток.
Посреди охватившего Театр Нации смятения Либертина тихонько сидела в маленькой гримерке Николь перед распахнутым шкафом, перебирая разноцветный ворох платьев и соображая, какие из них нуждаются в починке в первую очередь. Сама актриса пребывала невесть где, и Либертина краем уха прислушивалась, не раздастся ли в коридоре знакомый цокот каблучков.
Дождалась она приближающего гула спорящих и негодующих голосов, мужских и женских, катившихся по узкому коридору подобием снежного кома с горы. Шум оборвался у дверей гримерки, щелкнул замок, снаружи загомонили еще сильнее — Либертина безошибочно опознала режущий, как нож, высокий голосок Эмилии Конта, девицы смазливой, но вздорной, безуспешно метившей на место примадонны. Снаружи бушевал очередной скандал, затянувший в свой водоворот обычно невозмутимую Николь. Либертина опасливо высунулась из-за дверцы шкафа, держа переброшенное через руку платье Марии Стюарт с пышными юбками — раздраженная гамом актриса сейчас наверняка потребует, чтобы ей сварили кофе.
Николь в туалетной была не одна. С ней пришел мужчина, с совершенно обессиленным видом рухнувший в любимое кресло покровительницы Либертины и нехотя обернувшийся на скрип давно не чиненых половиц под ногами танцовщицы.
Прежде Либертина уже сталкивалась в театральных коридорах с этим человеком — он частенько наведывался в Театр Нации. Говорили, якобы он — большая шишка в Конвенте, чуть ли не правая рука самого Жоржа Дантона, Отца Нации. Еще говорили, что он в прошлом был актером — а это ремесло метит свои избранников не хуже каторжного клейма, не смывающегося до конца жизни. Она слышала, как его окликали знакомые — d’Eglantine, Шиповник — и удивилась столь оригинальной фамилии. Или то было прозвище? Либертине он показался довольно старым — лет тридцати или даже больше — но ее удивил и поразил цепкий взгляд блестящих темных глаз, приковавший ее к месту.
— Это что такое? — указательный палец ткнулся в растерявшуюся Либертину, а вопрос был обращен к Николь, стоявшей за креслом, облокотясь на высокую резную спинку. Рука актрисы лежала на плече мужчины, и маленькая танцовщица явно оказалась здесь третьей лишней.
— Либертина, — несколько раздраженно отозвалась Николь. — Девочка, ты не могла бы выйти?
— Уже, — Либертина торопливо заталкивала тяжелые и скользкие платья обратно в шкаф, а они, как назло, соскальзывали с вешалок.
— Погоди, погоди… Либертина, или как там тебя, ну-ка поди сюда! Повернись, голову выше. Николь, чем она у вас тут занимается — платья латает или полы моет?
— Учится и немного танцует, — голос актрисы стал совсем холодным, и Либертина вздохнула. Вот это и называется — оказаться в плохое время в ненужном месте. Не повезло. Николь рассердится, что она не вовремя высунулась, и больше не станет о ней заботиться.
— Роскошно, — одобрил темноглазый. — Николь, я ее конфискую. Не дуйся и не завидуй. Мне позарез необходим Гений Юности. Эта рыженькая вполне подойдет, благо говорить ей все равно ничего не придется.
— Больно тощенький выйдет Гений, — фыркнула актриса. Притихшая Либертина переводила взгляд с мужчины на покровительницу, не веря своим ушам — ее берут для участия в феерии?
— Каковы времена, таковы и гении, — отмахнулся человек, запросто распорядившийся ее участью на ближайшие несколько декад. — Дитя, завтра к полудню придешь к бывшему дворцу Тюильри, спросишь, у кого-нибудь, где Павильон Дружбы, нам его пожертвовали для репетиций. Постарайся не опаздывать, а сейчас — брысь отсюда.
— Конечно, — Либертина затрясла головой, отчего ее кудряшки в очередной раз выскользнули из-под ленты. Вылетела в коридор, тщательно захлопнув за собой дверь, и немедля угодила в цепкие ручки Эмилии. Визгливая красотка и ее свита никуда не ушли, топтались под дверями гримерки Николь.
— Стоять, малышка, — личико Эмилии было как у дорогой фарфоровой куклы, тоненькое, розовое и пустенькое. Вцепившиеся в плечо Либертины пальцы скрючились когтями хищной птицы. — О чем они там говорили? Ну, чего молчишь? Язык проглотила? Он согласился меня взять или его там эта кошка драная вовсю обхаживает?.. Да не молчи ты, придурошная!
— Оставалась еще свободная роль второй слева колонны, — съязвила Либертина, — но ты не подошла — вдруг с тебя штукатурка начнет слоями осыпаться?
— Ах ты дрянь! — следом за пронзительным взвизгом немедля последовали действия — Эмилия попыталась вцепиться в волосы языкатой девчонки. Та вывернулась, умудрившись лягнуть красотку в колено, и понеслась по коридору. Вслед ей летели угрозы сжить со свету, насыпать битого стекла в туфли и повыдергать оставшиеся лохмы.
Задыхаясь от смеха, Либертина взлетела по слегка подрагивающей под ногами витой чугунной лестнице, юркнув за пыльную бархатную занавесь одной из пустующих лож. На полутемной, казавшейся очень большой сцене шла репетиция — прислушавшись, Либертина поняла, что пьеса из «новых». Судя по тому, сколь часто останавливалось действо и зло переругивались исполнители, дело не клеилось.
Маленькая танцовщица забралась с ногами на обитый посекшимся бархатом стул и задумалась. Все произошло настолько неожиданно… как оно и бывает в спектаклях. Действие второе, сцена первая, «Явление гонца». Она до сих пор не могла толком поверить в то, что чудо случилось именно с ней. Наверное, после праздника ее жизнь сильно изменится — вот только к худшему или к лучшему? Конечно, она постарается, она будет стараться изо всех сил… Эмилия с ума сойдет от зависти, когда узнает, что «рыжую лахудру» вот так запросто взяли в участницы будущего празднества.
Представив выражение лица фарфоровой красотки, Либертина хихикнула, прикрыв рот ладошкой.
С Эмилии ее мысли невольно перескочили на мужчину по прозвищу Шиповник. Маленькая танцовщица попыталась воскресить в памяти его облик — темные глаза, принятая по нынешней моде гривка живописно растрепанных волос, светло-каштановых и самую малость отливавших в рыжину. Наверное, Николь считает его красивым, раз пригласила в свою гримерку, позволила сидеть в своем кресле и вилась вокруг него, как оса вокруг горшочка с медом. Хоть он и пожилой.
Часа через два репетиция закончилась, и Либертина робко поскреблась в дверь покровительницы. Похоже, Николь весьма недурно провела время в обществе давнего знакомого. Она не стала сердиться на воспитанницу, обозвала Эмилию набитой дурой, и распорядилась вытащить из шкафа старый кофр — под невеликое имущество Либертины.
— Не будешь же ты за всякой мелочью бегать туда-сюда, — пояснила актриса. — Скорее всего, поселят вас прямо там, чтобы всегда были под рукой. Фабр нынче не в чести, так что гонять вас станет в хвост и в гриву, уж это он умеет.
— Кто? — не поняла Либертина.
— Эглантин, — грустно улыбнувшись невесть чему, растолковала Николь. — Фабр — его настоящая фамилия, а Шиповник — прозвище. Он уверяет, якобы в далекой юности выиграл на поэтическом фестивале первый приз, этот самый золотой шиповник, и с тех пор так себя и зовет. Думаю, врет. Есть у него такая милая привычка — приукрашивать жизнь, чтобы веселее было.
Либертина по третьему разу перекладывала вещи в кофре, лишь бы Николь не отвлекалась и продолжала рассказывать.
— Он и сам довольно милый… для человека, заседающего в Конвенте и водящего задушевную дружбу с гражданином Дантоном. Только слегка взбалмошный и вечно в долгах. И я бы ни за что не доверила ему сопровождать поздним вечером свою юную племянницу, будь у меня таковая, — Николь с треском раскрыла слегка порвавшийся на сгибах шелковый веер, принадлежавший, по слухам, одной из покойных принцесс крови. — Фабр родом с юга, мимо симпатичной мордашки спокойно пройти не может… Общаясь с ним, постарайся быть разумной девочкой. Впрочем, ради грядущего праздника он наверняка соберет красоток с половины Парижа, и твои тощие косточки останутся в полной безопасности, — несколько безжалостно, но справедливо закончила Николь. — Собралась? Марш на урок.
— Ты так хорошо его знаешь, — заикнулась Либертина, придавливая крышку кофра коленом и затягивая ремешки. — Вы давно знакомы?
— Пятнадцать лет без малого, — Николь Годен задумчиво смотрела на себя в зеркало. — Когда-то очень давно я даже умудрилась выскочить за него замуж и прожила с ним целых два года. Пока не поняла — Шиповник не создан для семейной жизни. Так что теперь мы с ним просто верные заклятые друзья.
* * *
На следующее утро Либертина вскочила еще затемно, и засуетилась, готовясь к дальней дороге. Идти предстояло через весь город: по казавшейся бесконечной улице Сен-Мартен с ее бульварами до перекрестка с улицей Сен-Оноре, там свернуть направо, пройти до площади Карузель с ее аркой и бездействующим фонтаном, и оттуда уже рукой подать до Тюильри. Два или три часа пешком… и не забудем про оттягивающий руку кофр.
— Девочка свихнулась на радостях, — заявила тоже ночевавшая в театре и не выспавшаяся Николь, когда Либертина явилась пожелать ей доброго утра и сообщить о своем уходе. Актриса позевывала, куталась в шерстяную шаль с кисточками и выглядела на все свои безжалостные тридцать с чем-то лет. — Всерьез собралась топать до Тюильри пешком. Нет уж, дорогая. Поедешь, как подобает будущей примадонне. На фиакре, до самого дворца.
Они распрощались у одной из служебных дверей Театра Нации. Было довольно-таки свежо, скучающая лошадь выдувала ноздрями облачка пара, Николь ежилась, но не спешила отпускать воспитанницу, давая ей пустячные, зряшные наставления. Либертина послушно кивала. Наконец Николь и сама поняла, что тянуть больше не имеет смысла, подтолкнув Либертину к экипажу.
— Я непременно буду заходить и рассказывать, как и что, — пообещала маленькая танцовщица. — Это же ненадолго. Всего на пару месяцев, а потом я вернусь обратно. Передать… — она запнулась, — ну, гражданину Фабру что-нибудь от тебя…
— Ничего, — резко отмахнулась Николь. — Захочет — сам придет и все скажет. Удачи тебе. Будь умницей.
Она развернулась и ушла, хлопнув дверью, с которой скалилась позеленевшая медная рожа чертика с кольцом в зубах. Оставшаяся в некотором недоумении Либертина забралась в экипаж, кучер щелкнул кнутом, кобылка фыркнула и затопотала вниз по улице, к реке и центру города. Либертина сидела, ерзая на посекшемся репсе сидения, с восторгом и удивлением глазея по сторонам. Красная и золотая листва каштанов, уличные торговцы и шныряющие в толпе мальчишки с сумками, набитыми пачками газет, идущие по своим делам горожане. Покачивание и поскрипывание старого фиакра. Повседневная, обычная жизнь города. От которой она отвыкла, безвылазно сидя в театре, шепотом повторяя на репетициях чужие роли, возясь в гардеробных и гримерках. Собственно, она никогда толком не видела этой жизни — только издалека, через запыленные стекла, по рассказам и слухам. Да еще в ее памяти сохранился единственный, бесконечно долгий день, проведенный на парижских улицах.
А теперь она едет по этому городу, да не куда-нибудь, но в Тюильри, где заседает Конвент. Если ей посчастливится, она увидит — ну хотя бы издалека! — кого-нибудь из тех людей, что вершат судьбы нации. И ее судьбу, судьбы Либертины, бывшей Катрин Леконт, которой по счастливому совпадению предстоит сыграть Гения Юности. Интересно, что ей придется делать в этой роли? Неужели просто стоять болванчиком в живописной позе?..
Поворот, плывущие мимо здания — большие, замкнутые в себе, с заколоченными изнутри окнами, скалящиеся осколками стекла в рамах. Со следами копоти на мраморе и с размашистыми надписями краской на стенах. Площадь, огромные ворота, которые никуда не ведут, и вздыбившиеся каменные кони поверх изгиба арки.
— Приехали, гражданка. Тюильри, — кучер указал на знакомое Либертине здание. Желтые стены, белые колонны, темно-зеленый купол в отдалении, черные с золотом прутья решетки. Когда Либертина вылезла из фиакра, и, перегнувшись под тяжестью кофра на один бок, подошла поближе, она разглядела, что к прутьям кое-где прикручены трехцветные розетки и увядшие цветы. А еще — исписанные листы бумаги, просто наколотые с размаху на чугунные копья.
Большие ажурные ворота, с которых доселе не сбили изображения золотых королевских лилий, стояли приоткрытыми, подле них скучали караульные.
— Мне нужен Павильон Дружбы… — робко заикнулась Либертина, переминаясь с ноги на ногу, в точности бедная родственница у дверей дома знатной родни. — Где готовятся к шествию…
— Актерка? — добродушно спросил кто-то из гвардейцев. — Так тебе не сюда. Налево, пока забор не кончится. Там калитка, пройдешь через сад и сама увидишь.
— Спасибо, гражданин, — Либертина поудобнее перехватила свой кофр и поплелась вдоль чугунной ограды, искать неведомую калитку. Мимо проплывали чугунные завитки, гранитные колонны и чуть облупившаяся золотисто-кремовая стена дворца, потом в решетке и в самом деле обнаружилась небольшая калитка, а за ней — липовая аллея.
Под ногами хрустели опавшие листья, приближалась цель ее путешествия, и тут Либертина невесть почему струхнула. Может, вчерашнее было сказано не всерьез? Гражданин Фабр пошутил, никто ее не ждет, и никаким Гением ей не быть…
Из-за деревьев выплыл павильон дворца Тюильри — отдельно расположенный одноэтажный флигель с огромными, закругленными поверху окнами. На когда-то идеально выровненной и засыпанной песком, а теперь перепаханной колесами и ногами грязной площадке столпились несколько груженых досками огромных фур, в каких обычно перевозят мебель. Высокие двустворчатые двери стояли нараспашку, туда-сюда ходили и громко перекликались грузчики. Под шумок Либертина отважно юркнула внутрь и остановилась в удивлении. Ее тут же толкнули в спину и рявкнули, чтобы не мешалась под ногами. Танцовщица шарахнулась в сторону, заехав себе углом кофра по ноге и зацепив край платья.
Просторный, залитый солнечный светом танцевальный зал дрожал от частого стука молотков и хора бессловесно распевающихся голосов, выводивших одну ноту за другой, все выше и выше — в веселую какофонию органично вплетался топот ног, грохот сваливаемых на наборный паркет досок и еле различимая нежная мелодия клавесина. В дальней части зала громоздилось угловатое сооружение, уходившее под высоченный потолок и наполовину обшитое досками. Как Либертина не приглядывалась, она так и не поняла, что же в итоге призвана изображать и символизировать сия махина. К тому же груде досок предстояло двигаться — иначе зачем к ней приделаны здоровенные колеса?
Мимо Либертины прорысила стайка галдящих девчонок и мальчишек, старательно взмахивавших трехцветными ленточками. Старший над кавалерией сбился с такта и сурово окликнул глазевшую танцовщицу:
— Гражданка, тебе чего тут надобно?
— Гражданина Фабра, он…
— Туда! — мальчишка махнул зажатым в кулаке пучком лент за рукотворную гору. — Вон, ширма в углу. Он за ней сидит.
Стараясь никому не попадаться под ноги, Либертина двинулась в обход зала, поражаясь царившей сумятице. Одновременно в разных концах зала репетировалось несколько номеров, упражнялся хор и танцоры, грохотали молотками и азартно переругивались рабочие — удивительно, как в этом гаме люди еще умудрялись слышать друг друга?
За китайской ширмой с бескрылыми усатыми драконами прятались здоровенный стол, заваленный бумагами, несколько стульев, диванчик и клавесин с облупившимся перламутром. В этом уголке спокойствия расположилась черноволосая девушка, годами немногим старше самой Либертины, и старательно скрипела пером по бумаге. Заметив гостью, девица, не прерывая своего занятия и не поднимая взгляда, буркнула:
— К Фабру? Садись вон туда и не мешай. Он меня прибьет, если к его возвращению не будет готово.
Либертина плюхнулась на продавленный диванчик, украдкой разглядывая деловитую барышню. И с сожалением признавая: незнакомка весьма хороша собой. Только носик подкачал — длинноват, да еще и с заметной горбинкой. Зато — новомодное платьице с трехцветной каймой, кружевная косынка и иссиня-черная коса с вплетенной белой ленточкой. Интересно, кто она — очередная подруга Шиповника?
Девица исписала лист, несколько раз с усилием сжала и разжала пальцы, и только взялась за следующий, как за ширму влетел живой вихрь, рявкнувший:
— Суламита! Третье действие — где?!
— Найми переписчика за казенный счет, — хмуро посоветовала чернявая Суламита. — Или впредь пиши так, чтобы можно было разобрать, а не как курица лапой. Не загораживай свет, пожалуйста. Кстати, к тебе пришли.
— А-а, Юность пожаловала, — обрадовался гражданин Фабр, кивая Либертине. Вместо того, чтобы сесть на стул, он небрежно раскидал бумаги и по-юношески легко запрыгнул боком на стол. Суламита неодобрительно покачала головой и в очередной раз обмакнула перо в чернильницу. — Давай знакомиться, Юность. Это Суламита…
— Леопольдина, с твоего позволения, — проворчала чернявая, вглядываясь в каракули на обрывке писчей бумаги с золотой монограммой под коронеткой. — Леопольдина Фрей, можно Лина, а вовсе никакая не Суламита.
— «Леопольдина» — слишком длинно и скучно, — отмахнулся Фабр. — К тому же ты выходишь замуж за истинного Соломона, и быть Суламитой тебе к лицу.
Суламита, которая на самом деле была Линой Фрей, поджала яркие губы. Либертина решила, что здесь, в шумном и наполненном голосами, пронизанном осенним солнцем Павильоне, гражданин Фабр выглядит моложе своих лет — но каким-то слегка усталым и встревоженным. А в густых растрепанных кудрях запуталась рыжина.
— Фабр или д’Эглантин, называй, как будет удобнее, — наконец-то представился толком бывший супруг Николь Годен. — Ты у нас Либертина, верно? Что умеешь, на сцену хоть раз выходила?
— Роли без речей и танцы, — честно перечислила свои скромные достижения Либертина. — В сентябре… ой, в вандемьере прошлого года я закончила королевскую… ну, бывшую королевскую Академию Танца. Пятнадцатое место в общем списке.
Фабр присвистнул. Лина-Суламита оторвалась от переписки и взглянула на тощенькую девчонку с оттенком уважения.
— Повезло, — заявил Фабр. — У нас будет танцующий Гений. Штуковину в зале ты, безусловно, видела — трудно ее не заметить. Так вот, когда это чудовище достроят, — он сморщился, потому что в зале особенно рьяно загрохотали молотками, — то получится здоровенная катящаяся скала. Тебе придется неоднократно перышком взлетать на вершину, махать факелом, изображать живую аллегорию — и при этом не рухнуть вниз и не сломать себе шею, а то все мы будем опозорены.
— В особенности устроитель празднеств, — подпустила шпильку Суламита.
— Молчи, неразумная женщина, твое дело рукописи переписывать… Справишься?
Эглантин сидел на столе, легкомысленно качая длинной, стройной ногой — Либертина заметила, что пряжки на его туфлях серебряные, несмотря на строжайший декрет о борьбе с роскошью — и терпеливо ждал ее ответа. Суламита отложила перо и помахала исписанным листком в воздухе, чтобы чернила поскорее высохли. В зале уронили что-то тяжелое, мелко и тоненько зазвенели стекла. Либертина растерялась, неожиданно поняв, что и боится предстоящего испытания, и не хочет уходить отсюда. И что ей нравится смотреть на этого человека, пусть он невесть на сколько старше ее и вообще годится ей в дедушки.
— Я постараюсь… справлюсь, — она постаралась выговорить это как можно увереннее. Фабр кивнул, словно и не ожидал иного ответа, хотел сказать еще что-то — но рядом затопали. Неустойчивая ширма качнулась, ввалились двое — темно-серый плащ-крылатка и светло-голубой, трехцветные розетки, гладкие черные волосы и напудренный парик. Тот, что в светлом, по сравнению с высоким и грузным спутником казался изысканной живой статуэткой, а высокий немедля затрубил:
— Фабр, сколько еще раз тебе повторять: моя невеста не нанималась к тебе переписчицей! Лина, опять ты потакаешь его стремлению эксплуатировать окружающих!..
— Потакаю, — кротко согласилась Суламита, выбираясь из-за стола. Привстав на цыпочки, она поцеловала оратора в краешек губ, и тот мгновенно смолк. Даже, кажется, слегка покраснел. — Прости. Я больше не буду. Эглантин, держи свою третью часть, и обращайся, если опять надо будет срочно что-то переписать.
— Вот так прелестные создания крутят нами, как пожелают, — грустно заметил обладатель парика. Либертина без колебаний прозвала его «Аристократом» и подумала, что Эмилия помчалась бы за таким без колебаний, изволь он хотя бы разок глянуть в ее сторону. — Фабр, появились новости, требующие обсуждения в узком кругу. Дамы, прошу прощения.
— Лина, сделай доброе дело, пусть нашу Юность устроят… ну, и покажи ей тут все, — распорядился Фабр, нехотя спрыгнув на пол. Чернокосая Суламита кивнула, поманив Либертину за собой.
— А эти двое — они кто? — немедля поинтересовалась маленькая танцовщица, когда девушки под негромкие реплики мужчин покинули уголок за ширмой, и направились в дальнюю часть зала. — Ты и правда выходишь замуж за того, черненького?
— Выхожу, — с достоинством кивнула Лина Фрей. — Это Шабо, депутат Конвента. Красавчик, на которого ты так рьяно облизывалась — Эро де Сешель, из Комитета Общественного Спасения.
— Вовсе я не облизывалась, — вяло запротестовала пойманная на горячем Либертина, поднимаясь следом за Суламитой вверх по лестнице — оказывается, над огромным танцевальным залом имелась надстройка, ныне разделенная перегородками на множество комнатушек. Гул стоял — как в переполненном улье. — Ой, если он из самого Комитета, почему тогда — «де Сешель»?
— Попробуй, назови такого — «гражданин Сешель», — хмыкнула барышня Фрей. Огляделась по сторонам и решительно потащила Либертину с ее лупящим по ногам кофром за собой, искать коменданта, распоряжающегося расселением участников празднества. Будущего Гения Юности сдали с рук на руки, передав строжайшее распоряжение Фабра «позаботиться». Суламита ушла вниз, а Либертина осталась в крохотной пыльной комнатке с косой крышей и окном, выходившим на облетающие сады Тюильри, смятением в душе и множеством вопросов.
* * *
Последующие декады Либертина провела в горячечном, радужном тумане. Осознавая, пронзительно и четко — даже если ей посчастливится прожить на свете не один десяток лет и дотянуть до благополучной старости, ей не будет так хорошо, светло и весело. Никогда. Дни уходящей осени — лучшие в ее жизни, которые стоило бы обернуть в кусочек шелка, спрятать в шкатулку и хранить, как балерины поступали с первой парой своих туфель. Чтобы доставать время от времени и любоваться на воспоминания, хрупкие и яркие, как опадающая листва. Как тот шуршащий огромный букет, что они с Линой-Суламитой собрали в парке Тюильри и поставили на стол Фабру. Зная, что он не поблагодарит вслух, но мимоходом улыбнется им — и тогда день будет прекрасен до вечера.
«Никак влюбилась, девочка моя? — снисходительно интересовался беззвучный голос, так похожий на рассудительные интонации Николь Годен. — Что ж, не ты первая, не ты последняя…»
«Наверное, — отвечала наставнице Либертина, поздним вечером падая после репетиций на свой узкий диванчик и проваливаясь в темноту без снов. — Но его же нельзя не любить, он… он такой…»
Либертине понадобилось всего пара дней, чтобы осознать, насколько собравшееся в Павильоне Дружбы общество привязано к Фабру. Танцоры, актрисы и певцы, музыканты, даже плотники, сооружавшие огромную Скалу — все они невольно тянулись к нему, с его солнечным, легким характером и невесть откуда берущейся энергией. Эглантин тянул на себе подготовку представления, мирил вечно готовых вцепиться друг другу в глаза певиц и балерин, добывал деньги и продукты на всю подчиненную ему шатию. Одновременно умудряясь писать сценарий будущего действа и стихи к нему, и появляться на заседаниях в Конвенте, благо идти от Павильона до дворца Тюильри было всего ничего. О своей высокой должности депутата он высказывался довольно пренебрежительно, заявляя, якобы у него нет времени выслушивать пустую болтовню. Уж если от него потребовали праздник в честь Разума, они его получат. И могут им подавиться.
— Фабр, мы все знаем, что у тебя язык без костей… но лучше бы ты его попридержал, — мрачно изрекал в таких случаях Шабо. Невесть почему Либертине казалось, что этот знакомый Фабра смахивает на строгого учителя или священника — и Суламита подтвердила ее догадку, рассказав, что до Революции Шабо и в самом деле состоял в ордене капуцинов, но потом отказался от духовного звания. Еще маленькая танцовщица с изумлением узнала, что диковинный новый календарь есть изобретение Фабра — и он ужасно стесняется этого, всякий раз уверяя, что сочинил его, пребывая в чудовищном похмелье. Никто не верил, но все дружно делали вид, что так оно и было.
Либертина сама не знала, с какой радости принялась наводить порядок в закутке за китайской ширмой, выбросив оттуда уйму пустых бутылок и корзину исписанных и скомканных бумаг, перемыв грязные стаканы и чашки из-под кофе, а заодно вычистив старую бронзовую жаровню. Словно получив безмолвное разрешение, она всякий вечер готовила кофе для являвшихся на огонек друзей Фабра, а потом тихонько пряталась в уголке и слушала. К Эглантину вечно кто-нибудь приходил, словно Павильон Дружбы был его личным домом с вечно распахнутыми настежь дверями, а он сам — гостеприимным хозяином.
Громкие имена тех, о ком Либертина раньше только слышала, теперь обретали зримые лица, повадки и узнаваемые черты. Они все наведывались сюда, в балаган Фабра, ставший нейтральной территорией — сторонники Дантона, сторонники Робеспьера, депутаты, спекулянты, актеры, непримиримые враги, просители — сидели на продавленном диване, пили кофе из чашек с вензелем герцогов Орлеанских. Ссорились и мирились, решали свои насущные проблемы, сочиняли речи и статьи в газету, тут же подсовывая их издателям… Порой Либертина не могла понять, где, собственно, заседает Конвент — в парадных залах Тюильри или за шелковой ширмой с пучеглазыми драконами?
Либертина узнавала и запоминала их, а они запоминали ее, мимоходом окликая:
«Юность, где кофе? Вот тебе денег, возьми кого в помощь, сбегай в пекарню или в лавку — жрать охота… Либертина, ну-ка перепиши быстренько, у тебя вроде рука счастливая… Граждане, куда запропастилась наша маленькая Свобода? Иди сюда, садись и слушай — уж больно душевно слушаешь…»
Шуршали свежие листы газет, от которых остро и кисловато пахло типографской краской, язвительный остроумец Эро тихонько отпускал очередную шпильку, от которой, как от упавшей в сухостой спички, вспыхивал хохот, и Либертина молилась невесть кому, чтобы так было всегда. Чтобы трещала жаровня, булькал кофейник, чтобы сдержанный Шабо делал вид, якобы его абсолютно не волнует сидящая рядом на подлокотнике дивана Лина-Суламита, чтобы Эглантин и Сешель беззлобно поддразнивали друг друга, и не было никакого города за окнами. Шумно пыхтящего, обозленного, голодного города, тянувшегося облетевшими черными сучьями лип к Павильону.
…Но все же город добрался до них.
Вечер накануне не задался, хотя никаких причин к тому вроде не имелось. В намозолившую всем глаза Скалу плотники вколотили последний гвоздь, завтра ее собирались обтягивать тканью. Прибежал мальчишка-разносчик, шлепнул на стол Эглантина пачку газет, прямо из типографии, которые начнут продавать на улицах только завтрашним утром. Объявился уставший и задерганный Камиль Демулен, заявил, что мир жесток и несправедлив, после чего улегся спать на диванчике.
Фабр где-то пропадал, Либертина ушла к зеркальной стене, присоединившись к репетиции девушек-танцовщиц из свиты Богини Разума. Она увлеклась, слишком поздно заметив, что из-за ширмы доносятся голоса — и голоса эти с каждым мгновением становились все громче. Когда же Либертина сунулась в некогда тихий и спокойный уголок, то застала ссору во всей ее красе. Шабо, помавая перед собой свернутой в трубку газетой, как кавалерийской саблей, орал на разбуженного Камиля. Тот пытался огрызаться, заикаясь более обычного, у него получалось только судорожное «т-т-т…» пополам с брызжущей слюной, и физиономия быстро наливалась багровым цветом. Либертина растерялась, ее толкнули в спину, влетевший Фабр оказался между спорщиками и рявкнул на Шабо «Прекратить!» таким звонко-режущим голосом, что тот в растерянности подавился окончанием фразы.
— Заорешь на Камиля еще раз, мы больше не друзья, — уже спокойнее добавил Эглантин, развернулся к оцепеневшей Либертине, скомандовав:
— Воды этому несчастному, быстро. Именно воды, потом коньяка, потом фиакр и домой, чтоб глаза мои здесь его не видели.
Либертина кивнула и умчалась выполнять приказание. Посиделок тем вечером не случилось, в зале погасили лампы и свечи, и Павильон утонул в темноте. Скала громоздилась своей огромной угловатой тушей. Либертина впервые представила, как ей придется взбегать наверх, на маленькую площадку, где будет стоять колонна с факелом, да еще и исполнять там танцевальный номер, и вздрогнула.
— Страшно? — спросил подошедший Фабр, тоже запрокидывая голову и смотря на вершину деревянной Скалы. — Ну и дурищу соорудили, м-да… Ты молодцом, Юность. Ты не думай, я за тобой присматриваю. Беги спать.
Невесть почему от этих простых слов она огорчилась до глубины души. В любой пьесе в подобной ситуации они либо заговорили бы о том, что лежит у них на душе, либо Шиповник поцеловал бы ее. А тут всего-навсего — «иди спать». Еще бы по голове погладил. Будто она маленькая неразумная девочка.
Либертина дулась полночи, вертелась, никак не в силах заснуть. Задремала под утро, чуть не проспала репетицию и, заполошно летя по коридору, столкнулась с незнакомцем. Этого в числе посетителей Павильона она еще не встречала — к тому же он так неожиданно вышел ей навстречу, что Либертина едва не врезалась в него. Маленькая танцовщица шарахнулась назад… но, вместо того, чтобы извиниться и поскакать вприпрыжку вниз по лестнице, замерла, испуганно хлопая ресницами. Обычнейший вопрос: «Вы кто, гражданин, и что здесь потеряли?» застрял в горле острой рыбьей косточкой.
Гражданин таращился на нее сверху вниз, благо высокий рост позволял. Пялился чуть раскосыми глазами, точно кот на пойманную мышь, решая — сожрать сразу или позволить добыче выскользнуть из когтей, чтобы погоняться за ней еще немного? Черный кот с белой манишкой: черная куртка толстой кожи, высокие кавалерийские сапоги, заляпанные грязью, трехцветный шарфик, небрежно обмотанный вокруг шеи. Широкий пояс с прицепленной шпагой — не на талии, как положено, а низко сдвинутый на бедра, отчего окованный медью кончик ножен с мерзким звуком скреб по полу. Черные волосы — не живописно взъерошенные, как у Эглантина, а просто непричесанные, торчащие во все стороны густые лохмы. И вид, то ли как у пьяного до стеклянности, то ли как у припадочного.
— Кукла, — наконец изрек гражданин. Голос низкий, хрипловатый, но, что самое удивительное, приятный на слух. — Живая кукла. Ну-ка, стой, потолкуем. Где этот гребаный цветуечек?
— К-какой цветуечек? — заикнулась Либертина, понимая — вот сейчас-то она впервые в своей юной жизни грохнется в обморок. Как аристократическая барышня, позорище какое.
— Единственный и неповторимый! — рявкнул ей в лицо незнакомец, и Либертина отшатнулась. — Фабр где, спрашиваю? Валяется в койке с очередной красоткой, пока истинные герои кровь проливают на полях сражений?..
— О-он внизу, в зале… наверное… — пролепетала танцовщица, чувствуя себя насмерть перепуганной маленькой девочкой. Боже, которого нет, вдруг это дружок или законный супруг какой-нибудь из пассий Эглантина, он прознал, что рогат и явился с намерением устроить обидчику взбучку?
— Ну так веди! — распорядилось лохматое чудовище. Либертине ничего не оставалось, как спуститься вниз по ступенькам, обмирая и подмечая, с каким испугом смотрят на нее встреченные по пути участники будущего празднества. Не иначе, решили, что будущий Гений Юности угодил под арест и отсюда ее прямиком потащат на допрос в Люксембургскую тюрьму.
Фабр оказался на месте. Сидел, покусывая кончик без того обгрызенного пера и рассеянно разглядывал вышитых на полинялом шелке драконов. При виде черняво-косматого выронил перо:
— Сгинь, моя белая горячка. Сгинь немедленно. Изыди, рассыпься. Скажи, что ты мне мерещишься.
— Не дождёшься, — буркнул пришлец и вдруг рухнул в ближайшее кресло. Именно вдруг — только что возвышался угрожающей черно-белою башней, и внезапно сложился, осыпался в кресло, как марионетка, которую бросил кукловод, с таким явственным наслаждением на лице, будто от самой Тулузы шагал именно к этому креслу. Позолоченное старое дерево жалобно хрустнуло под немалым весом. — Что, не рад старому дружку, Ш-шиповничек? Ай, не рад… Хорошо устроился, смотрю. Сыт, пьян, полон дом блядей натащил… Это — новая твоя? — небрежный взмах в сторону обмершей Либертины. — Поделишься?
У Либертины захолонуло в груди. Незнакомец звал Фабра по прозвищу, разговаривал, несмотря на всю страховидность облика, вроде бы мирно, но под обманчивым дружелюбием крылась странная, непонятная угроза, некое смутное беспокойство. Находиться рядом с этим, косматым, было все равно что войти в вольеру с ручным леопардом. Леопард, конечно, ручной… до той поры, пока ему не захочется стать диким.
Может, и в самом деле объявился некий давний знакомец Эглантина, сделавший карьеру на военном или политическом поприще? А что, если Фабр возьмет да отдаст ему смазливую дуру-девку на откуп? Ой, мамочки… боюсь его, не хочу…
Привлеченные явлением незваного гостя, к уголку Фабра начали подтягиваться зрители. Ширма опасно покачивалась, угрожая шлепнуться. В щели блеснул любопытный глаз.
— Нет уж, — бросил Фабр. Пока чернявый разглагольствовал, Шиповник успел прийти в себя и смотрел теперь ехидно да искоса, как петух на зерно. — Девушек ему, как же… Мои девушки не про тебя, они чистые и невинные, как заря нового мира, а ты, братец, страшен, как сон роялиста. И с конца у тебя, говорят, капает.
— Ничего у меня не капает! — взвился гость. — Вранье это все! Гнусные слухи, распускаемые врагами Коммуны об одном из ее вождей! Еще надо бы узнать, где ты таких слухов набрался!
— Слухи не слухи, а девок моих не тронь, — отрезал Фабр. — Если совсем невтерпеж, еби хор. Он у нас мужской, ну да тебе все едино. Мальчики там подобрались трепетные, но авось ты их достанешь как следует, хоть сообща по немытой шее наваляют. Так чего приперся? Только не говори, что соскучился по моему обществу — не поверю. И выпивки у меня тоже нет, не надейся.
Он чуть повернулся к Либертине, сообщив:
— Познакомься, милая. Это чучело зовется Жаном Мари Колло. Страшно не любит собственное имя — оно, видите ли, слишком заурядно для такой выдающейся личности — несет верную службу в Комитете Общественной Погибели, таскается за Робеспьером, а ведь когда-то был неплохим актером и почти что человеком… Колло, говори, что тебе надо, и выметайся.
Имя «Колло» маленькая танцовщица уже слышала. Друзья Фабра отзывались о нем с неприкрытой ненавистью, называя «псом Неподкупного», шепотом рассказывали о массовых расстрелах в городе Лионе, куда Колло решением Конвента отправили нынешним летом усмирять волнения. Либертине представлялось сказочное чудовище в человеческом облике, с руками по локоть в крови и оскаленными клыками, а оказалась взъерошенная громогласная орясина с нелепой шпагой у бедра.
И все же никак не отделаться от ощущения притаившейся совсем рядом жути…
— Ишь ты, как заговорил, — ухмыльнулся Колло, устраиваясь в кресле поудобнее. — А вот не выметусь. Меня к вам прислали. Инспектором от Комитета. Ибо, как доносят верные патриоты, у тебя тут натуральный притон дантонистов, эбертистов, жирондистов, роялистов…
— …сатанистов и содомитов… — тихонько в унисон подсказали из-за ширмы.
— …сатанистов и содомитов, — разлетелся по инерции Колло и на мгновение нахмурился, соображая, что не так. За ширмой сдавленно хрюкнули.
— Да уж, в особенности содомиты распоясались, — буркнул Фабр, мрачнея на глазах. — Ври, да не завирайся. Вы там в Комитете уже всех и каждого готовы подозревать. У нас уже есть инспектор — Сешель.
— Гильотина по твоему Сешелю давно плачет, ждет его — не дождется, — со своего места Либертина видела, как глаза Колло превратились в две узкие щелочки, а голос стал противно-медовым. — Поговаривают, якобы вы с ним не только компаньоны и верные подельщики, но еще и дружки — не разлей вода. В чем-то я его понимаю, Шиповничек, для своих лет ты еще очень даже ничего…
— И вот этот человек собирается избавить нас от засилия содомитов, — хмыкнул Эглантин. — А предъяви-ка ты, братец, бумаги.
— Чего?..
— Бумаги, говорю. Сиречь верительные грамоты, коими Коммуна уполномочила тебя на инспекционные действия в моем театре. Надеюсь, гражданин, ты сознаешь всю важность революционного мандата? Без соответствующей бумаги с печатью любой проходимец, даже тайный эбертист или, того хуже, содомит может прийти и…
— Раньше он не был таким недоверчивым бюрократом, — обращаясь почему-то к Либертине, пожаловался Колло. — Есть у меня мандат. На, подавись.
Он и в самом деле вытащил из-за обшлага куртки свернутую бумагу, швырнув ею в Фабра. Тот поймал, развернул — Либертина сунулась через плечо, прочитать — ровные строчки казенным почерком переписчика, лиловый кругляш печати. Д’Эглантин пробежал недлинный текст глазами, в изумлении задрал бровь и принялся зачитывать вслух:
— «Предъявитель сего есть редкое животное породы павиан, являющееся собственностью Парижского зоологического сада. При поимке оного надлежит принять неотложные меры по доставлению упомянутого животного в адрес: Париж, Рю де ля Пэ, четырнадцать, мэтру Лавалю, за вознаграждение…»
— Чего-чего? — оторопел Колло. — Какое еще животное? Дай сюда!
Он попытался выхватить бумагу, Фабр вовремя отдернул руку и издалека продемонстрировал Колло лист:
— Колло, ты ведь читать умеешь?
— Ну?!
— Видишь букву? Это «Ж». «Же» означает «животное». Ты зачем из Зоосада убежал, а?
— Да нет там никакого «же»!
— Да вот же!..
Либертина хихикнула, за ширмой довольно громко зареготали на разные, в основном женские, голоса.
— А животное кусается?
— Можно его погладить?
— Ой, а хвостик у этого животного есть?
— А чем питаются павианы?
Колло, красный, как рак, бросил на хохочущую ширму яростный взор и прошипел:
— Не мог Неподкупный такого написать! А ну дай сюда немедленно!
— Ну, если не мог — на, прочитай сам, что написано, — смиренно отвечал ехидный Фабр, прекрасно знавший, что читает Колло еле-еле, и протянул бумагу кипящему от негодования гостю.
Колло бумагу схватил и, пребывая в расстройстве чувств, немедленно в мелкие клочки изорвал.
— Гражданин Животное… То есть гражданин Колло! — голос Фабра взвился ноткой праведного негодования добродетельного гражданина, оскорбленного в лучших чувствах. — Да понимаете ли вы, что сейчас натворили?! Как вы могли так поступить — разорвать мандат, доверенный вам лучшими представителями Республики? Вы что, контрреволюционер? Или, не побоимся этого слова, тайный роялист?!
Инспектор от Комитета общественного спасения схватился за шпагу и с рычанием полез из кресла, в самом деле став похожим на дикого зверя. Танцовщицы за ширмой завизжали и брызнули врассыпную. Довольный устроенным представлением Фабр хмыкнул и заговорил уже спокойнее:
— Ладно, ладно, успокойся и убери свой вертел. Не все тебе развлекаться. В самом деле, Колло, на кой ты нам сдался со своей дурацкой инспекцией? Заговоров мы тут не строим, лично у меня просто не хватает времени на такую чепуху. Мне велено состряпать мистерию из подручных материалов — я этим и занимаюсь. Или ты собираешься сценарий вычитывать, на предмет замаскированных симпатий к Старому Режиму?
— Может, и собираюсь, — буркнул Колло, остывая. Рухнул обратно в кресло и с надеждой спросил: — И все-таки, Фабр, у тебя выпить есть? Ну, за встречу старых друзей, а? Хоть чего-нибудь, ты же запасливый, у тебя всегда было припрятано…
* * *
Обитатели Павильона Дружбы старательно готовились к празднеству, а приставленный от грозного Комитета инспектор Колло, коего отныне за глаза (в глаза все же опасались) именовали Животным, скучал и откровенно маялся дурью. Пугал молоденьких танцовщиц, выскакивая из темных закоулков, стрелял из страховидного мушкета в парке по воронам, демонстративно натачивал шпагу и в звенящей паузе тишины, когда замирает под куполом последняя звонкая нота хорового пения, громко имитировал губами конский пук. Однажды Колло приволок раздобытый невесть где потрепанный армейский барабан и затеял муштровать мальчиков-хористов, пытаясь научить их «тянуть носок» и «держать линию», чем едва не довел до сердечного припадка руководителя хора, мэтра Зильберштайна. Почтенный, невероятно серьезный и чопорный мэтр, узрев браво марширующих хористов, испытал редкий для него приступ гневливости.
Последующая сцена выглядела битвой льва с попугаем. Низенький, толстенький, носатый мэтр налетел на Колло, гневно вереща и размахивая руками; Колло лениво приподнялся и рыкнул, Зильберштайн побелел и грохнулся в обморок. На крики и вопли хористов примчался Фабр, удрученно посмотрел на победителя и побежденного и только повертел пальцем у виска.
Барабан у Колло отобрали, срезав кожаную покрышку и превратив его в корзинку для бумаг.
Появление Колло словно нарушило что-то в сложившемся механизме. Больше не было полуночных вечеринок и общих встреч — приятели Эглантина терпеть не могли Колло, и чувство это было взаимным. Черная взъерошенная тень распугала всех, изгнала из Павильона непринужденное веселье, притащив взамен угрозу, необходимость постоянно оглядываться за плечо и трижды думать, прежде чем сказать.
Только Фабр, казалось, не замечал ничего. Вышучивал Колло, то злобно, то добродушно, поил за своей счет и пускал спать на диванчике за ширмой — когда Колло посреди ночи притаскивался из Комитета, зевая и топоча на весь Павильон. Несколько раз Либертина видела с террасы, как они бродят по облетевшему саду, споря о чем-то — угловато-долговязый черный силуэт Колло и заметно уступавший ему в росте, но двигавшийся куда более легко и изящно Эглантин. Странно они смотрелись рядом — противоположные и вместе с тем неуловимо схожие меж собой. Словно что-то притягивало их и одновременно отталкивало.
А меж тем начинался месяц брюмер II года Республики, он же октябрь 1793 года, где-то в окутанных туманом провинциях собирали виноград, и близился назначенный срок свадьбы Шабо и Суламиты. Было решено, что празднование состоится в Павильоне, где хватит места на всех приглашенных, а таковых набиралось немало.
— …Не приходи завтра, ладно?
Шорох опавших листьев под ногами, отчетливо различимый многоголосый шум толпы. Вязкий, текучий, назойливо ввинчивающийся в уши — на площади Революции опять идет не приедающееся народу действо, кровавая феерия в честь победившей Республики.
— Это с какой радости?
— Потому что я тебя прошу. Ты не хуже меня знаешь, Шабо завтра женится. Не порти людям праздник и единственный светлый день в их жизни. Там будет Жорж, вы непременно поцапаетесь и все закончится неизбежной дракой. Мне все едино, кто из вас выйдет победителем, я просто не хочу скандала.
— Можно подумать, везде, куда я прихожу, начинается скандал.
— А что, разве нет?
В траву с негромким «шмяк» падают с ветвей перезрелые каштаны.
— Шиповничек, а Шиповничек…
— Я же говорил, не называй меня так. Был Шиповничек, да весь вышел. Что я еще вам должен, чтобы вы оставили меня наконец в покое и дали заниматься своим делом?
Ветер приносит обрывки истошных воплей, шелестят и кружатся падающие листья.
— Думаешь, легко отделался? Затихарился тут, как паук, тянешь деньги из своей треклятой Компании, пока настоящие коммунары…
— Колло, заткнись. Ты не коммунар, ты такой же клоун погорелого театра, как и я. Сидишь за кулисами в ожидании своего выхода.
— Ерунду молотишь, как всегда… — вяло, без обычного злого энтузиазма, откликнулся Колло. Шпага волочилась за ним по дорожке, оставляя неглубокий след, похожий на след проползшей змеи.
— Тогда дай хоть какое-то разумное объяснение тому, почему ты безвылазно околачиваешься у нас в Павильоне. Что, молчишь? То-то и оно. Тебя просто убрали в ящик, Колло, от греха подальше. Учитывая все твои лионские подвиги, выходки на заседаниях Конвента и прочая, и прочая, несть им числа. Припрятали до нужного мгновения, а в умении угадывать подходящий момент и бить насмерть вашему Максимильену не откажешь… Смотри, это не за тобой?
— За мной, — Колло, прищурившись, вгляделся в остановившийся за решеткой фиакр и его седока. — Бийо притащился.
— Вот и пусть он тебя заберет и присмотрит.
Либертина не слышала этого разговора, но догадывалась, о чем говорили двое в саду, прежде чем разойтись — Колло размашистым шагом зашагал к калитке и запрыгнул в поджидавший экипаж, Фабр вернулся к Павильону. Ее всецело занимало грядущее событие: барышня Фрей, с которой она подружилась, завтра выходила замуж!
Неважно, что не будет красивого венчания в церкви и поездки в открытой коляске по городу, а будет всего лишь церемония записи в книге актов гражданского состояния, зато вечером состоится настоящий ужин с танцами и маскарадом! Ей, Либертине, досталось из дворцовых гардеробных уцелевшее платье придворной дамы — с кружевами и лентами, пышными юбками на обручах и самую малость обтрепавшейся золотой вышивкой. Она даже растерялась немного, разложив эту роскошь на своей узкой кровати и призадумавшись над тем, как влезть в это сооружение.
Из Тюильри притащили стол — длинный, узкий, составляющийся из нескольких частей, накрыв его бывшими бархатными шторами с лилиями Капетов. На Скале живописно расставили свечи и факелы, и когда под вечер новобрачные и гости вступили в распахнутые двери Павильона, навстречу им приветственно грянул хор и выпорхнули амуры с крылышками.
По правде говоря, Либертина и сама не отказалась так выйти замуж. Жаль, пока ей никто не предлагал. Она рассаживала гостей по местам, раскланивалась, смеялась — потому что все вокруг казались ей лучшими друзьями и самыми близкими людьми в мире. А Колло не появился, что было только к лучшему — от него точно не пришлось бы ждать ничего хорошего.
Вечер катился своим чередом — с тостами за здоровье молодых и процветание Республики, шумом и легкомысленной болтовней. Либертина впервые увидела вблизи Отца Нации, Жорж Жака Дантона, поразившись его зверообразной, пугающей внешности, грубоватой физиономии с оспенными отметинами, и громоподобному голосу — когда он поднялся с бокалом в руке и вострубил, хрустальные подвески в люстре задрожали, сталкиваясь и еле слышно звеня. Как Либертина не старалась вникнуть в смысл его речи, в памяти остались только отдельные фрагменты, выраставшие, подобно скалам в океане, из пены многословия. Однако речь загадочным образом воодушевляла, после нее хотелось немедленно куда-то бежать и что-то делать, дабы мир немедленно, прямо завтра изменился к лучшему…
— Такую бы энергию — да в более подходящее русло, — хмыкнул Эро, одной фразой сбив торжественный настрой. — Жорж, мы ведь на свадьбе, а не на заседании. Прибереги свое красноречие для более подходящего случая.
После этого в памяти Либертины все смешалось — может, из-за того, что она вслед за всеми выпила полстакана вина за здоровье молодых, и в голове у нее непривычным и радостным образом зашумело. Она помнила, как отплясывали гости, помнила чей-то резкий смех, и то, что из-за ширмы вытащили старый клавесин и усадили за него Суламиту. Инструмент из дворца не подходил для исполнения бодрых революционных мелодий, новоиспеченная гражданка Шабо заиграла нечто медленное, тягуче-плавное — и остановившийся рядом с Либертиной Фабр окликнул ее: «Юность, сделаешь мне одолжение?»
Маленькая танцовщица вскочила с такой поспешностью, что зацепилась юбками за ножки стула. Они танцевали под хлопки, выкрики и свист, сплетая привычную вязь положенных фигур, Либертине порой удавалось заглянуть в глаза партнера — смеющиеся, какие-то шальные. У нее кружилась голова, она на удивление ясно осознавала — позови Шиповник ее сегодня за собой, она не просто пойдет, побежит, придерживая юбки и теряя туфельки, как Синдерелла из сказки. Не задавая вопросов, не требуя ничего взамен, довольствуясь только тем, что Фабр наконец уделил ей внимание.
А потом к ним приблизился Сешель — оживший призрак старого дворца и сгинувших времен, с легкостью вступивший в созданный ими круг, не разорвав его, но став третьим, и Либертина вздрогнула — невесть отчего, невесть почему. Это было всего лишь еще одно представление, старинный танец, в котором она, вычурная нарядная игрушка, переходила от одного кавалера к другому, едва касаясь кончиками пальцев протянутых ладоней. Ей хотелось, чтобы Лина поскорее доиграла пьесу до конца, чтобы наваждение отпустило ее, но клавесин все выводил капризную, дразнящую мелодию. В галантном танце на троих вроде бы не было ничего непристойного или вызывающего, всего лишь какая-то лукавая недоговоренность, которой Либертина не понимала, не могла понять, но которая заставляла ее чувствовать себя лишней.
Она вздохнула с облегчением, когда наконец прозвенели финальные аккорды, и трио исполнителей, не сговариваясь, поклонилось аплодирующим зрителям.
— Этих двоих на гильотину, причем немедленно. Чтобы не разлагали наш добрый и кроткий народ одним своим видом, — вынес приговор Дантон. — Горбатого, комедианта и аристократа исправит только могила. Девицу — в исправительный дом, перевоспитываться, и потом срочно выдать замуж. Может, она еще не безнадежна.
— Вы жестоки, как всегда, — изящно отмахнулся Сешель, сморщив тонкий, острый носик. — Здесь не умеют ценить настоящее искусство. Эглантин, пошли отсюда. Пусть и дальше прозябают в своем невежестве.
Они вышли на террасу Павильона, прихватив с собой по бутылке и перешучиваясь. Настоящий аристократ и поддельный, столько раз побывавший в обликах многообразных маркизов и графов, что сыгранные роли стали неотъемлемой частью его характера и манеры поведения. Либертина посмотрела им вслед и, как привязанная, шагнула следом — незаметно выскользнув через одну из боковых дверей.
В парке было темно и промозгло, маленькая танцовщица поежилась в своем нарядном открытом платье, запоздало пожалев, что не захватила шаль. Огляделась, пытаясь понять — зачем ее вообще понесло сюда, на холод, из теплого, заполненного светом Павильона? Фабру и Эро нет до нее никакого дела, они вышли потолковать о чем-то своем и сейчас вернутся… Только вот где они?
Ей пришлось прищурится, а потом изумленно заморгать — в попытках осознать увиденное.
Парочка стояла под старым раскидистым каштаном, почти неразличимая в качающихся тенях и длинных полосах света, лившихся из окон Павильона Дружбы. Обнявшись и прильнув друг к другу — но обнявшись совсем не так, как это полагалось бы верным соратникам и единомышленникам, а так, как более подходило бы влюбленным в сцене тайного свидания. С запрокинутой назад головы Эро свалился его неизменный парик, завитой и обильно напудренный, и стало видно, что у него светлые волосы — короткие, густые и аккуратно подстриженные. Они целовались — с жадным, нетерпеливым исступлением, словно от этого немудрящего процесса зависела их жизнь или смерть, Эро обнимал чуть более рослого Фабра за шею, и светло-голубой шелк его камзола мерцал в темноте, как вода в подмерзающей лужице.
Либертина прикусила губу. Не то, чтобы они никогда не слышала о подобных отношениях между мужчинами, в Театре Наций до нее доходили сплетни о том, что между таким-то и таким сложилась уж больно нежная дружба.
Слушать чью-то болтовню и наблюдать своими глазами — как выяснилось, две большие разницы.
Пара нехотя разомкнула объятия, Фабр что-то сказал, Сешель, подумав, кивнул. Либертина вовремя юркнула за колонну, разглядела, как они уходят по темной аллее, держась рядом.
Наверное, она должна была возмутиться увиденным и проникнуться к Эглантину и его приятелю глубочайшим отвращением. Но Либертина просто не могла возненавидеть того, к кому успела привязаться и в кого исподволь, незаметно для самой себя влюбилась. Она чувствовала себя обманутой и разочарованной, невесть каким чувством догадываясь: у Фабра и Эро де Сешеля куда больше общего, чем у Фабра и его мимолетных подружек. Или у Фабра и Колло… Интересно, что учинил бы скандалист Колло, доведись ему стать свидетелем подобной сцены? Уж точно, не стал бы спокойно стоять и смотреть, как давний знакомец удаляется в компании другого.
«Они вернутся, — заклинанием повторила про себя Либертина, приоткрыв дверцу и юркнув обратно, к теплу, свету и дружеским голосам. — Они скоро вернутся. Они взрослые люди и поступают так, как считают нужным. Если им нравится быть друг с другом — это их дело и их выбор…»
Все так, все правильно, только отчего же ее трясет?
В Павильоне меж тем что-то произошло. Мерный шум дружеских бесед затих, не играла музыка и никто не танцевал, и в огромной светлой зале звучал единственный голос. Звонкий и ясный, он безжалостно вонзался в растерянную тишину — упругий рапирный клинок, поймавший лунный свет в удушливой тьме парковой аллеи.
— …Что есть спокойствие? Спокойствие — это смерть. Что есть революция? Революция — это жизнь. Как застойный пруд превращается в загнивающее, зловонное болото, так и общество без развития, без движения, без борьбы становится похожим на боязливого дряхлого старца, влачащего наполненные тоскливым страхом дни в своей лачуге или, равно, во дворце. Но не такова наша судьба! Не тлеть, но пылать — вот наш выбор! Кто хочет жить, а не гнить — должен встать, должен взять в руки оружие, ибо сама Смерть бежит того, кто смело идет ей навстречу. Да, дорога к свету трудна, болото держит крепко — но так, и только так, в борьбе, грязи и крови, теряя верных товарищей, убеждая слабых и уничтожая предателей, мы из тьмы и невежества шагнем в новый, лучший мир!..
— Что случилось? — Либертина углядела впереди широкую знакомую спину Шабо и вцепившуюся ему в локоть Суламиту в белом облаке кружев, метнулась к ним, шурша нелепыми старорежимными юбками. — Что, что такое?
— Камиля несет, — зло буркнул бывший монах ордена капуцинов.
— Ему же никак нельзя много пить … — жалобно протянула Лина. — Недоглядели, поставили перед ним полную бутылку, отвлеклись, а он все и уговорил… Либертина, где Фабр?
— Отошел по делам, — она не знала, как еще можно ответить на этот простой вопрос. «Фабр ушел с Эро, прогуляться по ночному городу?» — Сказал, скоро придет.
— Проклятье! Ну почему, почему его никогда нет на месте, когда он нужен?!
Заикание Демулена, с которым его друзья давно свыклись, научившись угадывать смысл сбивчивых речей и застрявших на языке слов, сейчас вдруг сгинуло. Журналист стоял, чуть покачиваясь вперед-назад, в особо напряженные моменты помогая себе резкими взмахами руки, взъерошенный и бледный до какой-то синеватости. Сейчас охотно верилось, что два года назад Камиль без труда мог повести возмущенных горожан за собой на штурм Бастилии, свергнуть монархию и одержать верх в любом споре.
Невысокая и хрупкая блондинка, мадам Демулен, тщетно пыталась усадить своего супруга на стул, испуганно озираясь и явно готовясь пустить слезу. Помочь ей отчего-то никто не спешил, даже находившийся рядом Дантон.
Все слушали.
— …наша задача — указать дорогу к Свету! Наша первостепенная задача — не жалея ни сил, ни людей, ни пороха, сделать так, чтобы наш бедный необразованный народ сам устремился к познанию! На тех же, кто не будет стремиться и, следовательно, действиями и помыслами своими будет противоречить генеральной линии Коммуны, мы со всей силою обрушим молот революционного террора! — выкрикивал колючие, похожие на выстрелы фразы Камиль, стеклянно смотря прямо перед собой. — Мы должны думать о Франции и ее народе не так, как пастырь о доверенном ему стаде, но смотреть на него, как врачеватель взирает на пациента, иссекая злокачественную опухоль: доброжелательно, но притом хладнокровно. Как бы ни возмущался больной, доказывая, что вот эта конкретная нога ему дорога как память, наша задача — отсечь недрогнувшей рукой, не слушая возмущений профанов!..
— Господи Всемогущий, он же спятил, — еле слышно пробормотал Шабо, обычно выражавшийся в духе «Верховное Существо тебе в душу мать!»
— …Главное здесь — не упустить ту черту, за которой отсекаемая нога переходит в отсекаемую голову. Кто, будучи больным, отказывается от лечения — каким бы болезненным не казалось ему предписанное лечение — тот ступает на дорогу скорбей и разочарований, ведущую к гибели. Более того, своим примером он заражает остальных, обрекая общество на погибель в кострах эпидемии! Задача здравомыслящего человека в этом случае — вразумить несогласных, сплотить ра-ра-разумных и… и… — Демулен задохнулся, нетвердой рукой дергая шейный платок.
— … и искоренить безнадежно больных, — довел до логического конца неоконченную фразу издевательский голос.
В дверях невесть уже сколько времени торчал, подпирая косяк плечом, Колло — черный человек, черная дыра в мокром сером войлоке ночи, белое пустое лицо, трехцветный шарф. Убедившись, что головы большинства присутствующих повернулись в его сторону, он несколько раз звучно хлопнул в ладоши.
— Чудо, чудо, чудо! Ныне узрите чудо, ибо Камиль пошел в Гору. Наконец-то, гражданин Демулен! Сколько можно было сдерживать свои подлинные чувства! Конечно, резать. Непременно резать. Стрелять, вешать, рубить головы… Только так мы выйдем к Свету. — Он вскинул пустые ладони в примиряющем жесте. — Граждане, вы на меня не смотрите. Ешьте, пейте, развлекайтесь, за все уплачено… Я, собственно, мимо проходил. Дай, думаю, зайду взглянуть, как люди развлекаются…
Кажется, он хотел сказать что-то еще, но тут застывший нелепой статуей Камиль как-то странно всхлипнул, взмахнул рукой и рухнул на стул, сотрясаясь в истерическом рыдании.
Сцена вышла отвратительная. Камиль рыдал, уронив голову на стол, накрытый вытертым синим бархатом с королевскими лилиями, меж хрустальных салатниц и тарелок с оливками. Его жена, Люсиль, маленькая и растерянная, гладила мужа по голове, приговаривая что-то бессвязно-утешительное. Шабо ругался вполголоса, сквозь толпу разъяренным кабаном попер громадный гневный Дантон — не иначе, бить морду Колло — но черный человек уже исчез, сгинул, растворился в ночи.
Разъехались и разошлись как-то на удивление быстро, скомкано, точно и впрямь испугавшись заразной болезни. Фабр той ночью так и не объявился, придя только под утро — привычно-легкомысленный, беспечный, с небрежно повязанным шарфом и весело блестящими глазами. Впрочем, его хорошее настроение быстро улетучилось. Выслушав очевидцев вчерашнего, он негромко выругался, смотря на разукрашенный стол и погасшие свечи. Махнул рукой околачивавшейся поблизости Либертине, чтобы подошла, и неожиданно велел ей скататься к Театру Нации — прихватив уцелевшие бутылки с вином и угощение со свадебного стола четы Шабо. Маленькая танцовщица согласно кивнула, упорно гоня прочь неуместные мысли о том, где, как и с кем провел эту ночь Фабр, бросив их всех на произвол судьбы.
* * *
Составленные в корзину бутылки звякали на каждой попавшей под колесо фиакра выбоине, создавая эдакий аккомпанемент поездке. Либертина думала о том, как обрадуются ее появлению и ее подаркам знакомые, сколько новостей она узнает и сколько расскажет сама. Вот только о вчерашнем промолчит. Свадьба и свадьба. Вдруг Николь разошлась с Фабром именно по этой причине — узнав, что он такой?
Фиакр громыхал вниз по Сен-Мартен, нетерпеливо высунувшаяся наружу Либертина уже видела могучие колонны на фасаде Театра Нации, выкрашенную в темно-алый цвет покатую крышу и фигурку крылатой девы, которой всучили в руки флагшток. Она сама не ожидала, что так обрадуется знакомым местам — сердце и впрямь выскакивало из груди, ей не сиделось на месте, хотелось со всех ног мчаться туда, оставив далеко позади неторопливую лошадку и фиакр.
Напротив парадного входа в театр стояли две приземистые черные кареты, вокруг собралась небольшая толпа. Из распахнутых настежь дверей выходили люди, мужчины и женщины — по одному, в сопровождении жандармов, чью ярко-синюю форму было невозможно не признать.
— Стойте! — Либертина стукнула кулачком по спине извозчика. Тот покосился на взбалмошную девчонку и натянул вожжи, останавливая лошадь. — Стойте, подождите! Я сейчас вернусь!
Она ничего не понимала. Что делают жандармы у их театра, при чем здесь черные кареты, в которых доставляют в тюрьмы арестованных, что вообще творится?
Она выпрыгнула, поскользнулась на мокром булыжнике, побежала вперед — узнавая в спускающейся по широким ступеням женщине Николь, с ее горделиво посаженной головкой и узлом каштановых волос на затылке, визгливо выкрикивая несусветное и неуместное: «Мадам Годен! Николь!..»
— Эт-то еще что такое? Тоже из вашего змеиного гнезда? — жандарм сгреб Либертину за плечо, останавливая. Николь медленно повернула голову, со спокойным достоинством ответив:
— Моя бывшая служанка, гражданин. Может, разрешите девушке подойти?
— Она правду говорит? — ручища на плече встряхнула Либертину так, что та едва не потеряла равновесия и торопливо закивала. — Валяй, только по-быстрому. Пара слов — а то и тебя прихватим, для ровного счета.
— Николь, что?.. — вырвавшись, Либертина повисла на своей наставнице, в растерянности хватая ее за руки и одежду, озираясь и узнавая знакомые лица. Заплаканная, растрепанная Эмилия выглядывает в полуоткрытую дверцу кареты, бледный овал за ее плечом — красавчик Раймон Рокур, проходящий мимо жандарм захлопывает дверцу и они исчезают в темноте. — Что?!
— Наш театр закрывается, — тихо и быстро проговорила Николь. — Труппа под арестом. Вся, начиная от директора и заканчивая статистами. По распоряжению д'Эрбуа, ну, Колло, ты наверняка про него слышала…
— Я знаю Колло, он все время болтается у нас в Павильоне, но почему, почему вас увозят?..
— Как всегда — за сочувствие монархии и соучастие заговорщикам, — дернула плечом Николь. — Но я думаю — из-за мстительности. Колло служил у нас и был отнюдь не на первых ролях, вот и решил наконец поквитаться… Поговори с Фабром, девочка, может, он еще сможет что-то для нас сделать…
— Гражданки, будет чесать языками, чай, не на рынке встретились! — жандарм подтолкнул Николь в спину. — Ты, садись давай. Рыжая, марш отсюда!
— Прощай, — Николь вскарабкалась на подножку, исчезла в недрах черной кареты. Щелкнули кнуты, зацокали подковами по булыжникам мостовой лошади. Преставление закончилось, толпа быстро рассеялась по окрестным дворам и переулкам, осталась только Либертина и дожидавшийся ее фиакр. А еще — Театр Нации, вход в вестибюль которого теперь крест-накрест перечеркнули две доски, небрежно приколоченные огромными гвоздями прямо к старинным ободверинам. И белый листок постановления Комитета, с десятком ровных строчек, размашистыми подписями внизу и лиловой кляксой печати. Воровато оглянувшись, Либертина схватила приказ и спрятала за пазуху.
— Тюильри, быстрее! Как можно быстрее!..
…Возле Павильона Дружбы царили грохот и сквернословие, перемежаемые ржанием лошадей и рассыпаемыми налево и направо указаниями. А также визгом, писком, звоном бьющегося стекла и душераздирающим скрежетом. Готовую Скалу предстояло вытащить наружу, однако запоздало выяснилось, что плотники при постройке изрядно ошиблись с расчетами, сделав ее выше, чем двери Павильона. Чудовищное сооружение зацепилось вершиной и намертво застряло, закупорив собой весь немаленький дверной проход.
Либертина метнулась туда-сюда, разыскивая Фабра и, наконец, углядела — держась в стороне от общей суеты, он мрачно смотрел на злосчастную Скалу, явно прикидывая, как извлечь ее наружу, не разрушая Павильон. Маленькая танцовщица налетела на него, давясь новостью, обжигавшей горло, но рассудком понимая, что кричать во всеуслышание сейчас нельзя. Вцепилась в рукав его сюртука, оттащив за прикрытие облетевших кустов, и только там наконец выдохнула:
— Николь арестовали! И всех остальных!
— Какую Николь? — не понял Фабр.
— Мадам Годен! Из Театра Нации! И театр закрыли, а постановление подписал Колло, вот, я не вру!.. — она сунула ему в руки лист, сорванный с дверей театра, с косой дырой посредине от гвоздя, которым он был приколочен. — Я приехала, а их увозят! Николь велела передать — вдруг вы сможете что-то для них сделать… Вы ведь сумеете, да? Вы же знакомы со всеми в Конвенте, вы же друг Дантона, вы же… — Либертина осеклась, снизу вверх заглядывая в лицо стоящего рядом человека, видя плещущуюся в карих глазах растерянность. Боль, растерянность и недоумение, отражение ее собственных недавних чувств: как же так вышло, как вообще могло случиться подобное? — Вы ведь вытащите наших, да?
— Спасибо, что рассказала, — Фабр преувеличенно аккуратно сложил листок вчетверо, сунул в карман, ничего не ответив на ее вопросы. — Возвращайся в Павильон.
— Но… — заикнулась Либертина, ничего не понимая и от своего непонимания пугаясь еще больше. Фабра, к которому она привыкла и привязалась, на которого так надеялась, словно подменили — он словно захлопнул незримые ворота и поднял мосты над крепостными рвами, замкнувшись в себе.
— Ступай, — с едва заметным нажимом повторил Эглантин, и Либертина покорно побрела в сторону Павильона Дружбы, загребая ногами смерзшиеся листья и шмыгая носом. Дойдя, нерешительно обернулась: Фабр стоял на прежнем месте, сунув руки в карманы камзола и чуть сгорбившись. Ветер трепал каштановую гривку и кончик длинного трехцветного шарфа. Их Шиповник, их всеобщий любимец, неунывающий, жизнерадостный, душа компании…
«Он непременно что-нибудь придумает, — твердила про себя, точно заклинание или молитву, Либертина. — Фабр сообразительный. Он придумает, он не оставит своих пропадать в тюрьме. Он просто не может так поступить, ведь они же ни чем не виноваты. К нему прислушаются, и все будет хорошо.»
* * *
Как положено всякому уважающему себя злому духу, Колло являлся ближе к полуночи. Не по умыслу или склонности пугать окружающих, но просто оттого, что в это время заканчивались заседания в Комитете Общественного Спасения, а тащиться посреди ночи домой было неохота.
Куда проще пройти заброшенными анфиладами Тюильри, выйти в сад и добрести до флигеля, где заправляет своим балаганом Фабр. Совместив приятное с полезным: перепалку с давним знакомцем и пусть холодный, но какой-никакой ужин. И в очередной раз полюбовавшись, как Шиповничек, вечно воротивший нос на сторону и слагавший о Колло пакостные стишата, бессильно скрипит зубами — но актерская закалка берет верх, вынуждая сохранять показное дружелюбие. Он даже огрызается порой, скалит зубы по прежней памяти. Хотя боится, наверняка боится, до кошмарных снов, тошноты и дрожащих рук.
Все они боятся, все, кто раньше презирал Колло, высокомерно именуя его бездарностью и дешевым актеришкой из балагана, все они теперь или мертвы, или за решеткой… или боятся, как Фабр. Мог бы проявить сообразительность, сделать шаг навстречу старому приятелю — и жил бы себе, как за каменной стеной, а не якшался бы с кем попало и не лез в дурацкие аферы.
Колло уже не толком помнил, сколько лет он знаком с Фабром — десять или пятнадцать? Иногда ему казалось — всю его жизнь, с самой юности, поблизости болтался элегантный южанин с мягким выговором, язвительным нравом и смазливой мордашкой. Со своим идиотским прозвищем, золотым цветком-булавкой в шейном платке, и посмей только кто заикнуться, что никакой победы на памятном фестивале в Тулузе Фабр не одерживал. В лучшем случае на подающий надежды юный талант обратили пристальное внимание дамы-меценатки.
Теперь Фабру уже за сорок, как и ему самому, он ходит в друзьях жирной сволочи Дантона, устраивает дурацкие представления и думает, будто он все еще прежний Шиповничек. И так забавно злится, не в силах переступить через себя, хоть раз повысить голос…
В кои веки Эглантин убрал залежи бумаг со своего стола, оставив посреди зеленого сукна единственный листок и поставив рядом жирандоль с пятеркой зажженных свечей. Устроил эффектную сцену по всем театральным канонам и уселся дожидаться прихода Колло. Который из врожденного любопытства первым делом схватил загадочный листок, признав в нем собственное распоряжение и собственную же подпись — старательную, как у школьника.
— Уже донесли? — хмыкнул Колло, пренебрежительно помахав распоряжением относительно Театра Нации. — С доставкой на дом. Что, Шиповничек, решил заранее объявить траур по своим дружкам? Ой, только не начинай блажить: «Как у тебя рука поднялась, как ты вообще мог, мы же одна семья, одна гильдия!» Мне, если ты не позабыл за давностью лет, отказали в праве вступить в эту гильдию.
— А еще тебя сочли недостойным получать королевский пансион, — холодным, незнакомым голосом напомнил Фабр. — Хотя ты подавал прошение, я знаю.
— Ха, можно подумать, ты не рвался к дармовой капетовой кормушке! — не остался в долгу Колло. — Тебе тоже ответили кратко и ясно: «Утрись, перетопчешься!»
— Зато я хотя бы не мстил! — Фабра словно подбросило на сиденье.
— Да-а? — притворно удивился Колло. — Ну-ка скажи, умник: что есть вся наша революция, как не одна большая месть — всем высокородным засранцам, считавшим, что могут купить нас с потрохами, святошам, требовавшим зарывать нас за оградой, как паршивых собак, всем этим критикам из королевских академий, цензорам и прочим высокопоставленным идиотам!.. Скажешь, нет?
— Да! — почти крикнул Эглантин. — Да! Только где теперь все наши мечты о новом театре? Теперь мне приходится устраивать клоунады для народа, феерии, идиотские шествия, по театрам рассылают высочайше утвержденные Конвентом списки разрешенных пьес, а ты — не кто-то другой, не Робеспьер, не Сен-Жюст, а именно ты, Колло д’Эрбуа, бывший актер! — подписываешь распоряжение об аресте своих собратьев! Собственными руками уничтожаешь то, что мы пытались создать!
Пространство пустого стола и пустого танцевального зала, карие глаза напротив черных, отрывок из спектакля, который никогда не будет поставлен.
— Колло, ну скажи, что тебя надоумили и заставили… Это ведь Робеспьер затеял, сам бы ты никогда не додумался до подобного… Ведь так? Колло, мне хоть немного будет легче…
— Что ж ты столь низкого мнения о моих умственных способностях? — расхохотался Колло. — Какой Робеспьер, о чем ты? Наш Неподкупный трагедию от комедии не отличит. Ему нет дела до театра… пока нет. А мне — есть. Твои приятели из Театра Нации ставят откровенно промонархические пьесы и надеются, что это сойдет им с рук? Ну уж нет!
— Но их убьют!
— Убивают бандиты в подворотне. А заговорщиков и монархистов казнят по справедливому приговору революционного суда.
— Скажи как есть: по твоему навету!
— Как драматично, Шиповничек! Вероятно, в этом месте мне положено чистосердечно раскаяться и сказать: горе мне, по моему навету гибнут невинные! — циничная ухмылка Колло резала, как нож. — Но мы не на сцене, увы. Революция доверила мне…
— Заткнись! И убирайся отсюда! — почти взвизгнул Фабр. — Видеть тебя больше не могу… убийца!
— Когда захочу, тогда и уберусь, а ты придержи свой паршивый язык, — Колло наклонился вперед, опираясь обеими руками о край стола, говоря медленно и негромко, словно вбивая гвозди-слова. — Меня отправили в миссию — я ее выполнил. А ты, ты же за эти годы ни ногой из Парижа, только и знаешь, что составлять фальшивые накладные, воровать у страны, содержать шлюх да таскаться с недобитыми аристократами по меблирашкам!
— Не было этого… — Эглантин невольно отвел глаза, уступив в поединке взглядов.
— Ага, ты чист и невинен, аки садовый цветок по весне! — хохотнул Колло. — Жаль, не прихватил из канцелярии Вадье любопытный отчетец, специально для тебя. Сообщение касательно двух типов приличного вида, вчера снимавших комнату в нумерах мамаши Альберты, что совсем неподалеку отсюда, в переулке за Карузелью. Неужели так приспичило, что ты даже сбежал со свадьбы задушевного приятеля? Я ведь заходил сюда, твой припадочный дружок Камиль бился в истерике, а тебя не было — ни тебя, ни твоей поблядушки Сешеля. И теперь он сидит тут и блеет: «Не было, не было!». Хоть бы врать толком выучился.
Больше всего Колло ценил это мгновение — когда человек уже понимает, что сломлен, что уступит и скажет все, что требуется дознавателю, но еще бессильно трепыхается рыбешкой на крючке. Это ощущение било по нервам крепче удачно отыгранного спектакля, сильнее первой влюбленности и хорошей потасовки. Никогда прежде он не знал этого чувства, обжигающего и сокрушительного, и где-то в глубине души даже испытывал нечто вроде благодарности гражданину Робеспьеру, открывшему для него прежде неведомую сторону мира. Сладость безнаказанности и власти — и осознание того, что именно он, Колло, в состоянии сделать то, от чего брезгливо отвернутся другие. В состоянии добиться нужного результата и успеха. Что в Лионе, что здесь, в полутемном Павильоне, стоя напротив Шиповничка, который больше не строит из себя неприступную цацу и нервно теребит полоску кружев на рукаве сорочки.
Мысль, навестившая взбалмошную лохматую башку Колло, была остренькой, подленькой — и сулила большие выгоды. А заодно позволяла с успехом заткнуть пасть заклятым соратничкам по Комитету, считавшим Колло не более, чем туповатым исполнителем чужих распоряжений.
— Фабр, ты действительно хочешь их спасти? — вкрадчиво, даже отчасти нежно поинтересовался Колло. — Своих дружков с улицы Сен-Мартен?
— Они такие же мои дружки, как и твои… — бесцветно откликнулся Эглантин.
— Не умничай. Отвечай толком — да или нет. Не то в самом деле домой пойду, а ты сиди тут и бейся головой о стол, покамест мозги из ушей не брызнут.
— Да! Да, черти бы тебя драли!
— Замечательно, — нехорошо обрадовался Колло. — Тогда бери листок, перо, чернильницу и пиши. Красиво, разборчиво и подробно.
— О чем писать? — то ли сыграл в недоумение, то ли в самом деле не понял намека Фабр.
— Шиповничек, — протянул Колло, — ну право слово, совсем ты отупел в последнее время. О Компании своей пиши. О том, как вы весело пьянствовали за счет голодающей страны и делили выручку. О том, как ты, Шабо, Сешель… кто там еще входит в вашу кодлу спекулянтов?.. так лихо ликвидировали свое заведение, что страна не получила с этого ровным счетом ничего, как вы снюхались с англичанами, про доходы с акций, которые вы прибрали в свой карман, ну и чем вы там еще занимались?..
Фабр уставился на него таким взглядом, будто с ним заговорило дерево из парка Тюильри. Или поздоровалась собака — внятно и по-человечески. Да, он действительно был одним из содиректоров и владельцев Ост-Индской торговой Компании, недавно закрытой по решению Комитета, и граждане директора действительно изрядно сплутовали с финансовыми отчетами и распределением дивидендов, но, во имя Верховного Существа, откуда мог пронюхать об этом столь недалекий и ограниченный тип, как Колло?
— Чего вытаращился? — пакостно хмыкнул «недалекий и ограниченный». — Да, концы в воду вы ловко спрятали, не подкопаешься. Но сейчас ты все толком изложишь, а я… я, так и быть, похлопочу касательно глупцов из Театра Нации, — обойдя стол, Колло бесцеремонно распахнул ящик, вытаскивая и шлепая на столешницу все необходимое. — Твори давай!
Говоря по правде, Колло ожидал скандала. Воплей, угроз, призывов к его, Колло, совести — о существовании которой он вспоминал, когда это было позарез необходимо. Но Эглантин какое-то время молча смотрел на него, потом придвинул к себе лист, обмакнул обкусанное перо в чернильницу и начал писать — медленно, словно через силу.
Исписав с пол-листа, он вдруг спросил, не поднимая головы:
— Если Шабо арестуют, что станется с Линой?
— С этой хорошенькой евреечкой? Думаю, сыщется уйма желающих развеять ее одиночество, — легкомысленно отмахнулся Колло. — Ты пиши-пиши, не отвлекайся, а то забудешь что важное. И даже не мечтай оставить душку Сешеля в стороне — кстати, не по вашим ли темным делишкам он недавно мотался в Страсбург?
Перо снова поползло по бумаге, дергаясь, запинаясь, оставляя за собой чуть съезжающие к левому краю строчки. Колло героически пытался сидеть смирно, и почти четверть часа ему это удавалось — а потом привычка непрерывно двигаться взяла вверх.
Он закружил по отгороженному ширмой уголку, как зверь по клетке, цепляясь ножнами шпаги за предметы обстановки и время от времени с любопытством заглядывая Фабру через плечо. Ему до зубовного скрежета хотелось знать, о чем сейчас думает Эглантин. Почему он не уперся, но решил поступить именно так? Неохота делиться наворованным? Его компаньонов посадят, как пить дать посадят, Макс давно мечтает отправить их на постой в Консьержери — а Фабр останется на свободе, с большими деньгами и своими бесконечными шлюшками. И сам он похож на гулящую девку — переборчивую, нахальную, дорогую, из тех, что с кем попало не пойдет. Сколько Колло не подбивал к нему клинья — в лучшем случае натыкался на прохладное, обидное недоумение. Мол, на кой ты мне сдался, Животное? Колло хорош только для того, чтобы таскаться с ним по кабакам и встревать в рискованные истории, не более того.
Завершив очередной круг, Колло остановился, покачиваясь с носков на пятки, пристально глядя в спину пишущего. Движущийся локоть, склоненная чуть набок голова, из-за стоящих рядом свечей вокруг светло-каштановых волос образовался едва заметный золотистый ореол. Тоже мне, ангелок выискался. Продажный. По сходной цене. Вот он сейчас и получит — за все! За все письма без ответа, за ехидные смешки, за уведенных подружек, за прошедшую мимо жизнь, за…
Колло резко выбросил вперед руку, сгребя в ладонь густые кудряшки и дернув на себя, вынудив Фабра запрокинуть голову. Наткнулся на изумленный, негодующий и вместе с тем испуганный взгляд. Взгляд жертвы, которая сама напрашивается на то, чтобы ее догнали и разметали по облетевшим кустам.
— Мы так не договаривались, — ошалело пробормотал Эглантин, пытаясь высвободиться и еще не понимая, что это невозможно. — Колло, что на тебя нашло?
— Ничего, — буркнул Колло. — Считай это залогом своей благонадежности. И вообще, мне столько лет хотелось это сделать, и грех не воспользоваться подходящим случаем.
* * *
Диванчик выглядел слишком хлипким, столешница — банальной, а паркетный пол — холодным и твердым. Однако на полу имелся коврик. Вытертый, небольшой коврик с цветочным узором, позаимствованный в имуществе Тюильри. Самому Колло было по большей части все едино, где, как и с кем — собственно процесс всегда занимал его больше, чем окружающая обстановка — но для трепетного, строящего из себя аристократа Шиповника требовалось нечто более возвышенное, нежели коврик на полу. Кровать с балдахином, шелковые простыни, розовые лепестки, не иначе.
— А вот надо было соглашаться, когда предлагали… — невнятное бормотание, путающиеся в застежках руки, тяжелое, сдавленное дыхание, мечущиеся тени. — Надо было соглашаться, сколько раз тебе говорили… Вот и терпи теперь, можешь даже порыдать… Под Сешелем небось не рыдал, да? Хотя кто вас разберет, полоумных, кто там у вас сверху, кто снизу…
Бешеный, почти безумный напор с одной стороны — но не сопротивления, ни попытки оттолкнуть, ни протестующих криков в ответ. Беспомощная, растерянная покорность, мгновенно выводящая Колло из себя, оборачивающаяся яростными, злыми криками:
— Хорош изображать бревно с глазами! Тоже мне, девственница на заклании! Думал, так просто отделаешься? А вот не выйдет, не собираюсь я в дупло бесчувственное наяривать!..
Оплеухи, от которых голова распростертого на ковре человека неловко мотается туда-сюда. И почти сразу — извиняющееся мурлыканье, поцелуй, настойчивый, горячечный шепот:
— Шиповничек, ну пожалуйста, ну прости, я ведь так хочу тебя…
«Хочу» — уже не «люблю», «люблю» отгорело и рассыпалось пеплом, осталось только требовательное, капризное «хочу». Желаю. Хочу заполучить с потрохами, печенками и селезенками, с этими печально-смешливыми глазищами, с гладкой, прохладной кожей, смуглой по прихоти природы, с первого вскрика и рождения на свет, с шелковистой, чуть вьющейся гривкой… Хочу твои улыбки, с такой легкостью достававшиеся любой смазливой юбке, твой смех, чуть гортанный, будоражащий воображение, твою неистребимую привычку, злясь, начинать говорить с отрывистым южным акцентом… Твои руки и пальцы, возможность засыпать и просыпаться рядом, осознание того, что ты любишь меня…
Ты ведь не любишь меня, Шиповничек с колючками?
Не любишь, но уступаешь, потому что иного выхода нет, а ты слишком горд, чтобы орать, звать на помощь, выдираться и пытаться скинуть навалившееся сверху тело. Потому что твой гребаный пестрый балаган, сцена и кривляющаяся на ней бывшая супружница внезапно оказались дороже, чем деньги и нынешние закадычные приятели — а ты ведь так ценишь деньги, бывший ярмарочный побирушка без гроша в кармане, на все готовый и на все согласный ради нескольких золотых луидоров. Театральная шлюха, свято блюдущая верность единственному избраннику, сама себя навечно приковавшая к погасшему алтарю Мельпомены.
Больно, да?
Беззвучные слезы, вскрик, хриплый стон, толчок, жесткость лакированных паркетных плашек, ничуть не смягченная истрепанным ковриком, содранная о жесткий ворс кожа. Хоть бы попросил быть помягче, не ломать, не сгибать, как гнут для похоронного венка гибкую, упругую ветку шиповника, прихваченную первым морозцем. В аллеях Тюильри есть кусты шиповника, они уже облетели, темно-красные, спелые ягоды мерцают сквозь колючую паутину веток.
Мы умрем, очень скоро мы все умрем, но сегодня мы еще будем жить, вот так — нелепо, неуклюже, страдая от собственной уродливой любви, вколачиваясь друг в друга, словно этот немудрящий ритуал в силах спасти нас от наступающего дня и окончательного расчета.
Почему ты молчишь, Фабр? Смотришь снизу вверх на взбесившееся Животное, вырвавшееся из клетки и способное разорвать тебя на куски, сглатываешь, облизываешь пересохшие губы — и молчишь? Позволяешь брать себя — неловко, неудобно, при всяком рывке затылок невольно ударяется о паркет, но не хнычешь и не жалуешься…
— Колло, — тихий, отчетливый шепот.
— Уммм?
— Обещай, что не проболтаешься.
— Завтра… то есть сегодня же с утра соберем публичное заседание ради такого случая. Пусть все знают, какая из Шиповничка сладкая давалка.
— Обещай! — голос становится громче.
— Да никому я не скажу, успокойся ты…
Толчок, робкое движение навстречу, кольцом сомкнувшееся на шее руки.
— Эй, а тебе нравится… Сдохнуть мне на этом месте, ему нравится!
— Колло, сделай одолжение — помолчи.
— Еще чего. Вот помру — тогда и заткнусь.
Пустота огромного танцевального зала, темный осенний ветер колотится в окна Павильона. Тепло двух слившихся тел, судорожный вздох, объятие.
— Ты ведь обманываешь меня, да, Колло? Тебе просто хотелось уложить меня и вставить свою хреновину…
— Да ни за что на свете! — здесь и сейчас Колло искренне верит произнесенным словам. Как же можно обмануть того, кто доверился тебе, кто наконец смирился с неизбежным, позволив осуществить наяву все твои мечты? Ну да, Фабр при необходимости сам кого хочешь обведет вокруг пальца, но сейчас Колло уверен, что не станет обманывать дружка. Он честно похлопочет завтра перед Максимильеном за арестованную труппу Театра Нации. Чем Верховное Существо не шутит, может, удастся обратить начатое вспять, проштрафившихся комедиантов вышлют в провинцию, а Шиповничек останется с ним, на всякую ночь, навсегда, до самой смерти… — Обещал — значит, сделаю, не страдай.
Колло переводит дух и негромко, почти нежно окликает «Франсуа, а Франсуа…», зная, что Эглантин сейчас вздрогнет от удивления. Крещеные имена нынче не в чести, как пережиток религиозного прошлого, обитатели Тюильри и горожане предпочитают обращаться друг к другу по фамилиям или прозвищам. Колло свое имя вообще терпеть не мог, а имечко Фабра выяснял обиняками, у общих знакомцев. Имя как имя, традиционное настолько, что дальше некуда, но удивительно подходящее Фабру. Даже странно представить, что его можно назвать как-то иначе. Франсуа Эглантин, Шиповничек, его нынешняя подстилка и пассия, наконец-то смирившаяся со своей истинной участью и отвечающая хоть и не со «страстью пламенной», но вполне усердно и старательно.
Где ж тебя раньше носило, цветочек несбиранный?
— Франсуа, какого хрена ты столько лет упрямился, а?
— Предвкушение удовольствия порой намного слаще самого удовольствия…
— Фразочку сам придумал или спер у кого-то, как всегда, плагиатор несчастный?
— Сам. Колло, нельзя хотя бы самую малость поосторожнее?
— Нельзя. Потерпишь, ничего с тобой не сделается.
Сладкая, сильная судорога финала, мгновение беспамятства и темноты, дрожь в напряженных мышцах и долгий, шумный выдох. Острый, кисловато-медный привкус на языке, щекочущие капли испарины, сползающие по бокам и оставляющие за собой влажные, холодные дорожки. Лежать бы так часами, прижавшись друг к другу, и наплевать, что жестко и вдоль пола текут струйки морозного воздуха из парка, от которых пробивает озноб.
— Колло, будь другом, слезь с меня.
— Ты куда-то спешишь? — разумеется, Колло не двинулся с места.
— Если наше соглашение остается в силе, мне нужно дописать начатое, — голос у Фабра чуть осипший, словно после долгого крика, хотя он не орал, сдерживался, кусая губы. Только под самый конец начал стонать — глухо, болезненно, всякий раз стараясь отвернуться, ненавидя себя за издаваемые звуки, но не в силах одолеть собственную природу.
— В силе, в силе… — удовольствие было подпорчено. Поднявшись на ноги, Колло выместил раздражение на ни в чем не повинном диване — несколькими рывками отломав резные подлокотники и треснув по спинке так, что та отвалилась. Изогнутые диванные ножки тоже были безжалостно отломаны. Под звяканье разлетающихся гвоздей сработанный в дворцовых мастерских изящный предмет меблировки превратился в две лежанки, зато Колло несколько успокоился и объявил: — Вот. Спать здесь буду. А ты — рядом. И не вздумай смыться куда, слышишь?
— Куда я денусь… — лежавшая ничком на полу фигура задвигалась, шипя сквозь зубы, неловко и осторожно садясь. Фабр перебрал спутанный ворох сукна, шелка и полотна, отделяя свои вещи от вещей Колло, медленными, дергаными движениями натянул рубашку и панталоны. Встать у него получилось со второй попытки. Колло за это время резво пробежался по залу, вернувшись с охапкой бывших портьер и отрезов холста, использованного на обшивку Скалы, и соорудив из вороха пыльных тряпок и диванных подушек вполне приемлемое ложе. Плюхнулся, шустро закопался в ткань, как зверь в опавшие листья, и заявил:
— Долго не сиди, а то мне скучно.
— Ну так ложись и спи, — огрызнулся Эглантин.
— Я в одиночестве спать не умею, — с достоинством возразил Колло.
— Где уж тебе… Ты, наверное, ни единой ночи в жизни не провел один. Все, помолчи, не мешай мне.
В кои веки Колло не стал затевать перебранку, а послушно притих, глядя со своего лежбища на сидевшего за столом Фабра. Мерно поскрипывало перо, одна за другой догорали свечи, усталость все же взяла верх — и Колло задремал, сквозь некрепкий сон ощутив, как спустя какое-то время кто-то приткнулся рядом с ним и устало вздохнул.
* * *
Свернувшаяся калачиком на своей узкой койке Либертина так и не сумела заснуть. Вставала, смотрела в окно, на черный парк и луну в облачном небе, прихлебывала холодную, застоявшуюся воду из графина, пыталась считать прыгающих через забор овечек и шепотом повторяла затверженные наизусть куски пьес. Не помогало. Невольно представлялась Николь в стенах Консьержери — а говорят, там не хватает места, заключенных держат в переполненных камерах, там наверняка холодно и сыро, она наверняка простудится, подхватит лихорадку…
К рассвету Либертина взвинтила себя до состояния еле сдерживаемой паники и, не в силах больше оставаться в комнатушке, спустилась вниз — сама не зная, что собирается предпринять. Павильон казался теперь в два раза больше и куда светлее — Скалу все-таки выволокли наружу, она победоносно торчала среди черных ветвей облетевших каштанов — солнце дробилось в давно не мытых стеклах и пыльных зеркалах. Либертина на цыпочках подкралась к ширме, осторожно заглянула: спит Фабр или, подобно ей самой, мается бессонницей?
Почему-то увиденное ничуть ее не удивило. Ворох темно-синей ткани, расшитой лилиями и розами, взъерошенная чернявая голова и лежащая рядом с ней каштановая, стопка исписанных листов посреди стола, распластавшаяся на полу черная куртка и валяющаяся поверх нее длинная шпага в потертых ножнах.
«Я могла бы взять ее и ударить Колло, — холодно, на удивление взвешенно подумала маленькая танцовщица, глядя на оружие, на маленькие искорки, блестевшие на вытертых изгибах чашки, выполненной в виде сплетенных ветвей. — Но, скорее всего, он бы проснулся, и у меня ничего бы не получилось. Это только на сцене можно запросто убить человека, а в жизни — нет… Почему, ну почему он так поступает с нами…. с собой?»
Девушка невольно вздрогнула, заметив, что Эглантин не спит, но пристально смотрит на нее. Из складок ткани показалась рука, вытянутый указательный палец требовал: «Отойди и подожди». Либертина послушно попятилась, смотря, как Фабр осторожно, стараясь не разбудить спящего Колло, выбирается из-под старых штор, поднимается на ноги и взлезает в бриджи.
Не сговариваясь, они отошли подальше от ширмы, к окну, за которым тянулся парк.
— Я не собиралась подглядывать. И я никому ничего не скажу, — Либертина пыталась выдержать сухой и сдержанный тон: «Это ваше дело, которое меня ничуть не касается», но Эглантин отрицательно покачал головой:
— Спасибо за заботу о моей репутации, но теперь это уже не важно. Честь нынче стоит недорого, Юность, и это — просто сделка. Которую я не в силах выполнить.
— Что? — не поняла Либертина.
— Пожалуйста, не перебивай, — одернул ее Фабр. — Знаю, у меня нет права просить об этом именно тебя, но… Ты не могла бы сделать для меня кое-что?
— Да, — она ответила прежде, чем задумалась над вопросом — а что, собственно, он хочет от нее. — Конечно.
— Держи, — ей в руку порхнул обрывок бумажки. Либертина прищурилась — список улиц и номера домов, около дюжины строчек. И фамилии, знакомые фамилии. — Нужно прямо сейчас отправиться по этим адресам, и сообщить одну единственную вещь. Пусть они как можно скорее уносят ноги, но перед тем спрячут или уничтожат любые бумаги, касающиеся дел Компании. Дела Компании, запомнила?
— Запомнила, — кивнула Либертина. — Съездить и предупредить. Хорошо. Я все сделаю, только…
— Только что? — Эглантин вяло, вымученно улыбнулся. Огонек, трепетавший в нем, в каждой его фразе, жесте, взгляде, за нынешнюю ночь померк, перед Либертиной стоял просто уставший, стареющий человек, запутавшийся в своих делах и пытавшийся играть в игры, которые ему больше были не по силам.
— Не связывайтесь с Колло, — скомканно пробормотала маленькая танцовщица, глядя в пол. — Он злой.
— Я знаю, — равнодушно кивнул Фабр. — Но у него есть возможность помочь нам. И, если эту возможность пришлось купить такой ценой — значит, так тому и быть. Беги. Беги и возвращайся поскорее. У нас осталась всего неделя до праздника, ты помнишь?
— Фабр! — недовольно заорали из-за ширмы. — Шиповничек, мать твою ети, ты куда удрал с утра пораньше?
— Ступай, — Эглантин развернулся, словно напрочь позабыв о ее существовании. Шагнув к тому, кто его звал — как хорошо вышколенная собака спешит на призыв хозяина.
* * *
Самым близким местом, их тех, которые предстояло посетить Либертине, был дом Шабо на улице Сен-Оноре. Она решила, что вполне сможет добраться туда пешком — от Карузели по переулкам, мимо Рынка и бывшего Лувра, не так уж и далеко. Либертина настрого запретила себе думать о поступках Фабра, твердя в такт шагам: «Он сделал это, чтобы Колло выпустил арестованных. Колло чокнутый, это все говорят, и с ним лучше не спорить. Я не должна осуждать Фабра, он поступил, как счел нужным. И вообще, если люди спят в одной постели — это еще ничего не означает и ни о чем не говорит. Мы в пансионе тоже спали — когда не было возможности купить дров и в комнатах аж сосульки с потолка свисали…»
Занятая своими невеселыми размышлениями, маленькая танцовщица как-то не обращала внимание на то, что происходит на улицах. А зря, ибо у решетки Тюильри, где выступали самозваные ораторы, и на просторной Карузели чувствовалось какое-то нездоровое оживление — слоняющиеся туда-сюда группы переговаривающихся людей, марширующий не в ногу отряд гвардейцев, свист, выкрики. Торопившаяся Либертина свернула в сторону Старого Рынка, ведя бесконечный, беззвучный спор со своей душой, выискивая все новые и новые аргументы во оправдание Фабра, вылетела на край вечно заставленной лотками и повозками торговок площади, и оторопело замерла на месте, оглохнув и онемев.
На площади шел бой. Или свалка. Или потасовка всех со всеми. Истошный женский визг, хруст ломающегося дерева, вонь тухлой рыбы и раздавленных фруктов, мельтешение хаотически мечущихся фигур. Рядом с головой Либертины просвистела, смачно размазавшись о стену бурым пятном, подгнившая свеклина. Перепуганная танцовщица шарахнулась, ища взглядом, куда бы ей шмыгнуть и затаиться, но все двери поблизости были крепко заперты, и ворота во внутренние дворы — тоже. А по переулку, из которого она только что вышла, с улюлюканьем и воплями валило подкрепление — почему-то состоящее исключительно из женщин, тех горластых, решительных бабищ, что испокон веку торговали на Старом Рынке и в Ле Аль, Чреве Парижа.
«Мамочка!»
Либертина втиснулась в какую-то стенную нишу, безнадежно уповая на то, что ее не заметят, твердя про себя: «Меня здесь нет, меня здесь нет…» Тщетно — первая же оказавшаяся поблизости торговка, замотанная в косматый платок и топавшая по мостовой разваливающимися мужскими чоботами, сгребла Либертину за рукав, вытащив из ненадежного убежища. На обмиравшую от ужаса танцовщицу пахнуло вонью чеснока и дешевого кислого вина, рот с прогнившими зубами проорал: «Бей соплячку!» — и Либертина истошно завизжала, как крыса под каблуком, осознав: сейчас ее и в самом деле убьют. Ни за что, ни про что — из-за того, что подвернулась под руку, из-за приличного вида и хорошей одежды. Собьют с ног, растопчут по мостовой в кровавую жижу и пойдут дальше, даже не заметив ее смерти.
Торговка пихнула голосившую девчонку кулаком в грудь, Либертина отлетела в толпу, кто-то ударил ее по спине, по рукам, она бежала, не понимая, куда и зачем, пытаясь укрыться от сыпавшихся со всех сторон колотушек, закрывая руками голову, пока не упала.
Падение спасло ей жизнь — она свалилась в каменное углубление перед полуподвальным окном и застряла там, зацепившись платьем за невысокую оградку. Обеспамятев, но продолжая слышать над собой многоголосый шум, вопли, хлопки выстрелов, брань, звуки ударов и хлюпанье разлетающихся гнилых овощей. Она не пыталась выбраться или пошевелиться, звериным чутьем понимая — лучше прикинуться мертвой, выждав, когда прекратится это чудовищное побоище. Несколько раз ее пинали — скорее, по случайности, чем нарочно, потом рядом прогрохотали лошадиные копыта, и шум свалки начал отдаляться, распадаясь на отдельные звуки, растекаясь по окрестным переулкам.
Только тогда Либертина неуверенно подняла тяжелую, гудящую голову. На четвереньках отползла в сторону, свернулась под стеной, жалобно поскуливая. Болело все, чепец она потеряла, волосы слиплись и болтались перед глазами грязными сосульками. Подол платья разодран в бахрому, чулки подраны в клочья, суконный плащ весь в дырках и обляпан черной, жирной грязью.
«Хоть жива осталась…»
Похоже, она провалялась тут довольно долго. Солнце ушло за крыши, по засыпанной обломками и остатками побоища площади шмыгали, периодически наклоняясь, вороватые черные тени. То ли торговки пытались собрать уцелевшее добро, то ли добрые граждане спешили прибрать все, что плохо лежит. Либертине было все едино — она хотела только убраться отсюда, вернуться в Павильон, рухнуть на свою кровать и уснуть.
— Помогите… — пробормотала она, когда напротив нее остановились две пары чьих-то ног. Выше взгляд не поднимался — в шее сразу начинало что-то противно хрустеть. — Помогите…
Тень протянула руку, повернула ее лицо туда-сюда, убрала со лба окровавленные волосы.
— Как же не помочь, непременно поможем… Смотри-ка, молоденькая. И на мордашку вроде ничего.
— Может, не надо, а?..
— Да что она потом вспомнит, ее, похоже, по башке приложили, еле шевелится… Давай, поднимай ее. Ну-ка вставай, гражданка, родина в опасности…
Руки, вздергивающие ее с холодной мостовой, забирающиеся под плащ, нетерпеливо ощупывающие ее тело под платьем.
— Сойдет. Понесли.
Ее подхватывают под колени и под мышки, несут, как мешок, она раскачивается, на лицо падают отсветы факелов.
— Что там у вас?
— Девчонку затоптали…
— Дурищи полоумные, нет им покоя, разогнать их давно пора, с этими клубами да обществами… Чтоб носу впредь со своих кухонь не казали и вякнуть не смели!
«Помогите», — шепчет Либертина, бывшая Катрин Леконт. Никто не слышит ее беззвучного шепота, ее уносят невесть куда, в сырые, волглые сумерки, навстречу приближающемуся вечеру.
* * *
День выдался скверным и суматошным — по вине разошедшейся Лакомб и ее «драгун в юбках», учинивших побоище с торговками Старого Рынка. Добро бы полоумные дамочки из Общества свободных женщин хотя бы одержали верх над спекулянтками, но сплотившиеся торговки разнесли самозваных якобинок в пух и прах, изловили сумасбродку Клару, и если верить донесениям, то ли швырнули в навозную кучу, то ли вываляли в дегте. Неподкупный, однако, сомневался, что даже столь печальный опыт хоть немного образумит вспыльчивую бывшую актерку, вообразившую себя не иначе, как Богиней Свободы. Зато наконец появился достойный повод убрать девицу Лакомб туда, где ей самое место — за решетку Люксембурга. Дабы более не смущала своими вздорными речами добропорядочных гражданок, не устраивала волнений и не тужилась сравняться с мужчинами. Равенство полов — это хорошо и прекрасно… но только когда женщины научатся мыслить самостоятельно, а сие эпохальное событие грядет очень и очень не скоро.
«Клуб разогнать, Лакомб арестовать и публично осудить, виновных наказать», — резолюция была простой, краткой и емкой, следовательно — верной…
Грохнула дверь кабинета. Грохот непреложно означал, что изволил пожаловать Колло — целый день шатавшийся невесть где, а теперь явившийся. С оскалом в тридцать три зуба и донельзя довольный собой. Притащивший под мышкой сафьяновую папку и с размаху грохнувший ее на стол перед Максимильеном Робеспьером, с тем расчетом, чтобы прочие бумаги разлетелись в стороны.
— Макс, я принес тебе отличный подарочек, а то ты сидишь с такой кислой физиономией… Что там за бардак днем случился в городе, со стрельбой и воплями? Роялисты наконец собрались с духом и восстали?
— Ближе к народу надо быть, тогда и дурацких вопросов задавать не будешь, — сухо припечатал Робеспьер, зная, что все его увещевания бесполезны и отскакивают от этой самовлюбленной скотины, как ядра от крепостной стены. Однако на всякий случай он открыл принесенную папку, близоруко вглядевшись сквозь стекла очков в исписанные страницы. Неплохой почерк, правильный язык — значит, не сам Колло писал, у того ошибка на ошибке. Цифры, фамилии, имена, подсчеты. — Колло, что ты мне притащил?
— Сведения о подлинной истории ликвидации Ост-Индской Компании с подробностями и балансами, — словно заученный урок, лихо отбарабанил Колло.
— Но… откуда? — пожалуй, впервые за последний год добыча Колло по-настоящему удивила Неподкупного.
— Фабр поделился по старой дружбе. Я его уговорил, — пакостный, двусмысленный смешок. — И он все написал, кто, когда, кого и с кем. Можно брать их всех тепленькими за жабры.
Максимильен снял с остренького носа очки, извлек из кармана сюртука платок и принялся медленно, тщательно протирать стекла. Колло по своей всегдашней привычке разгуливал по кабинету, то проводя пальцем по корешкам стоящих в шкафу книг, то рассматривая сто раз виденную гравюру на стене. Робеспьер размышлял — четко, взвешивая на весах логики все «за» и «против», все «да» и «нет». Сведения на первый взгляд казались верными, богатая Компания и в самом деле закрылась как-то очень и очень выгодно для себя, успев напоследок устроить бум с акциями.
Фабра, секретаря Дантона, изрядного болтуна, вечно ходившего в долгах, Неподкупный держал за личность темную и подозрительную — нехотя признавая, что у бывшего комедианта и в самом деле имеется незаурядный талант к финансовым мошенничествам и деньги просто липнут у него к пальцам. Но с какой стати Фабр вдруг так разоткровенничался, да тем более — с Колло? Правда, оба — бывшие актеры, и до того, как в Конвенте началось столько резкое противостояние сторонников Неподкупного и сторонников Дантона, эта парочка частенько вместе шаталась по кабакам и прочим непотребным заведениям.
Колло тем временем стянул со стола отчет о сегодняшнем происшествии на рыночной площади, прочитал и захихикал.
— Вот будет представление, если натравить Фабра на эту Лакомб, — мечтательно прижмурившись, заявил он. — Бесплатный балаган для всех желающих.
— Колло, — Максимильен водрузил очки обратно на нос и чинно сложил узенькие сухие ладошки на сафьяновой папке. — Почему Эглантин решил открыть тебе свои секреты? Ведь в этом отчете перечислены друзья его и Дантона …
— Струсил, наверное, — дернул плечом Колло. — Знаешь, Макс, на твоем месте я бы не ломал голову, зачем да почему, а подмахнул ордера на арест всей этой шайки и был счастлив.
«Вот когда будешь на моем месте — тогда и распоряжайся», — чуть было не вырвалось у Робеспьера, раздраженного тем, что Колло опять именует его «Максом» — непристойное, вульгарное сокращение, прямо арго какое-то. Нет, если бы Колло оказался в кресле председателя Комитета Общественного Спасения, это был бы воплощенный кошмар, ужас и гибель Республики. И вообще, Колло в последнее время слишком много себе позволяет. Его убрали в этот дурацкий балаган, чтобы сидел там тихо и не мозолил глаза, а он умудрился влезть в совершенно не касающееся его дело и добиться потрясающих успехов…
Колло же думал о другом — заикаться о Театре Нации или промолчать. Давеча он четверть часа просидел на подоконнике в коридоре Конвента, занимаясь крайне непривычным ему делом — соображая. Он вполне может сказать Франсуа, что передал его бумаги Робеспьеру, настойчиво попросив похлопотать о смягчении участи арестованной труппы. Ясно, что Фабр никогда в жизни не заявится к Неподкупному, выясняя, передал ли Колло его просьбу. У Эглантина может достать ума натравить на Неподкупного Дантона, но эта парочка начнет бодаться до посинения. Если Макс скажет «белое», Дантон тут же бросится доказывать, что «черное». Стало быть, Фабр не узнает правды. Замечательно. Он может сколько угодно таскаться в Консьержери, дергать за ниточки — но при том будет оставаться в зависимости от него, Колло. А Колло, в свою очередь, будет охотно подкармливать его обещаниями и всякий ночь укладывать в постельку, себе на радость. И все будут счастливы.
Кроме Шиповничка, ну так кто ж его спрашивает?
— Мы обсудим это на нынешнем вечернем заседании Комитета, — вынес свой приговор Робеспьер. — У тебя все? Тогда займись чем-нибудь полезным. Съезди в Люксембург, помоги Ленде разобраться с этими обезумевшими женщинами. Но! — Максимильен наставительно поднял тонкий палец. — Постарайся обойтись без увечий, жалоб и обесчещенных патриоток. Ты меня понял, Колло?
— Да понял, понял, не дурак.
«Хотя бы поблагодарил, хрыч сушеный, пудреный, никуда не годный!»
* * *
Она стала маленькой лодочкой, плывущей по затянутой туманом широкой реке, лодочкой, увлекаемой течением и приткнувшейся в конце концов к берегу. Бесформенные, расплывчатые очертания обрели резкость, и Либертина поняла, что лежит на чем-то мягком, смотря в потолок, расписанный бледными, чуть облупившимися розами. А повернув голову влево, она увидела сидевшую в кресле незнакомую молодую женщину в скромном домашнем платье — женщину с узлом каштановых кос на затылке, уютно-привлекательную, словно лучившуюся спокойной доброжелательностью. Женщина читала, изредка поглядывая на Либертину.
Заметив, что маленькая танцовщица открыла глаза, дама не спеша отложила книгу и поднялась. Либертине понадобилось несколько мгновений, чтобы сообразить — незнакомка в тягости, причем на изрядном сроке — и тут перед ее лицом возникла фарфоровая кружка с носиком-поилкой.
Либертина пила долго, приходя в себя, озираясь и прислушиваясь к собственному телу. Удивленно взглянула на собственные кисти, аккуратно перевязанные бинтами, скривилась, ощутив, как неприятно режет в левом боку — словно кости скребут о кости. Где она, что с ней произошло, кто эта женщина — сиделка?
— С возвращением в мир живых, — мягко произнесла незнакомка. — Меня зовут Беатрис, а ты — Либертина…
— Катрин, — маленькая танцовщица с трудом признала свой голос, скрипучий и какой-то неприятный. Либертина умерла, Либертины больше нет и никогда не будет.
— Хорошо, пусть Катрин, — столь же невозмутимо согласилась Беатрис. — Не волнуйся, ты в безопасности. Когда ты ушла и не вернулась, Франсуа обеспокоился и принялся тебя разыскивать. К сожалению, мы наткнулись на тебя только вчера — в лазарете при бывшем монастыре святой Екатерины…
— Кто такой Франсуа? — перебила Катрин. Рассыпанные кусочки складывались в мозаику, в картину, в воспоминания о драке на площади Старого Рынка, об ударах, страхе… о подвале. Подвале и раскачивающейся лампе, о державших ее руках, о…
Катрин зажмурилась. Беатрис умолкла, взяв ее за руку и согревая холодную ладошку маленькой актрисы своими ладонями, не высказывая напрасного сочувствия, но стараясь успокоить. Прося Господа благословить и не оставить милостью своей тех людей, что наткнулись на валявшуюся в переулке девочку и потрудились отнести ее в лазарет, за то, что Фабру посчастливилось отыскать свою пропавшую подопечную, и за то, что дух и тело Катрин оказались достаточно крепки, чтобы не позволить ей сломаться.
— Франсуа Фабр, помнишь такого? — наконец заговорила Беатрис, когда рыженькая девушка вновь открыла глаза. Сухие, без малейших признаков слез.
— Эглантин. Я просто не знала, что его зовут Франсуа. Вы его подруга, да? Это его дом? -Беатрис кивала гладко причесанной головкой в ответ на каждый вопрос. — Праздник! — Катрин попыталась вскочить, рухнула обратно и в панике заметалась по постели. — Праздник, а я все испортила! Всех подвела!
— Праздник уже состоялся, — за спиной Беатрис скрипнула открывающаяся дверь, пропуская Фабра. Завидев его, Катрин сделала вялую попытку с головой укрыться под одеялом. — К моему величайшему сожалению, нам пришлось обойтись без Гения Юности, но в целом народ и Конвент остались довольны красочным балаганом. Беатрис, как она?
— Жить будет. Возможно даже, долго и счастливо, — откликнулась Беатрис. — Если ты не станешь каждые четверть часа тормошить несчастного ребенка расспросами, дашь ей спокойно выспаться, а потом поесть. Вас, актеров, Господь лепил из какой-то особой глины, не такой, как прочих смертных — с такой яростью вы цепляетесь за жизнь. Все, дорогой, ступай.
Эглантин ободряюще улыбнулся ей на прощание — почти как прежде, теплым солнечным отблеском — и вышел. Беатрис уселась на прежнее место и раскрыла книгу на заложенной закладкой странице. Потрескивали дрова в печках, за окнами кружились первые робкие снежинки, безнадежно стараясь перекрасить грязную парижскую мостовую в белый цвет.
Покосившийся дорожный указатель оповещал всех странствующих и путешествующих о том, что перед ними поворот к мосту через реку Об. Поворот был, и проселочная дорога была, и спуск вниз, и неширокая речка Об тоже никуда не делась.
В общем, было все. Кроме моста.
От моста, то ли снесенного паводком в минувшую весну, то ли рухнувшего от общей ветхости, остались торчащие из черной воды деревянные опоры да кое-где остатки настила. Река Об с идиотической величавостью несла куда-то грязно-серые льдины. Кругом, сколько хватало глаз, простирались занесенные мокрым снегом холмы и унылого вида рощицы. В рощицах орали вороны. Был медленно клонившийся к сумеркам один из дней месяца нивоза второго года Республики, а проще говоря — середина января. С секущей низовой поземкой, ледяным ветерком, коварно проникающим под одежду, с невеликим вроде холодом, от которого ломит суставы пальцев и невольно наворачиваются слезы на глаза. В такую погоду лишь безумец или застигнутый крайней необходимостью человек покинет уютный теплый дом, и нет занятия лучше, чем сидеть у растопленного очага и мечтать о будущем лете.
Зима, провинция, запустение, безлюдье…
Безлюдье, впрочем, было неполным — на том берегу Об, где торчал указатель, стояла бричка, и возле нее застыли в явной растерянности двое путников. С другой стороны, эта парочка присутствием своим отнюдь не нарушала вселенскую гармонию зимнего запустения. Напротив, она вписывалась в нее как нельзя лучше. Ибо, во-первых, именно крайняя необходимость гнала этих двоих в путь; а во-вторых, только безумец способен запрячь легкую прогулочную бричку парой громадных, как мамонты, клайдсдейлов.
— М-мост, — сказал один из путешественников, тот, что пониже ростом и поизящнее сложением. Он был одет в черное тонкое полупальто с поднятым воротником, неизменный шарф-триколор и (о дивное сочетание!) фригийский колпак. Похоже, ему было очень холодно, судя по тому, как стучали его зубы, как он ёжился и сутулился, зябко притопывая разбитыми чоботами и стараясь поглубже спрятать руки в карманы своего вздорного пальтеца.
— Да что ты? — радостно изумился второй, постарше и покрепче, одетый с куда большей основательностью в толстое пальто с меховым подбоем, дорогой полуцилиндр и теплые суконные бурки. — Где?!
— М-мост… рухнул. П-проклятье!..
— А-а, — в голосе того, что постарше, слышалось неподдельное разочарование. Нипочем нельзя было заподозрить в этом голосе даже тень издевки. Тем не менее она там имелась. Всегда. Уж таков был Франсуа Фабр по прозвищу Шиповник. — Так ты видишь то же, что и я? А я-то было решил, что глаза меня обманывают. Ну что ж, с мостами такое случается, Камиль. Увы.
— Что же нам делать, Фабр? Что нам д-делать?!
— Ну-ну, без паники, друг мой. Вернемся на тракт и попробуем сыскать объездную дорогу, вот и все. Ручаюсь, мы потеряем не более получаса.
Клайдсдейлы, топая с присущей их породе неторопливостью, выволокли бричку обратно на большак. Меховая полость из пахучей овчины грела приятно, хотя и недостаточно. Камиль Демулен стучал зубами и непрерывно бухтел:
— Будь п-проклята эта зима! Будь п-проклята французская провинция! Что за н-народ — свергли монархию, а п-порушенный мост отстроить не могут... Черт бы п-побрал этого Д-дантона, ради которого мы тащимся н-невесть куда, бросив все на свете! И ты тоже х-хорош, Фабр. Я ведь говорил, надо было ехать д-дилижансом!..
— О, Камиль, я даже не сомневаюсь — будь ты на моем месте, ты устроил бы все в наилучшем виде, — вздохнул Фабр. — Раздобыл бы места в дилижансе. И заодно подорожную до самого Арси для двух опальных членов Конвента. Выступил бы с п-п-пламенной речью на городской заставе, убедив гвардейцев нас не арестовывать…
— Уж по крайней м-мере не запряг бы тяжеловозов в открытую б-бричку! По зиме-то! — взъярился Демулен. — И вообще, дразниться н-недостойно, г-гражданин!
— Мне можно. Вот Макс у нас — Гражданин Неподкупный, а я гражданин Недостойный, — отвечал Фабр. — Скажи спасибо, что удалось раздобыть хоть такой экипаж. И то пришлось стращать хозяина депутатским мандатом. Удачно, что мы вообще выбрались из города незамеченными. А уж коли нам удастся уговорить Дантона, это будет совсем невероятное везение.
— Я смотрю, у тебя н-на все ответ готов, — буркнул Камиль, нахохлясь и по самые глаза уползая под теплую защиту полости. — М-может, господин Всезнайка, скажешь еще, как нам н-найти это треклятое Арси? Сдается мне, м-мы заблудились…
— Как-как, — пожал плечами Фабр. — Остается одно. Пойдем в народ.
— М-мы уже ходили в народ, — мрачно возразил Камиль Демулен. — Целых два раза.
Предыдущие «хождения в народ» в поисках кратчайшей дороги до Арси оставили в памяти парижского журналиста неизгладимый след. Первого встреченного ими пейзанина полез допрашивать лично Камиль — в то время он еще не окоченел в лед и был полон энтузиазма. Здоровенный, диковатого вида мужик, до самых глаз заросший сивой бородой, от жизнерадостного камилева «Да здравствует Революция, гражданин!» немедленно впал в прострацию и, сколь ни пытал его Демулен, твердил только «виноват!» (иногда, впрочем, сбиваясь на совсем уж неуместное «виват!»). Следующего взялся расспросить Фабр, но и тут вышла осечка: едва завидев представительного господина, с воплем «Эй, любезнейший!» вылезающего из запряженной гигантскими конями брички, некий юный абориген так чесанул в заснеженные поля, что вскорости и вовсе исчез из виду.
В это время дня и года второстепенный тракт был практически безлюден, местные жители встречались редко. Проклиная всех и вся, исполняющий обязанности возницы Фабр решил довериться дорожным указателям. Какое-то время путешествие шло неплохо, покуда очередной столбик со стрелкой не привел их на крутой берег реки Об.
— Нам просто не повезло. Но не будем отчаиваться, друг мой. Бог Троицу любит.
— Бога отменили, — сварливо возразил Демулен. — У нас теперь Верховное Существо, не забыл?
— О, прошу прощения. Верховное Существо Троицу любит. Кстати! Любопытный предмет для теологического диспута — проблема триединства и антагонизма применительно к Верховному Существу. Бога мы отменили, но как быть с дьяволом? Логично предположить, что если есть Верховное Существо, то должно быть и некое Верховное Несущество — назовем его, к примеру, Великим Деструктором — на котором лежит ответственность за…
— Франсуа! — взвыл Камиль. — Что ты н-несешь, во имя Верховного Н-несущества? У меня от холода член стал меньше б-большого пальца, а ты рассуждаешь о проблемах т-триединства?!
— Не тебе одному холодно, Камиль. Вот у меня, например, начинают замерзать мозги, и я отогреваю их доступным способом — пытаюсь думать, — с достоинством возразил Фабр. — Совершенно не вижу, каким образом резкое уменьшение линейных размеров твоего члена может помешать философскому осмыслению проблемы триединства божественной Сущности…
— Франсуа. З-заткнись, пожалуйста, а? П-просто… заткнись.
В молчании проехали пару лье. Сгущалась тьма. Ветер закручивал белоснежные смерчики поземки вокруг копыт мерно ступающих клайдсдейлов. Фабр по самые глаза закрыл лицо шарфом, втянул голову в плечи, помаленьку начиная клевать носом. Вдруг Демулен оживился, выпростал руку из-под овчины и завопил, тыча пальцем куда-то в темноту:
— Человек! Человек! Живой человек!
Фабр вздрогнул, помотал головой. Впереди на обочине нарисовалась расплывшаяся, медленно бредущая фигура побольше, за которой, как привязанная, тащилась угловатая фигура поменьше. По мере приближения стали отчетливо различимы чепец на большой фигуре, бесформенной от бесчисленных шалей, и рога на меньшей, в самом деле привязанной. Поселянка с козой.
— Да ведь это женщина. Притом зажиточная, судя по наличию домашнего животного. Эй, красавица! — молодецки гаркнул Фабр, вставая в бричке.
Пейзанка обернулась на зов, неторопливая, как клайдсдейл.
— Кому и кобыла красавица, — сипло и равнодушно молвила она. — Чего надо?
— Нам бы в Арси, милая, — сказал Фабр, вложив в мольбу такой заряд искренности и обаяния, что растаяла бы и снежная баба. — Друг у меня совсем плох. Замерз, вишь…
— Дак чего надо-то?..
Камиль тихонько зарычал и завозился под овчиной. Фабр, не снимая с лица улыбки, крепко наступил ему на ногу.
— В Арси едем, — повторил он медленно и внятно. — Сами мы не местные. С дороги сбились. Заплутали, стало быть. Подскажи дорогу, красавица? Уж мы в долгу-то…
— Кому и кобыла красавица…
Улыбка Фабра начала помаленьку сползать с физиономии. Но в эту секунду нечто в мыслительном аппарате селянки, скрипнув и щелкнув, сработало в нужном направлении, и она выдала наконец требуемое:
— Вдоль реки ежжайте, как ехали. На развилке, где обломок креста, вертаете налево, к новому мосту. За Об, а там вверх по дороге, да через холмы. Как проедете бывшее аббатство, так еще направо, и будет вам Арси во всей красе. Ежли только право-лево не спутаете. Ездют всякие, дороги не знаючи, и чего ездют… Городские, что ль?
— Из Парижа мы, — подтвердил Фабр. — Спасибо, гражданка! Республика вас не забудет.
— Н-но и не вспомнит, — вполголоса пробормотал Камиль.
К этому времени медленно влачащаяся бричка поравнялась с поселянкой, и Фабр, перегнувшись с козел, протянул пару банковских билетов — деньги Коммуны. У женщины было неподвижное румяное лицо, казалось, совершенно лишенное возраста. Она машинально взяла ассигнации, поднесла к глазам и озадаченно нахмурилась, будто впервые увидев эдакую штуку. Не исключено, впрочем, что так оно и было на самом деле — бумажные ассигнации нового режима теоретически имели хождение по всей стране, но на практике не стоили даже бумаги, на которой их печатали. Уже в сотне лье от столицы крестьяне предпочитали либо натуральный обмен, либо медь и серебро павшей монархии.
— Из Парижа, что ль? — тупо повторила крестьянка.
— Да, из Парижа, ч-черт возьми! — не выдержал Демулен, возникая из нутра брички, как злобный чертик из шкатулки с сюрпризом. — Из самого К-конвента! От гражданина Н-неподкупного вам пламенный п-привет!
Тут с лицом крестьянки произошли удивительные перемены, при виде которых Фабр поторопился хлестнуть лошадей, чтоб двигались побыстрей.
— Да чтоб вас там всех вспучило! — понеслось вслед. — Чтоб вас там перекорежило да шлепнуло, болтунов клятых! А главного вашего, который Неподкупный, чтоб черт горячей кочергой в задницу отжарил! Чтоб ему…
Дальнейшие благопожелания доброй женщины унес ветер. Клайдсдейлы, безжалостно нахлестываемые возницей, пошли резвым шагом. Фабр сделался мрачен. Демулен, вжавшись в угол брички под своей овчиною, потрясенно молчал.
— Франсуа, — наконец слабым голосом окликнул он. — Где мы, Франсуа? Кто все эти люди?
— Это, Камиль, народ, — с непередаваемо ядовитой интонацией отвечал Фабр. — Те самые простые крестьяне, нужды и чаяния которых ты так красноречиво расписывал в своей дурацкой газетенке. Как видишь, они нас очень любят. Если поймают, могут залюбить до смерти.
— Но за что, Франсуа? Почему?
Фабр промолчал.
— В-ведь именно ради их блага мы свергали монархию! — первоначальное потрясение миновало, голос Демулена окреп и звенел подлинным негодованием. — Ради них штурмовали Бастилию! Ради них вся наша р-революция! Свобода, равенство, б-братство! Разве не так, Фабр? С-скажи, разве не так?
Фабр вздохнул.
— Так, Камиль, — устало сказал он. — Все так. Когда-то все это казалось хорошей идеей. Только, сдается мне, на каком-то перекрестке мы свернули не туда. Теперь уж и возница правит наугад, и указатели все врут, и некого спросить, и темнота кругом. Одна надежда — кони вывезут.
* * *
И кони вывезли, и возница угадал, ни разу не попутав «право» и «лево»; и не подвернулась по дороге неучтенная канава, так что спустя пару часов засверкали впереди тусклые огни вожделенного Арси, показавшиеся двум окоченевшим путникам ярче звезд и дороже коронных бриллиантов. Новый мост — каменный, не деревянный — выгнулся над руслом подернувшейся ледком реки Об. Умученная долгой дорогой бричка потрескивала и покрякивала на малейших неровностях, и Фабр с ужасом ожидал, что вот-вот раздастся хруст, извещающий о сломанной оси. Тогда оставшиеся два или три лье до города им придется ковылять пешком, ведя коней в поводу. А это невозможно. По очень простой причине — опорки Камиля развалятся после первых же ста шагов по снегу.
— Гражданин Демулен, позвольте интимный вопрос?
— М-м-м?..
— Где вы раздобыли столь дивную обувь, гражданин Демулен? Редкая вещь, натуральный, я б сказал, антик. Ручаюсь, их носил какой-нибудь бравый мушкетер еще во времена Ришелье. Ба! Да после капитальной реставрации эти боты могли бы стоить кучу денег! Самое малое полтора су, а то и два. Так где ты их нашел, Камиль? На городской свалке?
— М-м… мне подарили студенты. После выступления в Сорбонне.
— Не может быть! Вероятно, даже видавших всякое сорбоннских студентов покоробил тот факт, что один из вождей Коммуны вышел на трибуну босиком. Ну, а уж они-то точно отыскали их на свалке. Но, верно, хорошенько смазали ваксой, прежде чем преподнести столь видному политическому деятелю на долгую, добрую память. Как полагаешь?
— З-зачем ты всегда надо мной издеваешься, Франсуа?
— А зачем ты даешь к этому повод, Камиль? Перчатки драные, сапоги рваные, пальто — стыдно даже сказать, что за пальто… колпак этот непристойный… — въедливо перечислил Фабр. — И это называется — пламенный трибун, один из столпов Коммуны, основатель Якобинского клуба! Да, я понимаю, типография, газета, семья, расходы… Но вот у меня, к примеру, тоже расходы. Тем не менее ассигнаты в моем кошельке пока не перевелись, и одеваюсь я как приличный гражданин. А не как клошар.
— И что с того? П-предлагаешь поступить к тебе на с-содержание? — обидчиво фыркнули из глубин овчинной полости.
«Можно подумать, это станет для тебя новостью», — у Эглантина, при всей его язвительности, на сей раз хватило такта придержать язык и не задевать лишний раз болезненное самолюбие Демулена.
— Нет, Камиль, — вздохнул он. — Столь далеко моя любовь к тебе не простирается. Давай лучше я тебе сапоги приличные куплю. Чтоб не позорил в своем лице Республику.
В ту пору, когда Ост-Индская Компания процветала, Фабр, один из содиректоров, охотно ссужал журналиста и его семейство деньгами — прекрасно зная, что этот долг вряд ли будет когда-либо возвращен. Но с тех пор, как издаваемый Камилем «Старый Кордельер» прикрыли указом Конвента, дела четы Демулен шли все хуже и хуже. Прелестная барышня Люсиль совершенно растерялась, оказавшись фактически без гроша за душой, да еще и с ребенком на руках. Камиль же всегда нуждался в ведущем, в человеке, за которым можно идти следом, а в случае надобности — за ним укрыться. В личности, сильной духом и разумом. Фабр таковой личностью не был, в чем вполне отдавал себе отчет. Он был самодостаточен — но и только.
Когда Жорж Жак Дантон вдруг плюнул на все и удалился от дел в свое захолустье, Камиль Демулен остался один пред ужасающим ликом реальности. Такого испытания трепетная натура журналиста вынести не могла, и Демулен заметался в поисках новой опоры. К тому времени Великая Французская Революция, начавшая пожирать собственных творцов, уже отправила в лучший мир большую часть сколько-нибудь ярких личностей; положение тех, кто пребывал еще в этом мире, стало весьма шатким. Непотопляемые монстры из прокуратуры были чересчур страшны, большинство «комитетских» внушали ужас. Оставался Франсуа Фабр, старый добрый друг, и Демулен привычно кинулся к нему, искать защиты от мира и одиночества. А Фабр, прекрасно понимавший, что к чему, отказать Камилю не смог. Потому что бояться вместе было вроде бы легче.
Идея с поездкой принадлежала Фабру. Вернее, она с осени минувшего года витала в воздухе, но только у Эглантина достало духу заявить: «Все, к черту, хватит устраивать эпистолярный роман! Мы просто поедем туда, к нему, и расскажем обо всем, что здесь творится. Заставим его выслушать нас, если понадобится!»
«Туда» — означало «в Арси», маленький уютный городок рядом с Труа, всего в каком-то дне пути от Парижа. «К нему» — к Жорж Жаку Дантону, духовному вождю и предводителю их сообщества, прошлой осенью прихватившему молодую жену и детишек и разумно удалившемуся из охваченного революционным безумием Парижа в тихую семейную бухту.
— А ты, Камиль, поедешь со мной, — непререкаемым тоном заявил Фабр. — Все равно тебе в городе делать нечего. Газету твою закрыли, из клуба тебя выгнали, не сегодня-завтра вообще за решетку отправят. Хоть одно хорошее дело совершишь напоследок.
…Старое аббатство выплыло из снежных сумерек неожиданно. Оба путешественника помнили это место цветущим и населенным, каким оно было несколько лет назад. Теперь оно стало огромной темной массой с черными провалами выбитых окон и провалившейся крыши. Миновав аббатство, уже можно было разглядеть сквозь пелену летящих снежинок смутно мерцающие огни окраинных домиков городка Арси.
Приободрившиеся от близкого запаха человеческого жилья тяжеловозы затопали резвее, под колесами брички шипел и вязко чавкал перемешанный с грязью снег.
Патриархальное затишье, картинка к Рождеству. Пустые улицы, слаженное фырканье лошадей. Поворот налево, поворот направо, решетка, ворота, изъеденные временем каменные горгульи на столбах. Обширный палисадник, заметенный снегом, и виднеющийся за деревьями трехэтажный особняк. Дом, где почтенное семейство рано ложится спать, где горит единственное окно внизу — должно быть, в каморке привратника, — и где совершенно не ожидают поздних гостей.
Долгие препирательства сквозь закрытую дверь с тугим на ухо сторожем. Ожидание, пока пошлют за хозяином. И, наконец, знакомый бас, без остатка заполняющий маленький холл:
— Что?! Кто приехал?! Да открывайте же!..
Грохот вытаскиваемых засовов, щелканье замков. В маленьком провинциальном городке Арси берегут свое добро и всегда тщательно запирают двери на ночь. Грязные следы на чисто выскобленном полу, встревоженно-заспанная экономка в чепце и шали поверх капота, вспыхнувшая суета.
* * *
От обильного и вкусного позднего ужина Камиля разморило и начало клонить в сон. Оживленная перепалка Дантона и Эглантина доносилась до него словно издалека, пригревшийся в кресле журналист клевал носом, мечтая о возможности поскорее лечь и проспать хотя бы пару часов. Наконец явившаяся на зов хозяина служанка, украдкой позевывая в ладонь, отвела гостей в приготовленную для них комнату — где Камиль первым делом углядел застеленный простынями диван, плюхнулся на него и исчез для мира.
Когда он проснулся, в занавесочных щелях брезжил серенький рассвет. На соседней кровати безмятежно посапывал Фабр, повернувшись носом к стене. Поёживаясь от утреннего холодка, Камиль Демулен спустил ноги с дивана и пошлепал искать отхожее место. Спустя пять минут с легкостью на душе он вернулся. Осторожно, чтоб не скрипели петли и не проснулся милый Франсуа, приоткрыл дверь, бочком протиснулся в комнату, предвкушая еще пару часов утренней, самой сладкой, дремы. Поднял глаза. Обомлел.
Гигантская фигура в белом шевельнулась ему навстречу, из-под потолка глянуло жуткое бескровное лицо с темными провалами глазниц. Легко взлетела невесомая кисть в широком рукаве, безошибочно нацелясь на вошедшего. Знакомый до одури голос Робеспьера вопросил холодно и торжественно:
— Гражданин! Что ты сделал сегодня для Революции?
— М-мама, — пролепетал знаменитый парижский журналист, съезжая спиной по дверному косяку, и уселся на холодный пол. — Мама.
— Какая я тебе мама?! — возмущенно заявил Фабр уже своим настоящим голосом. Спрыгнув с табурета, он широким взмахом отшвырнул в угол простынную драпировку и принялся стирать со щек примитивный грим из побелки и свечной копоти. — Я ему в лучшем виде явление обвиняющего призрака изобразил, а он — «мама»… И вообще, гражданин, стыдитесь! Как штурмовать Бастилию и обличать тиранию — вы в первых рядах. А какого-то паршивого призрака убоялись… Камиль! Камиль, ты чего? Может, воды?..
Он присел на корточки рядом с приятелем, озабоченно заглядывая журналисту в лицо. Демулен, держась за сердце, слабо икал.
— Камиль, я же просто пошутить хотел…
— Ш-шутник… — просипел Камиль. — Фигляр ярмарочный… За такие ш-шутки…
— Бьют морду канделябром, — с готовностью подхватил Фабр. Протянул руку, чтобы помочь Камилю подняться, случайно взглянул вниз — и зафыркал, отчаянно стараясь подавить невольно рвущийся наружу смех.
— Что тут см-мешного?! — немедленно воспылал негодованием Камиль, пытаясь укрыть подолом одолженной ночной рубашки вязаные чулки. Полосатые, патриотических цветов, с отдельным большим пальцем. — Это Люсиль с-связала!
— Ничего-ничего, Камиль, выглядит просто прелестно, — поспешно заверил Эглантин, но от искушения развить тему все же не удержался: — Мне кажется или первоначально это задумывалось как перчатки? Все-все-все, уже молчу! Не сиди на полу, иначе застудишь… эээ… жизненно важные органы и станешь непригоден для нужд Коммуны. Пошли досыпать. В хранимой Верховным Существом французской провинции встают поздно, им тут спешить некуда. Постой, не туда! Извини, твое ложе совсем остыло — я его распотрошил на реквизит. Заваливайся ко мне, тут тепло…
Ненавязчиво подпихнутый в нужном направлении Камиль послушно юркнул под одеяло, привалившись к устроившемуся рядом приятелю. Странное дело, за минувшие месяцы он привык засыпать и просыпаться рядом с Франсуа — и не испытывать при том ни смущения, ни конфузливой растерянности. Словно так оно и должно было быть. Вместе теплее и спокойнее. Вместе не так страшно. Вместе проще.
Однако спать после пережитого испуга расхотелось. Пепельно-серое зимнее марево за окнами неспешно наливалось бледно-оранжевыми красками.
— Франсуа, а Франсуа…
— Что, Камиль?..
— Зачем ты устроил эту дурацкую м-мистерию?
— Хмм… Да просто так. Вздумалось пошалить, как встарь, вот и все. А заодно напугать тебя… самую малость. Ты временами бываешь таким забавным.
— Забавным? Пошалить?! Тоже мне, шалун. К-котенка себе купи и с ним з-забавляйся.
— Котенок, верно. В самую точку. Если поймать маленького, задиристого котенка и пугать его растопыренной пятерней, он так смешно злится, шипит и топорщит шерсть… Правда, на сей раз котенок из тебя вышел какой-то полудохлый. Совсем доконала тебя эта революция, Камиль.
— По-твоему, я похож на к-котенка?!
От возмущения Камиль приподнялся на локте, но был немедленно опрокинут обратно и припечатан безжалостным вердиктом:
— Конечно, похож. Вот сейчас, кстати, особенно похож. Ну-ка, проверим — хвост трубой или еще нет?..
Камиль сердито одернул на себе одеяло, избавляясь от посягательств насмешника, отвернулся к стене и оскорбленно замолчал. Фабр вскоре угомонился, тоже примолк, сосредоточенно разглядывая беленый потолок, перехваченный крест-накрест массивными темными балками. В конце концов журналист не выдержал первым:
— О ч-чем задумался?
— Так, ни о чем, — далеким голосом откликнулся Фабр. — Я так странно себя чувствую… Вот мы приехали сюда, в Арси, чтобы убедить Дантона вернуться в Париж. Бросить к чертовой матери молодую жену, променять трюфели к ужину и семейную идиллию на нескончаемые конвентские склоки — ради Коммуны, или ради Франции, или уж не знаю ради чего… Нам предстоит быть дьявольски убедительными — но, Камиль, мне сейчас отчего-то ужасно не хочется быть убедительным. Совсем-совсем не хочется, друг мой.
— Но ты же п-понимаешь…
— Понимаю, Камиль! Но не хочу. Помнишь, Жорж Жак вчера за ужином говорил… Впрочем, нет, не помнишь. Ты тогда уже спал, или почти спал. Так вот, он трубил, будто бы и сам не вернется в Париж, и нас туда не пустит, а устроит у себя при доме, покуда не закончится вся эта кровавая кутерьма. Представь, он предлагал мне место истопника, а тебя, Камиль, тебя этот извращенец хотел сделать садовником…
— М-меня садовником?!..
— Ну да. Одеть в тюрбан и шелковые шаровары, вдеть в ухо золотую серьгу… Не спеши протестовать, потому что, во-первых, я шучу, а во-вторых, тебе бы пошло. Разумеется, я пылко возражал, нес какую-то чушь о гражданском долге, о патриотизме, о Франции, наконец… но знаешь, если бы не ты, он бы в конце концов меня убедил. Не я его, Камиль. Он — меня.
— Если бы не я? Но ведь я спал.
— Вот именно. Когда я уже готов был поддаться на его полушутейные уговоры, ты совершенно неприличным образом всхрапнул, и змей-искуситель тотчас прервал свои речи. Кликнул служанку и приказал стелить нам постель.
Потянувшись, Фабр закинул руки за голову и закрыл глаза.
— Покойно здесь, — заключил он. — Сонно. Славно. Безопасно. Как представлю, что самое большее завтра мы вновь вернемся в столицу… брр.
— Как в сказках, — негромко сказал Камиль, приподнимаясь на локте и заглядывая лежащему навзничь Фабру в лицо, удивительно безмятежное. — Пересечешь мост над бегущей водой — и п-попадешь в страну с пряничными домиками и заколдованными замками, откуда больше не хочется в-возвращаться.
— Фантазер и неисправимый романтик, — вздохнул Фабр, чувствуя на своей щеке теплое дыхание Камиля, но по-прежнему не открывая глаз. — У меня, знаешь ли, другой образ. Представь, Камиль: армейский бивак, в последнюю ночь перед битвой… нет, лучше странноприимный дом на краю выжженной пустыни. Треск пламени в костре или в камине, вино и хлеб, тепло рук и дружеские взгляды… а утром нужно встать и шагнуть прямиком из этого уюта в кошмар. Шагнешь, конечно, куда деваться, потому что иначе — дезертир, трус, слабак. Но как же неохота вставать с утра! Как хочется, чтобы эта последняя ночь тянулась подольше!.. Нет, Камиль, боюсь, напрасно мы приехали в Арси. Дантона нам не убедить.
— Не убедить, — легко шепнул журналист, склоняясь ближе… еще ближе.
Губы у Франсуа, как с удивлением выяснил Камиль, почему-то всегда хранили чуть горьковатый привкус. Неповторимый, свойственный только ему одному. Карие глаза под тяжелыми веками, привычка быстро и ловко подминать Камиля под себя и спокойная готовность в любое время дня и ночи терпеливо выслушать запутанную историю очередных камилевых трудностей. И манера ехидно-ласково интересоваться, нахально запуская дружку руку между ног: «Камиль, да-а?».
Мог бы и не спрашивать, все равно за несколько минувших месяцев он ни разу не услышал ответа «нет». Традиционный вопрос был частью представления, частью жизни Фабра, вечно игравшего кого-то — оратора-трибуна, верного помощника Дантона, коммерсанта, гуляку, директора театра, любовника, опального политика, Верховное Существо… Игравшего с душой, ярко и правдиво, но, как казалось Камилю, все равно игравшего.
О чем на самом деле думает Франсуа Фабр, вечный актер на огромной сцене под названием «жизнь», можно было только догадываться. Но сейчас Камилю совершенно не хотелось размышлять над этим вопросом. Ему вполне хватало того, что его любили, нежно и бережно, именно так, как ему нравилось. Франсуа никогда не забывал о чужом удовольствии или даже о такой мелочи, что Камилю приятна успокаивающая бессмыслица ласковых слов. С ним было хорошо. Франсуа мог сколько угодно высмеивать приятеля, но никогда не обижал его — ни словом, ни делом.
В такие моменты Камилю казалось, что Франсуа как нельзя лучше подходит его сценический псевдоним. Нравилось выдыхать — «Шиповничек…» — по слогам, жадно и быстро хватая губами воздух. Нравилось принадлежать кому-то, безоглядно и безоговорочно, сознавая, что все правильно, верно и так и должно быть.
Крепко держась за чью-то руку, не позволяющую оступиться и упасть в пропасть.
* * *
Сразу после завтрака незваные гости заперлись в кабинете хозяина — и не выходили оттуда уже четвертый час.
А у всех обитателей усадьбы — от старшего поколения до младшего, от управляющего до горничной — сразу появились неотложные дела в коридоре подле массивных дверей красного дерева с бронзовыми ручками-кольцами. Каждые четверть часа Луиза заставала там то почтенного патриарха семейства Шарпантье, отца первой жены Жоржа, то обоих пасынков, старательно прижимавших розовые ушки к щелям между косяком и створкой, то еще кого-нибудь.
Застигнутые на месте преступления личности немедленно делали вид, якобы просто проходили мимо, и спешно удалялись.
Дом пребывал в напряжении. Дом ждал, чем окончится беседа за закрытыми дверями. Беседа, которую можно было и не подслушивать, ибо голос Жорж Жака Дантона разносился по коридору, подобно звукам боевой трубы, да и собеседники порой ему не уступали. Луиза прекрасно знала, зачем они явились, эти двое, которых не звали, не приглашали и которым лично она была совершенно не рада. Маленькая мадам Дантон — здесь, в провинции, ее называли так, как было принято раньше, а не нынешним «гражданка Дантон» — недолюбливала друзей и знакомцев своего шумного супруга. Этих двоих, Демулена и Фабра — особенно, хотя оба всегда относились к ней весьма приязненно. Камиль со своим заиканием и полнейшей неосведомленностью в житейских мелочах был очарователен, а Фабр в шутку прозвал ее «Маленькой Хозяйкой» и, приходя в гости, с поклоном вручал то мешочек ставшего невероятно редким шоколада, то чудно подобранный букет.
И все же Луиза не могла смириться с их присутствием. С тем, что они врывались в их дом в любое время дня и ночи, утаскивая Жоржа с собой. С их твердой убежденностью в том, что квартира Дантонов — бесплатная гостиница и трактир, где они всегда могут переночевать и поесть. Где им позволено ночь напролет пить, сочинять очередной памфлет или доклад, зачитывая готовые куски вслух, переругиваясь и крича друг на друга так, что Луиза вздрагивала от страха в пустой постели и по-детски зажимала уши ладонями.
Да, они строили новый мир, свою Республику равенства и братства. Мнения Луизы на сей счет никто и никогда не спрашивал, но про себя она полагала, что монархия была не так уж плоха. По крайней мере, при Бурбонах людей не казнили в таком количестве и не надо было бояться за собственную жизнь. И всякий находился на своем месте — Демулен был журналистом, Фабр заведовал театром, и они не втягивали Жоржа в свой очередной безумный замысел.
Переезжая в тихий сонный Арси, она радовалась, как дитя. Надеялась, что больше не увидит никого из обширного круга друзей своего неуемного мужа, что жизнь семейства Дантон потечет как полагается, размеренно и благопристойно. И вот теперь ее наивные мечты рушились. Рушились по вине двоих людей, которым непременно надо было все испортить, прикрываясь громкими, трескучими фразами. Если они такие умные и сообразительные, какими хотят казаться, почему им не справиться самим?
Луиза не желала им зла. Она желала лишь, чтобы эти люди никогда, никогда более не переступали порог ее дома. Она вздохнула и повнимательней прислушалась к голосам за дверями. Как раз в этот момент голоса вдруг стихли на самой высшей точке спора, и Луиза затрепетала в ожидании. Ее тревога, однако, тут же разрешилась: явившийся на пороге супруг велел подать в кабинет еды на троих.
— Проклятье, эта парочка меня совершенно заездила! — раздраженно громыхал хозяйский бас в коридорах большого дома — и Луиза в бессчетный раз неодобрительно качала головой, а служанки и кухарки шустрыми мышками бросались исполнять приказание. — Я уже успел позабыть, как выматывают политические дебаты. Завтрака будто не было, я коня сожрать готов, клянусь Верховным Существом! Неудивительно, что они оба такие тощие. Подавайте обед! И побольше красного столового к мясу, то и другое способствует умственной деятельности! Хотя по-хорошему, господа, мне давно следовало прогнать вас взашей. Жрут мой хлеб! Пьют мое вино! Спят в моих постелях! И смеют меня же всем этим попрекать! Хамьё!.. Так на чем мы остановились? Вроде бы на последних тезисах монтаньяров?..
Еду принесли, двери хозяйского кабинета вновь закрылись, и голоса приутихли — по понятной причине: когда жуешь, кричать затруднительно. Теперь членам семьи, проходившим за какой-либо надобностью мимо упомянутых дверей, приходилось передвигаться на цыпочках. Чтобы лучше слышать.
— Между прочим, дети в Париже голодают, — невнятно произнес Эглантин с набитым ртом и погрозил Дантону обглоданной куриной ножкой. — Дети, гражданин Дантон, невинные дети умирают от голода в страшных муках! А что делаешь ты? Ничего ты не делаешь! Ешь, пьешь и спишь в свое удовольствие. Вон брюхо какое отрастил, смотреть противно.
— Это я с голоду пухну, — благодушно буркнул Дантон, подливая красного столового в свой объемистый оловянный кубок.
— Как же, к-как же, — презрительно протянул Демулен (сноровка, с которой знаменитый парижский журналист опустошал салатницу, поражала воображение) и передразнил застольную речь хозяина: — «Отобедаем, граждане, чем Верховное Существо послало! Стол скромный, но уж не взыщите!» К-куропатки в грибном соусе, ветчинные р-рулетики, форель, припущенная в белом вине… сдается мне, гражданин Дантон, Верховное Существо в-вас на содержание взяло! В то время как в столице даже депутаты Конвента валятся с ног от н-недоедания и усталости… Фабр, будь добр, п-передай тарелку с оливками. Б-благодарю.
— Если Конвент не в силах наладить снабжение столицы продовольствием, то я полагаю в высшей степени справедливым, что депутаты голодают наравне с ее жителями, — отрезал Дантон. — Что до бедных парижских детишек, так я не собираюсь отнимать кусок хлеба у собственных детей ради прокорма чужих. Тем более что проблемы всеобщего голода это все равно не решит.
— А как же совесть? — вкрадчиво спросил Фабр.
— Моя? Чиста. Если же ваша протестует, то немедленно перестань жрать мою кровяную колбасу и скажи вон тому красавчику, чтоб не налегал так мощно на оливки. Во-первых, они наверняка отняты у нуждающихся, а во-вторых, его пронесет.
— Д-допустим, в чем-то ты прав, — поспешно согласился Демулен, отодвигая злосчастные оливки. — Но ведь не во всем, Жорж Жак.
— Отчего бы это? Совершенно не вижу, почему бы мне не быть правым во всем. Так сказать, in toto. Ну давай, приведи мне хоть парочку действительно стоящих аргументов за то, чтоб я бросил все это, — Дантон повел рукой в выразительном всеобъемлющем жесте, — и отправился разгребать вашу конвентскую клоаку. Э?
— Мы пойдем по кругу, — мрачно предупредил Фабр.
— Ничего не пойдем. Я что, непонятно выразился? Действительно стоящих, говорю, а не того дерьма, что вы мне вливали в уши все предыдущие часы. Я до последнего вздоха готов защищать то, что мне на самом деле дорого. Но так уж сложилось, что сейчас мне дорога моя семья и совершенно не интересны конвентские ристалища. У меня есть любящая меня женщина, ее престарелые родители, мои малолетние дети…
— …Да еще большой дом, сытный стол, строевой лес и земельные участки в аренду, — негромко и в тон закончил Фабр.
— Еще раз попрекнешь меня моими доходами, Фабр, и я обижусь всерьез, — предупредил Дантон. — Да, черт побери, куропатки под соусом и все такое, но не в них дело, не в них!
— А в чем же, Жорж Жак? — по-прежнему мирно спросил Фабр. — Ведь когда-то эти «ристалища», как ты изящно выразился, были тебе ничуть не менее дороги и необходимы. Что же случилось такого, обесценившего в твоих глазах дело Коммуны?
Дантон помолчал. Посопел. Резким движением, расплескав, схватил со стола кубок, шумно отхлебнул.
— Я усомнился, — сказал он наконец. — Я перестал видеть в идеях — смысл, а в людях — искренность. Все, связанное с революцией, кажется мне… ненастоящим. Истинная Коммуна рухнула вместе с Бастилией — спасибо тебе большое, Камиль — и начались дрязги. Обычнейшие дрязги — за должность повыше, за жалованье побольше. Безобидное поначалу состязание «кто кого перекричит» обернулось теперь состязанием в том, кто отправит на плаху больше врагов Республики. Вместо прогнившей, разрушающей страну монархии Бурбонов мы вот-вот получим монархию Робеспьера…
— Так разве наш прямой долг патриотов не с-состоит именно в том, чтобы не позволить этому случиться? — вмешался Камиль. Журналист оставил в покое оливки и салат, но теперь его вниманием всецело завладел оказавшийся поблизости графин с коньяком. Плотно притертая хрустальная пробка то и дело покидала свое место, горлышко мелодично звякало о край бокала. Фабр недовольно хмурился — пить Камилю не следовало категорически, во хмелю он становился неумеренно и не по делу говорлив.
— Ну так не позволяйте! — Жорж Жак пристукнул тяжелым кулаком по столу. — Кто вам мешает? У вас там три сотни умников не могут найти управу на одного зануду и его шайку, выспренно именуемую Комитетом Общественного Спасения. Что, неужели не отыщется двух-трех по настоящему смелых людей, способных сплотить вокруг себя колеблющихся? Зачем вам непременно нужен старый добрый Дантон? Я ведь сказал вам еще осенью, раз и навсегда: с меня довольно. Больше того, я предупреждал, я говорил не раз, что Максимильен с его братией не доведут страну до добра, что нужно приструнить их, пока они еще не набрали силу. Но вместо того, чтобы слушать меня, вы предпочитали слушать себя! Токовали самозабвенно, как тетерев по весне, ораторствовали кто во что горазд, упивались собственным красноречием, спорили ради удовольствия, а не ради истины! Ну а пока вы играли во власть, Неподкупный Макс помаленьку прибирал ее к рукам. Вот еще отчего, между прочим, я разочаровался в идеях Коммуны. Большинство тех, кто называет себя коммунарами, превыше всего ставит не революцию в себе, а себя в революции. Ах, как мне пойдет вольнодумство! Почти так же, как трехцветный шарфик! А если к тому же мне поручат составлять опись ценного имущества, конфискованного у графа де Рогана, о-о!.. А в итоге вышло не «о-о», а… тьфу.
Он махнул рукой, плеснул себе еще вина и выпил залпом.
Фабр понуро молчал — возразить ему было нечего. Разве что добавить. Камиль промолчал тоже, но молчание его было нехорошим и сулило изрядную склоку: журналист успел прилично набраться.
— Вот об этом я говорю, — угрюмо буркнул Дантон, отдышавшись. — Я, знаете ли, привык, что за словом следует дело. А в столице последнее время дела с успехом топятся в словах, и над всем этим маячит постная рожа Максимильена нашего Робеспьера. Поэтому я уехал сюда, в Арси, где рядом со мной не надутые болтуны, а любимые мною и любящие меня без всякой лести люди. И где договор на поставку строевого леса означает именно поставку в должный срок партии строевого леса, а не трехмесячные дебаты на тему, отчего же таковая поставка все-таки не состоялась. Ну и пулярки с трюфелями, как же без них, ибо по делам твоим да воздастся.
— А мне кажется, гражданин Дантон, что вы лукавите, — отчетливо, агрессивно и без запинок выговорил Камиль, с размаху опустив свой бокал на стол. Часть содержимого выплеснулась на накрахмаленную скатерть, расплылась бурой лужицей. — Сдается мне, гражданин, что дело не в убеждениях, а в отсутствии оных… у кое-кого из присутствующих.
Вот тебе и склока, грустно подумал Фабр, но останавливать пламенного трибуна не стал. В конце концов, ни логикой, ни лестью, ничем иным пока взять толстокожего Дантона не удалось. Авось Камиль его проймет оскорблениями. Хуже все равно не будет, а Камилю в случае чего спишется на винные пары.
— Вы, гражданин Дантон, попросту струсили, — чеканил презрительные слова Демулен, — дезертировали, можно сказать, с поля боя, где продолжают гибнуть ваши товарищи. Спрятались в кустах с утащенной из обоза корзинкой снеди, пережидая сражение. Я понимаю, как это тяжело — шагнуть из уютного и безопасного укрытия навстречу опасности. Я стоял под пулями у Бастилии, гражданин! И я знаю, как выглядит храбрость и как — трусость. Так вот сейчас я вижу перед собой труса!
— Камиль… — попытался вмешаться Фабр, зная взрывной дантонов нрав и с тревогой наблюдая, как гостеприимный хозяин стремительно наливается дурной кровью. — Это уж чересчур… Жорж Жак, надеюсь, ты же понимаешь, что Камиль совсем не то хотел сказать…
— Я сказал именно то, что хотел сказать! Трусость и постыдная слабость, повторяю! — вспыхнул Камиль. — Ради своего мещанского благополучия этот гражданин готов зачеркнуть и выбросить все, позволив этому п-пудреному н-ничтожеству растоптать наши идеалы! А если вы не трус, Жорж Жак Дантон, то исполните свой гражданский долг и вернетесь туда, где вы сейчас нужнее всего!
Пригнув голову, как атакующий вепрь, Дантон поднялся со своего кресла, воздвигся над столом, стиснув могучими пальцами узкое горло хрустального графина. В какой-то жуткий момент Фабр был уверен, что вот сейчас этот самый графин будет вдребезги разбит о беспутную голову Камиля Демулена. Даже сам журналист, как бы ни был пьян, почуял нешуточную угрозу своему здоровью и мигом увял.
Однако Дантон лишь пробуравил оратора свирепым взглядом и потянул к себе блюдо с молочным поросенком.
— Хорошо сказал. Зажигательно, — рыкнул он. — Умеешь ведь выступать, а? Вот сам и громи монтаньяров, когда вернешься в Париж. Заодно придумаешь, как голодающих детишек прокормить. А я, трус этакий, так и быть, посижу в кустах. Все, хватит, разговор окончен.
Он подхватил серебряный столовый нож и с хрустом врезался в коричневый бок жареного поросенка.
* * *
К вечеру начался снегопад. Большие, тяжелые хлопья отвесно падали вниз, с неба на землю, и, если прижаться лицом к оконному стеклу, то мир снаружи казался окутанным непрерывно сыплющимися из низких туч клочками ваты. Матушка Метелица выбивала над Арси свою перину.
Камиль сидел на широченном подоконнике, обхватив колени руками, и печально таращился в темное окно на заметаемый снегом палисадник, на уличные огоньки. Иногда он тихонечко, вежливо икал, прикрывая рот ладонью и стремясь не повредить собственному романтическому образу. Камилю было стыдно, ибо он опять объелся, и горестно, ибо все их усилия пошли пшиком и прахом. Отчасти по его вине.
Фабр метался по комнате — шесть шагов наискосок, до облицованной изразцами печки, лихой разворот на каблуке, шесть шагов до двери и все сызнова. У Демулена уже голова шла кругом от этих пробежек туда-сюда, но попросить Франсуа угомониться у журналиста язык не поворачивался.
— Мы перепробовали все, — Эглантин вдруг замер, резко обернувшись и ткнув в сторону Демулена указательным пальцем. — Логику. Лесть. Оскорбления. Увещевания. Эмоции. Общие воспоминания. Исторические примеры. Не пустили в ход разве что истерику и Шекспира!..
— Может, зря? — уныло заметил Камиль. — Вдруг бы п-подействовало? Я вот жалею, что не застал тех времен, когда ты еще выходил на сцену.
— Ты видел меня в Конвенте, а это почти то же самое, — отмахнулся Фабр. — Только вечером тебя не ждут у черного хода восторженные поклонницы и не дарят букетов за успешный спектакль… Камиль, он не сдвинется с места. Семья, обеды с ужинами и увеличение капитала стали для нашего дорогого Жоржа ближе и важнее, чем политические баталии во имя Республики и ежедневные стычки с Неподкупным.
— Как я его понимаю, — пробормотал себе под нос Демулен.
— Камиль, а ты понимаешь, что он без нас уцелеет, а мы без него наверняка погибнем? — Эглантин тоже подошел к окну, облокотился о подоконник, глядя в заснеженную темноту.
— Это я т-тоже понимаю, — кивнул журналист и опять икнул. — Просто я не з-знаю, что еще можно п-предпринять. Разве что н-напоить Жоржа в стельку, з-замотать в ковер и тайком ув-вести в Париж…
— Нам столько не выпить, — отверг идею Фабр. — Да и наша многострадальная бричка через пару лье сломается под этой тушей.
Парочка удрученно примолкла. Камиль в задумчивости подышал на стекло, пальцем вывел на туманном пятне кривоватое сердечко и внутри него — инициалы «Л. Д.». Ему очень хотелось сказать Эглантину что-нибудь ободряющее, но, как назло, в голову лезли только унылые мысли о безрадостном возвращении в Париж, о неоплаченных счетах за типографию и бумагу, о том, как посмотрят на них друзья, надеявшиеся на успех их миссии… о том, что молчать более нельзя, а говорить невозможно, что Максимильен опять устроит ему публичную выволочку, будто он — строгий учитель, а Камиль всего лишь нерадивый ученик, связавшийся с дурной компанией…
— Камиль, — внезапно нарушил тишину Фабр. Голос у него стал стеклянным, нехорошо звенящим. — Камиль, есть идея.
— Слушаю, — журналист нехотя изобразил заинтересованность.
— Мы перепробовали все дозволенные способы и ничего не добились. Значит, пора прибегнуть к запрещенным средствам!
— Это к к-каким же? — насторожился Демулен. Ему крайне не нравился азартный огонек в глазах приятеля. Этот признак свидетельствовал о том, что Франсуа осенил очередной грандиозный замысел. Из тех, что так замечательно выглядят на словах, но абсолютно невыполнимы на практике.
— Ты пойдешь и поговоришь с ним, — заявил Эглантин.
— Опять?! Нет уж, уволь. На сегодня в м-моем словарном запасе остались всего четыре слова: «Доброй ночи, милый Франсуа».
— Поговоришь… на ином языке. Нет! Не перебивай! Это должно сработать!
Камиль только глазами захлопал, когда Фабр сдернул его с подоконника и бесцеремонно стащил с плеч сюртук, небрежно отшвырнув сей предмет одежды куда-то на пол. Печальную судьбу сюртука разделил жилет (пара пуговиц оторвались) и тщательно вывязанный утром галстук-бант. Тут уж Камиль начал отбиваться — впрочем, скорее машинально и довольно вяло.
— Эй, т-ты ч-чего?!
Фабр, не отвечая, распахнул кружевной воротник рубашки приятеля, небрежным движением руки обратил локоны Камиля в нечто живописно-взъерошенное и, рассеянно буркнув «извини», быстро нанес Демулену несколько пощечин — хлестких, но легких и почти безболезненных, заставивших кровь мгновенно прилить к коже, окрасив бледные щеки Камиля нежным румянцем. Журналист в совершеннейшей панике отшатнулся.
— Франсуа, т-ты с ума сошел?!
— Нет, — отвечал Фабр, — всего лишь привожу тебя в надлежащий вид. Да! так гораздо интереснее… Щеки горят, белоснежная рубаха распахнута на груди… теперь добавить страсти во взгляде и мольбы в голосе, и…
— Что ты н-несешь?!
— Камиль, послушай меня, — тяжело упавшие на плечи журналиста ладони пригвоздили его к месту, не позволяя бежать. Карие глаза, казалось, заглядывали в душу, а голос бывшего актера звучал настолько проникновенно, что Демулен умолк и только моргал в растерянности. — Камиль, от тебя сейчас зависит судьба Республики. Ну, и наша тоже, но это несущественно по сравнению со спасением родины. Камиль, тебе выпала высокая честь возложить свою молодую… э-э… да, свою молодую ж… эээ, жизнь на жертвенный алтарь во имя будущего. Ты пойдешь к Жоржу и признаешься, что не можешь без него жить. Что ты всегда его любил, и, если он не ответит тебе взаимностью и не вернется в Париж, ты умрешь. Что ты готов подтвердить слова делом, прямо здесь и сейчас.
— К-как это — «подтвердить»? — утекающим голосом переспросил Камиль. — Что ты имеешь… О, не-ет! Только не это! Это же просто… просто невозможно!
— Почему?
— Но ведь это Дантон!
— Ну да. Так ты же восхищаешься Жоржем, сам говорил, — напомнил Фабр. — Его силой, его волей, его чувством юмора…
— К черту его чувство юмора! Восхищаться и любить — две совершенно разные вещи! — от волнения Демулен даже перестал заикаться. — Да, Жорж это… настоящая глыба… такой человек… но сие не означает, что я готов пойти и… и… и предложить ему себя! Он ведь не… он совсем не такой, и вообще, у него жена есть!
— Так я ж тебе не замуж за него предлагаю, — хихикнул Эглантин. — У тебя вот тоже есть жена. Но спишь ты почему-то со мной.
— Ты — это совсем другое дело… — теперь Камиль покраснел уже по-настоящему, до корней волос. Уши горели огнем. Фабр оценил, прищелкнул языком в немом восхищении.
— Дело только в намерениях, размерах и опыте, Камиль. Намерения у тебя самые благородные, опыт, слава Верховному Существу, имеется, а что касается размеров… Н-ну, придется немного потерпеть. Во имя общественного благополучия. В конце концов, прости за дурной каламбур, вдруг тебе даже понравится?
— Никуда я не пойду! — решительно заявил Камиль и на всякий случай ухватился за подоконник.
— Пойдешь. Потому что в противном случае на первой же парижской заставе нас встретят наши друзья. Каждый из них выскажет нам все, что он о нас думает. А следом за друзьями пожалуют жандармы с ордерами на арест, и последнее, что мы увидим в жизни — глумливую физиономию Неподкупного и опускающееся лезвие. Камиль, ты настолько торопишься умереть?
— Это не выход, — в отчаянии пробормотал журналист, не находя достойных возражений.
— Предложи другой, — с готовностью согласился Эглантин.
— Он все равно не согласится!
— Тебе придется быть очень убедительным. Проклятье, да как он может не согласиться! Видел бы ты себя сейчас, Камиль! Глаза горят, щеки пылают, фигура, кожа… божественно! Да он будет извращенцем похуже Макса, если не согласится!..
— Он меня убьет!
— Прости, Камиль, но если ты откажешься, тебя убью я. Мамой Верховного Существа клянусь.
Камиль закатил глаза со стоном.
— Франсуа, не надо…
— Надо, — железным тоном сказал Фабр, и Демулен сдался.
— Если иначе никак… Хорошо, но… Один я туда не пойду, — заявил он. — Я боюсь. Да и потом, ты что, п-предлагаешь мне ворваться в супружескую с-спальню?
— Разве только для того, чтобы напугать юную мадам Дантон, — хмыкнул Фабр. — Я собственными ушами слышал, как Жорж за ужином говорил прелестной Луизе, чтобы она не дожидалась его. Он воспользуется диваном в кабинете.
— Ты в-все п-подстроил! — возмущенно завопил Камиль.
— Ни Боже мой. Стечение обстоятельств, — Фабр наконец разжал сомкнутые на плечах Камиля руки и отступил назад, окинув журналиста быстрым, оценивающим взглядом с ног до головы. — Покусай губы, а так — замечательно выглядишь. Пошли. Я буду тебя морально поддерживать.
— Почему бы тебе самому не пойти? — полушепотом ныл Камиль, пока они на цыпочках крались по пустым коридорам к кабинету хозяина дома. — Ты лучше справишься…
— Я старый, циничный, обрюзгший, и добровольно уступаю место цветущей молодости, — выкрутился Эглантин, которого, несмотря на его законные сорок лет, до сих пор порой принимали за юношу.
* * *
От нахальства и коварства приятеля Камиль аж поперхнулся воздухом и больше возражать не решался. На пороге кабинета он все же замялся в нерешительности, но Фабр, приоткрыв тяжелую створку, толчком в спину отправил журналиста на встречу с неизвестностью. После чего захлопнул дверь и для пущей надежности привалился к ней спиной, переводя дух и прислушиваясь.
Внутри было тихо. Ни возмущенных криков, ни призывов о помощи. Фабр озадаченно нахмурился, и тут из кабинета донеслось мышиное поскребывание и еле слышный, исполненный отчаяния шепот:
— Франсуа, он спит!
— Идиот, — застонал Фабр себе под нос, а погромче, для напарника, прошипел: — Ну так разбуди его!
— Как?!
— Свистни ему в ухо, — глумливо присоветовал Эглантин. — Камиль, ты что, сам не знаешь, как нежно разбудить человека? Как ты меня будишь по утрам?
Камиль обреченно вздохнул, чувствуя себя очень и очень несчастным. Почему, ну почему он постоянно позволяет друзьям втягивать себя в неприятности и дурацкие ситуации? Вот и сейчас он пошел на поводу у Фабра, а теперь стоит в темной комнате с растерянным видом дешевой куртизанки, явившейся по вызову и обнаружившей, что клиент заснул, ожидая ее появления. Да еще и храпит, что твой кабан…
Сделав несколько шагов в направлении источника храпа, Демулен в темноте зацепился о что-то ногой. Что-то упало и разбилось со звоном, и одновременно послышались два других звука — чирканье зажигаемой фосфорной спички и щелчок взводимого пистолетного курка.
— Кто здесь? — хриплым спросонья голосом рыкнул хозяин кабинета.
— Это я, Камиль Демулен… — растерянно пролепетал журналист, в полнейшей растерянности прижимая руки к груди. Воистину, достойное завершение всей его нескладной жизни — быть застреленным Жоржем Жаком Дантоном при попытке соблазнения оного.
— А какого ляда ты, Камиль Демулен, делаешь посреди ночи в моей спальне? — агрессивно осведомилась темнота.
— Это не спальня, это к-кабинет… — ляпнул Камиль первое, что пришло в голову.
— Раз я тут сплю, значит, спальня, — от спички с шипением вспыхнула маленькая настольная лампа, проредив ночной мрак. Стал виден хозяин дома — массивная туша, закутанная в бархатный лиловый халат с кистями. Не скрытые париком коротко стриженные волосы, темные и жесткие, стоят дыбом, точно свиная щетина. Помаргивая от света, Жорж Жак с пистолетом в руке сидел на диване и осовело таращился на незваного гостя. — Надо же, и впрямь Камиль Демулен. И чего тебе надобно, Камиль Демулен?
— Я п-п-п-п… — с перепугу речевой аппарат журналиста, и без того работавший с перебоями, переклинило намертво. Но тут Дантон неожиданно рявкнул:
— Ну?! — и Демулен выпалил без единой запинки, на одном дыхании:
— Я пришел принести извинения, гражданин Дантон!
Дантон перестал моргать и озадаченно склонил набок голову.
— Нынче за обедом я назвал вас трусом, — сказал Камиль. — Я был в запале, вино ударило мне в голову, и я не понимал, что говорю. Гражданин Дантон, вы не трус!
— Это я и так знаю, — буркнул Дантон, почесав щеку пистолетным стволом.
— И еще я назвал вас дезертиром, — вдохновенно продолжал Демулен, делая к Жоржу Жаку один крохотный шажок и затем еще один. — Так вот, вы не дезертир!
— Конечно, не дезертир, — Жорж Жак покосился на журналиста с изрядным недоумением и даже с некоторой опаской, как на помешанного. — Это тебя спьяну понесло. Что я, тебя не знаю? Извинения приняты. Спать иди.
— Эээ… как это? — оторопел Камиль. — И… и все?!
— А что ты думал, я тебе колыбельную спою? — насмешливо хрюкнул Дантон, аккуратно откладывая пистоль на туалетный столик и подтягивая поближе одеяло в явном намерении улечься. — Иди, иди.
Все пошло совершенно не так. Камиль, правда, понятия не имел, как оно должно быть «так», но то, что происходило, было «не так» абсолютно точно. Нужно было немедленно спасать положение, нужно было что-то делать, и Демулен, собрав в кулак остатки мужества, сделал — со страстным стоном повис у опешившего Дантона на шее. Неожиданность, быстрота и натиск дали ему несомненное преимущество — целых пять секунд, в течение которых ошарашенный хозяин дома не сопротивлялся. Потом Камиль сам удивлялся, как много он успел за эти пять секунд: быстрыми горячими ладонями пробрался под лиловый халат, мимоходом чмокнул жертву в кончик носа и впился в губы долгим поцелуем.
На шестую секунду Дантон пришел в себя и в ярость. С одной стороны, о порочных наклонностях камрада Демулена он знал и раньше, но смотрел на них сквозь пальцы — достоинства Демулена были существенно превыше его недостатков. Но одно дело — знать, а другое — испытывать непосредственно на себе…
— Да ты содомит?! — взревел он, отодрал от себя липучего журналиста и зашвырнул в дальний угол кабинета. Краткий полет во тьме завершился грохотом и жалобным воплем:
— Фа-абр!.. — ибо, как утопающий рефлекторно хватается за первое, что подвернется на водной глади, так и полностью деморализованный Камиль не нашел ничего лучше, как воззвать к милому Франсуа.
— Еще и Фабр?! Да тут целый заговор! — вскричал Дантон, вновь хватаясь за пистолет. — А подать сюда Фабра! Фабр!!!
— Фабр! — в унисон стенал Демулен.
«Ну и бардак, — мысленно вздохнул Эглантин. — Но, в общем-то, пока все по плану. Ну, благослови Верховное Существо…» Приоткрыл дверь, спросил культурным голосом, деликатно заглядывая в кабинет:
— Позволите?
— Да! Да, разрази тебя гром!
Фабр вошел, являя собой воплощение скромности и пристойности, потупив взор, остановился на краешке ковра и вроде бы даже принялся водить носком туфли по паркету. Дантон вперил в него яростный взгляд.
— Соблаговолите объясниться, милостивый государь! — прогромыхал он, дирижируя пистолетом. — Как это понимать? На склоне лет решили заделаться сутенером? А? Что?! Отвечать!
Эглантин с самым покаянным видом прижал ладонь к сердцу.
— Прости, Жорж Жак, — произнес он хорошо поставленным голосом опытного трагика. — Прости нас, а в особенности Камиля. Он не виноват. Он действовал искренне и из благих побуждений, но… Видишь ли, его поступок есть жест отчаяния, последняя попытка увлечь тебя за собой силою своего чувства, а если попытка не удастся — то хотя бы проститься с тобой так, как просила того его светлая и трепетная душа. Мы приехали в Арси, чтобы вернуть твоей партии ее вождя. Для этого мы были готовы пожертвовать всем, даже жизнью, даже, как видишь, честью. Но ты оказался непоколебим и бессердечен, как скала. Что ж! пусть так! Завтра утром мы покинем твой дом, чтобы никогда более не появляться. Полагаю, на въезде в Париж нас арестуют, или, может быть, это произойдет несколько дней спустя — неважно. Дальше будет суд, а правосудие нынче отправляется быстро… Прощай, Жорж Жак. Распорядись, чтобы к рассвету приготовили наш экипаж… можешь не провожать. Можешь даже не просыпаться ради такой мелочи. Надеюсь, ты переживешь нас, и… удачи тебе. Пойдем, Камиль.
Под конец монолога в голосе Фабра зазвучало самое неподдельное страдание. Возможно, одна-две слезы покатились по его щекам — в темноте было не разглядеть, но Эглантин, как подлинный профессионал, всегда старался добиться максимально достоверной игры.
— Пойдем, друг мой, — мягко повторил Эглантин. Камиль послушно выбрался из своего угла, однако оба заговорщика не двинулись с места, остановленные странными звуками, доносящимися со стороны дантонова дивана.
Дантон ржал. Дантон хохотал. Дантон икал. Его обширное чрево сотрясалось, физиономия налилась от натуги темной кровью, и он в совершеннейшем восторге колотил себя ладонью по ляжке. У Фабра отвисла челюсть: такой реакции на свой экспромт от основательного и грубоватого Жоржа Жака он, правду сказать, не ожидал.
А Жорж Жак, самозабвенно хохоча, переводил взгляд с одного из своих вернейших соратников на другого и обратно, словно впервые увидел этих людей по-настоящему. Сумасбродная парочка, вот уже шесть лет добровольно сопутствовавшая ему во всех передрягах и испытаниях, хранившая верность его идеям, преданная и взбалмошная. Ведь не поленились, не струсили, вырвались на свой страх и риск из запечатанной столицы, приехали за ним… и обратно вернуться тоже не струсят, не сбегут, не затаятся пересидеть в сравнительно безопасной провинции, хотя знают, что возвращаться им, пожалуй, в тюрьму, а то и на смерть…
Додумались, таланты.
— К-клоуны, — выдавил наконец Дантон в промежутке между двумя очередными пароксизмами. — К-комедианты. Шуты ярмарочные. Фигляры. Актеришки с погорелого театра…
— Весьма обидно слышать от вас такие слова, гражданин Дантон, — с достоинством возразил Фабр и добавил совершенно хладнокровно:
— Ты бы положил пистолет. Не ровен час, выстрелит.
— Ш-шиповничек, — ласково сказал Жорж Жак. — Жопа. Видеть тебя не могу — смех берет. Сорок лет мужику, целый депутат, директор, понимаешь ли, театра, календарь изобрел, а все туда же… Еще и дитя неразумное на всякие гадости подбивает… Уйди с глаз моих.
— И никакое не дитя, — возразил Демулен, ничего не понимающий, но на «дитя» на всякий случай оскорбившийся.
— И никаких не сорок, — добавил Фабр.
— Пошел вон, говорю, из моей спальни. Тебе вставать спозаранку, в столицу ехать… А этого — не-ет, этого оставь, он ко мне прощаться пришел, как того требует… — Дантон, не удержавшись, снова затрясся и захрюкал, — …его светлая и трепетная душа. Эй, Демулен! Иди сюда, прощаться будем!
— Т-то есть как?.. — испугался Демулен.
— Да как-как. Снимай штаны, ложись. Фабр, последний раз говорю тебе: изыди! И учти, замечу, что подслушиваешь под дверью — Богом клянусь, пальну прямо в дверь. Ками-иль! душа!.. Иди ко мне.
Демулен оборотил к приятелю отчаянный взгляд — и встретился со взглядом Фабра, полным любви и скорби.
— Останься, Камиль, — печально и твердо молвил Эглантин. — И постарайся сделать все, что в твоих силах. Помни: судьба Коммуны в твоих руках. Я бы и рад помочь, но, похоже, я здесь третий лишний. Вот разве только…
— Что это? — Камиль в недоумении воззрился на протянутую ему золоченую бонбоньерку. — Г-гашиш?
— Вазелин. Душистый.
Дантон, обессилев от хохота, повалился на подушку.
— Н-не надо, — пробормотал журналист, дико глянув на приятеля.
— О! Это по-мужски. Вся Франция смотрит на тебя, гражданин Демулен.
— Я н-не могу, когда смотрят!..
— Да? Тогда мужайся, Камиль. Франция от тебя отвернулась.
* * *
…Уезжали на рассвете. Отдохнувшие и отъевшиеся клайдсдейлы бодро трясли косматыми гривами, топтали копытами свежевыпавший снег, всячески выказывая свою готовность отправиться в путь. Камиль такой готовности не разделял — в гостевую спальню он так и не вернулся, объявился под утро. Рассеянный взгляд, отчетливо различимые темные тени под глазами и явственная усталость во всем облике. Усаживаясь, Камиль долго ерзал на обтянутом репсом сиденье, словно никак не мог выбрать наиболее удобную позу.
Провожали гостей экономка, заботливо сунувшая под сиденье огромную корзину, испускавшую сытный мясной запах, и позевывавший, не проснувшийся толком хозяин.
— Кланяйтесь там Неподкупному, а будете еще в наших краях — заезжайте, — с явственной издевкой напутствовал отъезжающих друзей Жорж Жак. — Мое предложение насчет трудов праведных в усадьбе все еще в силе, кстати.
— Благодарствуем, — не менее язвительно отвечал Фабр, ибо журналист нынешним утром стеклянно молчал и неподвижно пялился в пространство. — Имей в виду, возможно, сегодня ты видишь нас в последний раз. Но, коли твое решение непоколебимо…
Дантон в ответ фыркнул не хуже клайдсдейла, встряхнулся и ушел в дом.
Кони вынесли бричку сперва на заснеженные улицы Арси, затем за пределы города. Когда путешественники поравнялись со старым аббатством, Фабр решительно остановил лошадей и развернулся на сиденье к приятелю, коротко и требовательно вопросив:
— Ну?!
Камиль, не проронив ни звука, медленно повернул к вознице голову и одарил того отсутствующим взглядом.
— Не томи же, рассказывай! — горячо воскликнул Фабр. Единственной реакцией Камиля было едва заметное движение ресниц. Фабр тяжко вздохнул, слез с козел и пересел на пассажирское сиденье.
— Камиль, — задушевно начал он, — Я понимаю, тебе сейчас тяжело. Но пойми же и ты меня. Это не простое любопытство. Я должен знать…
— Что ты хочешь знать? — наконец снизошел Демулен.
— Подробности! — алчно выдохнул Фабр, подавшись к приятелю вплотную.
— Это был кошмар, — Демулен чуть поморщился и снова поерзал на репсовом сиденье. — Эту ночь я буду помнить долго… Ты уверен, что хочешь знать все?
Фабр похолодел.
— Он… ты… Да, Камиль, я хочу знать все. Рассказывай. И если он был… груб… или жесток… и вина на мне… то мы сейчас вернемся, и клянусь, я…
— Ты ушел, — вяло, без выражения сказал Демулен. — Жорж Жак встал и подошел ко мне. Он положил свою ладонь мне на затылок… у него такая большая, сильная, теплая рука… Ты не представляешь, Франсуа, насколько он силен…
Фабр слушал молча, чувствуя, как по спине пригоршнями катится ледяная крошка.
— Потом он… — Камиль выпростал из-под овчины руку и несколько раз с силой провел ладонью по лицу. — Мне тяжело говорить об этом, Франсуа… Потом он сказал мне: «Садись, Камиль Демулен, и пиши».
— Чего?! — обалдело переспросил Фабр.
— «Пиши, Камиль». Так он сказал. И я писал. Всю ночь.
Фабр произнес нехорошее слово.
— Что писал?!
— Речь, — утомленно молвил Камиль.
— Какую… речь?! Проклятье, Камиль, да говори ты толком! Что ж мне из тебя каждое слово клещами тянуть приходится?!
— Г-гениальную. — Камиль потер пальцами переносицу. — Лучшую из всех, которые я когда-либо писал. Жорж д-диктовал тезисы, а я сочинял текст. Максимильен, когда услышит, от зависти сжует свой п-пудреный паричок и очками закусит.
— Максими… Подожди, подожди… Для кого речь? Что-то я плохо соображаю… Для него? Для Дантона? Так он что… он возвращается?!
— Ну да. Через несколько часов Жорж оповестит свое семейство о грядущем п-переезде, а через неделю мы вновь узрим его на т-трибуне. У нас получилось, Ф-франсуа.
Фабр сгреб журналиста в охапку и сперва стиснул изо всех сил, а потом от полноты чувств потряс. Журналист висел, как неживой.
— Не может быть, — тяжело дыша, сказал Эглантин. — Не может быть. И ты так долго молчал? Знал — и молчал? И пытал меня этими проклятыми театральными паузами?! Я ж чуть с ума не сошел. Ах ты свинья. Ах ты… Впрочем, постой. Врешь ты все. А почему с утра весь помятый был и на щеке складка от подушки? А ерзаешь отчего, будто тебе задницу натерло? Речь он писал, как же! Скажи мне наконец правду, Камиль! Не щади меня, но скажи правду!
— Отрадно видеть, Франсуа, как трепетно ты относишься к моей з-заднице, — слабо улыбнулся Демулен, — но правда, друг мой, весьма н-неприглядна. Мы закончили в ч-четвертом часу. Жорж Жак вынул меня из кресла — и здоровенный же он все-таки — и выпихнул в к-коридор, да еще отвесил на прощание шутейного п-пинка за то, что, мол, не дал ему как следует выспаться. Я хотел вернуться в спальню, но нашел по д-дороге такой уютный д-диванчик… дай, думаю, присяду на м-минутку… и меня сморило… А утром, когда меня разбудила горничная, оказалось, что диванчик старый, и из него вылезла пружина. Острая. П-прямо в… в общем, теперь мне ч-чертовски неудобно сидеть. Вот тебе правда, — он душераздирающе зевнул. — А п-паузы и п-прочие эффекты — это затем, что не все тебе надо мной издеваться. Считай, что такова моя м-маленькая сладкая м-месть.
— Негодяй, — потрясенно и нежно сказал Фабр. — Маленький засранец. Нет, ну какой же ты засранец, гражданин Демулен! Но почему, Камиль? Почему он все же возвращается?
— Ммм… Как же он сказал… Ах, вот. «На весь Конвент мне накласть с прибором, но если вы, два дурня, погибнете, я себе никогда не прощу.» Вот как он сказал. Франсуа, я спать хочу, просто п-помираю. Отстань, а?..
…День выдался холодным, солнечным и ветреным, и над оставшимся далеко позади городком Арси косо тянулись к небесам тонкие столбики дыма. Кони спустились вниз по откосу, затопали по мосту через Об, дробя копытами тонкий слой наледи. Редкие на тракте путники невольно оборачивались, завидев странную картину: два гигантских тяжеловоза влачат по ухабам открытую бричку. В ней, неловко скрючившись на узком коротком сиденье и закутавшись в овчину, спит пассажир, а представительный господин в дорогом пальто, шляпе и трехцветном шарфе сидит на козлах, улыбаясь чему-то своему. И улыбка у него совершенно блаженная.
* * *
Дантон вернулся, дабы поддержать сторонников и устрашить противников, но время, драгоценнейшее время, было упущено. Он проигрывал, но отказывался верить в это, уповая на народную любовь и свои заслуги перед отечеством. Наиболее здравомыслящие представители двух враждующих партий пытались примирить своих вождей — Робеспьера и Дантона — однако добились прямо противоположных результатов. Робеспьер и его сторонники из Комитета Общественного Спасения нанесли упреждающий удар, проведя массовые аресты соратников Дантона.
В марте 1794 года, он же жерминаль Второго года Республики, после поспешного судилища, занявшего всего два дня, Жорж Жак Дантон и его друзья были казнены на площади Революции.
Очевидцы уверяют, якобы последним словом Камиля Демулена было имя его жены, Люсиль.
Дантон выкрикнул, обращаясь к Максимильену Робеспьеру: «Скоро встретимся в аду!»
Сведений о том, что сказал и как вел себя Фабр д’Эглантин, история не сохранила.





|
↓ Содержание ↓
↑ Свернуть ↑
|