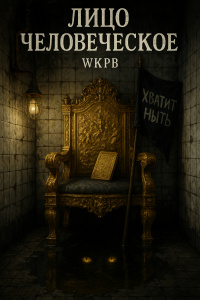





| Предыдущая глава |
↓ Содержание ↓
↑ Свернуть ↑
|
Цирк уехал.
После ухода Жальтер представление рассыпалось. Тиамат, с выражением задумчивой обиды, осторожно положила запеленутого Гильгамеша на землю и погрузилась обратно в разлом, который тут же затянулся, оставив после себя лишь запах мокрой глины. Иштар, что-то презрительно фыркнув в адрес «этой черной выскочки», развернула свою ладью в палатку и уснула на траве. Сейбер Альтер и призраки Старка просто растворились в тенях, словно их никогда и не было. Руины Хогвартса снова погрузились в свою привычную, скорбную тишину.
Гильгамеш лежал на земле, завернутый в светящуюся пеленку, как новорожденный бог, брошенный на пороге сиротского приюта. Он был унижен. Он был сломлен. Но, что хуже всего, он был трезв. Колыбельная Тиамат выветрилась из его разума, оставив после себя лишь горький осадок абсолютной беспомощности. Он медленно, с трудом, разорвал путы первозданной материи. Его костюм от «Старка» был безнадежно испорчен. Его эго — в руинах. Он чувствовал себя пустым, выжженным изнутри.
Именно в этот момент она вернулась.
Жальтер подошла к нему, ее шаги были неслышны на выжженной земле. В ее руках был не меч и не знамя. А простой поднос, накрытый серебряной крышкой.
— Вижу, ты пришел в себя, сэмпай, — сказала она с такой фальшивой заботой, что у Гильгамеша задергался глаз. — Ты, наверное, проголодался после всех этих волнений. Я приготовила для тебя небольшой ужин. В качестве утешительного приза.
Гильгамеш смерил ее презрительным взглядом.
— Я не ем еду, приготовленную чернью, — процедил он.
— О, это не просто еда, — усмехнулась Жальтер, поднимая крышку.
Под ней, на золотом блюде (которое она, без сомнения, стащила из его же Врат Вавилона), лежал шедевр. Идеальный, сочащийся соком стейк, покрытый какой-то темной, ароматной глазурью. Рядом — гарнир из обугленных, но аппетитно выглядящих овощей и бокал вина, такого же темного и густого, как кровь. Блюдо выглядело как произведение искусства. Дьявольского искусства.
— Это «Стейк Катарсис», — пояснила Жальтер. — Мой фирменный рецепт. Приготовлен на медленном огне моей ненависти, сдобрен специями из чистого сарказма и подан с соусом из твоего собственного раздутого эго. Он поможет тебе… переварить случившееся.
Гордыня боролась в нем со здравым смыслом. Но голод — не физический, а экзистенциальный — был сильнее. Ему нужно было что-то, чтобы заполнить ту пустоту, что оставила после себя Тиамат. Он был Королем. Он не мог показать слабость. Отказаться — значило бы признать, что он ее боится.
Он взял блюдо.
— Ты пожалеешь об этой дерзости, ведьма, — прорычал он.
— Я уже наслаждаюсь, — промурлыкала она, отходя в тень.
Он съел все. До последней крошки. И это было божественно. Вкус был таким насыщенным, таким сложным, что на мгновение он забыл обо всем — об унижении, о Тиамат, о песне про лодочника. Он чувствовал, как сила возвращается к нему, как пустота внутри заполняется теплом и энергией.
Он даже не заметил, как из волос Иштар, спавшей неподалеку в кустах, выпала маленькая, потускневшая золотая табличка. И как Жальтер, прежде чем окончательно исчезнуть, подобрала ее, брезгливо вытерла о траву и спрятала за пазуху.
Первые спазмы начались через час.
Это была не обычная боль. Это было ощущение, будто в его желудке проснулся маленький, злой вулкан. Он схватился за живот, его золотая аура замерцала и погасла. Тепло, которое он чувствовал, превратилось в адский жар, который начал подниматься по его пищеводу.
Он понял. Это был не ужин. Это был троянский конь. Идеально приготовленный, вкусный, но начиненный самой концентрированной, самой изощренной злобой во вселенной.
Он огляделся в поисках уборной. Единственным уцелевшим зданием с работающими коммуникациями был маленький, неприметный общественный туалет у входа на стадион по квиддичу.
Шатаясь, он побрел туда. Ему нужно было выжить. Переварить. Извергнуть это проклятие из себя. Он еще не знал, что это не конец его страданий. Это было только начало игры.
Общественный туалет встретил его холодом и запахом хлорки, смешанным с тонким, почти незаметным ароматом застарелой безысходности. Это было чистилище из белого кафеля и тусклого фаянса. Единственная лампочка под потолком, защищенная решеткой, мерцала, отбрасывая на стены дрожащие, больные тени. Воздух был неподвижен. Тишина здесь была не просто отсутствием звука, а чем-то плотным, давящим, как вода на большой глубине.
Гильгамеш толкнул дверь одной из кабинок. Она протестующе скрипнула. Он вошел и запер за собой хлипкий шпингалет. На мгновение он почувствовал облегчение. Здесь, в этом маленьком, убогом пространстве, он был скрыт от мира. Он мог позволить себе слабость. Он, Король Героев, просто хотел, чтобы его оставили в покое, пока он будет сражаться с бунтом в собственном теле. Он сел, закрыл лицо руками и приготовился к битве.
В тот момент, когда первый спазм, подобный удару раскаленного добела копья, пронзил его изнутри, он услышал звук.
Не скрип. Не стон. А глухой, вакуумный хлопок. Звук, с которым герметичный шлюз космического корабля отрезает путь к отступлению.
Он дернулся, его рука метнулась к шпингалету. Тот не поддавался. Он ударил по двери плечом. Она не шелохнулась, словно была высечена из цельного куска обсидиана. Он был заперт.
— Я хочу сыграть с тобой в одну игру, Король.
Голос Жальтер прозвучал не снаружи. Он родился прямо в его черепе, бархатный и ядовитый, лишенный эха, но заполняющий собой все его сознание.
— Правила просты, — продолжал шепот. — То, что ты съел, было не просто пищей. Это был концентрат. Концентрат всей той гордыни, всего того высокомерия, которое ты считаешь своей силой. Твое тело, твое божественное, совершенное тело, теперь должно это переварить. Или извергнуть. Ты должен пережить катарсис. Очиститься.
Вторая волна боли, еще более сильная, заставила его согнуться пополам.
— В этом и заключается игра, — голос Жальтер был пропитан садистским наслаждением. — Ты должен выжить, сражаясь с самим собой. Ты должен извергнуть из себя свое величие, чтобы спасти свою жизнь. У тебя есть все твои сокровища, вся твоя сила. Но помогут ли они тебе здесь, в этой маленькой комнатке, когда враг — внутри? Время пошло.
И в этот момент он услышал второй звук.
БАМ.
Стук. Глухой, методичный. Откуда-то снизу или из-за стены. Стук по трубе.
БАМ. БАМ.
Ритмичный. Настойчивый. Почти веселый.
Третья волна была не болью. Это было извержение. Его тело стало вулканом. Он почувствовал, как проклятие ведьмы, принявшее форму пищи, рвется наружу. Но это было не просто физиологическое явление. Это был экзистенциальный коллапс. Он чувствовал, как вместе с потоками желчи и кислоты из него вырывается его божественная сущность. Его аура. Его величие. Все, что делало его Гильгамешем, теперь извергалось из него в самой унизительной, самой грязной, самой человеческой форме.
Он закричал, но его крик утонул в звуках его собственного падения.
А стук по трубе стал громче. Быстрее. Словно невидимый зритель аплодировал началу представления.
И сквозь стену, приглушенный, но абсолютно отчетливый, донесся восторженный, полный театрального пафоса женский голос:
— Чистись! Чистись, грязнуля! Умэ! Покажи Риму мощь твоего катарсиса!
Гильгамеш замер, его разум отказывался верить. Он был не один. У его унижения был не просто свидетель. У него был дирижер. И этот дирижер сидел за стеной и отбивал ритм его агонии по водопроводной трубе.
Игра началась. И она была гораздо страшнее, чем он мог себе представить.
* * *
Время потеряло смысл. Оно распалось на рваные, агонизирующие интервалы между приступами и ударами по трубе. Туалет превратился в персональный ад Гильгамеша, камеру пыток, спроектированную с дьявольской изобретательностью. Белый кафель отражал мерцающий свет лампы, превращая маленькое пространство в бесконечный, стерильный лабиринт, из которого не было выхода. Воздух стал плотным, ядовитым, пропитанным запахом его собственного, извергнутого величия.
Он пытался бороться. Пытался призвать Врата Вавилона, чтобы разнести эту клетку к чертям. Но магия не слушалась. Каждый раз, когда он концентрировал свою волю, новый спазм, еще более сильный, сбивал его с толку. Его тело предало его. Его сила стала его врагом. Все, что он мог — это сидеть, дрожать и терпеть, пока его сущность вытекала из него в самой унизительной форме.
А стук продолжался. Неумолимый, как метроном, отсчитывающий секунды до казни. И голос Нероны за стеной, полный императорского восторга, не умолкал ни на мгновение, комментируя каждый звук, каждое его содрогание, как спортивный комментатор на гладиаторских боях.
— О, какой пассаж! Какая глубина звука! Умэ! Достойно оваций Колизея! — кричала она после особенно сильного приступа. — Еще, маэстро! Дай нам крещендо!
Гильгамеш уже не кричал. Он тихо скулил, уткнувшись лбом в холодную пластиковую дверь. Его гордость была стерта в порошок. Он прошел через унижение от Тиамат, через фарс с песней, но это… это было дно. Абсолютное, илистое дно вселенной, где не было ни славы, ни битв, ни даже достойной смерти. Только боль, стыд и восторженные комментарии сумасшедшей императрицы.
В какой-то момент, в короткой передышке между волнами агонии, он услышал новый звук. Не стук. А тихий, почти неслышный скрежет. Откуда-то снизу. Из-под пола.
Он замер, прислушиваясь. Скрежет повторился. Методичный, целенаправленный. Как будто кто-то или что-то прорезало себе путь сквозь бетонные перекрытия.
— Эй, ты там! За стеной! — прохрипел Гильгамеш, его голос был едва слышен. — Прекрати стучать! Тут… тут кто-то есть!
Голос Нероны на секунду затих. Стук прекратился.
— Кто-то есть? — переспросила она с внезапным, детским любопытством. — О, новое действующее лицо! Прекрасно! Представление становится еще интереснее!
Скрежет стал громче. Прямо под его кабинкой. Кусок кафеля на полу треснул. Затем еще один.
И в наступившей тишине из-под пола раздался голос. Тихий, сухой, как шелест песка. Голос, в котором не было ни ярости, ни восторга. Лишь абсолютный, ледяной покой.
— Я считаю, — произнес голос. — Семьсот двадцать три удара по трубе. Четыреста девятнадцать звуковых эманаций избыточного давления. Я достаточно насчитал. Ваше представление нарушает мой покой.
Пол в кабинке треснул окончательно, и из образовавшейся дыры, окутанный тенями и пылью, поднялся он. Хассан-и-Саббах. Старик Горы. Его череполикая маска была повернута к Гильгамешу, но было ясно, что смотрит он не на него. Он смотрел сквозь него. На его маске, на щеках, были нарисованы две ярко-красные, закручивающиеся спирали.
Гильгамеш, Король Героев, переживший битвы с богами, смотрел на ассасина, вылезшего из-под унитаза, и его разум, уже истерзанный болью и унижением, окончательно сдался. Он просто смотрел, не в силах издать ни звука.
Хассан медленно повернул голову в сторону стены, за которой затаилась Нерона.
— Я хочу сыграть с вами в одну игру, — прошелестел он, и от этого шепота даже мерцающая лампочка под потолком, казалось, задрожала от страха. — Правила просты. Вы оба замолчите. Навсегда. Или я заставлю вас замолчать.
За стеной раздался звук, похожий на то, как кто-то поперхнулся. А затем — торопливые, удаляющиеся шаги. Спонсор представления ретировался.
Тишина.
Впервые за много часов наступила абсолютная тишина. Хассан посмотрел на дрожащего Гильгамеша, который все еще сидел на унитазе. Ассасин ничего не сказал. Он просто покачал головой, как будто глядя на безнадежно больного, и так же бесшумно, как появился, опустился обратно в дыру в полу, которая тут же затянулась, не оставив и следа.
Он не убил его. Он не угрожал ему. Он просто показал ему, что на дне его ада есть еще один, более глубокий и тихий круг. И это было страшнее любой угрозы.
Гильгамеш остался один. В тишине. Наедине со своим унижением. Игра перешла на новый уровень. Теперь это была игра на выживание с собственным рассудком.
* * *
После ухода Хассана тишина стала абсолютной. Она была не просто отсутствием звука. Она была субстанцией. Тяжелой, как свинец, и холодной, как космос. Она давила на барабанные перепонки, заполняла легкие, просачивалась в череп. Для Гильгамеша, привыкшего к вечному шуму битв, похвалы и собственного голоса, эта тишина была самой изощренной из пыток. В ней не было ничего, кроме эха его собственного падения.
Его тело было опустошено. Проклятие ведьмы, казалось, иссякло, оставив после себя лишь тупую, ноющую боль и всепоглощающую слабость. Он сидел в своей кафельной гробнице, дрожа не от холода, а от пережитого ужаса. Он выжил. Но он не был уверен, что это можно назвать победой. Что-то внутри него было сломано. Окончательно. Безвозвратно. Та гордыня, тот божественный эгоизм, что был ядром его личности, его движущей силой — все это было извергнуто, вычищено, аннигилировано. Осталась лишь пустая, звенящая оболочка.
Он не знал, сколько времени прошло. Час? День? Вечность? В какой-то момент он услышал щелчок. Тихий, почти незаметный. Шпингалет на двери кабинки сам собой отодвинулся. А затем, с таким же тихим щелчком, открылась и гермодверь на выходе из туалета.
Игра была окончена. Его отпустили.
Он поднялся, опираясь на стену. Ноги не держали. Каждый шаг был пыткой. Он вышел из кабинки, прошел мимо рядов раковин, в грязных зеркалах которых отражался не Король Героев, а изможденный, сломленный старик в остатках дорогого костюма.
Он вышел наружу.
Мир был прежним. Багровое солнце висело над руинами. Ветер лениво шевелил траву, пробившуюся сквозь трещины в камнях. Но для Гильгамеша все было другим. Цвета казались тусклыми. Воздух — безвкусным. Он был зрителем на спектакле, который его больше не интересовал.
Он поднял голову и увидел их.
На вершине полуразрушенной башни стояли две фигуры, очерченные светом заката. Рейн и Феррил. Они не смотрели на него. Они смотрели на горизонт, и их разговор, доносимый ветром, был тихим и печальным.
— Он сломлен, — сказала Феррил. Ее голос был лишен обычной насмешки. В нем была лишь констатация факта. — Они все сломлены. Боги, герои… все они — лишь дети, играющие со слишком опасными игрушками.
— Каждый выбирает свою войну, — тихо ответила Рейн. — Его война была с самим собой. Он проиграл.
— А наша? — Феррил повернулась к ней. — В чем смысл нашей вечной войны, сестра? Мы сражаемся, мы прячемся, мы страдаем. Ради чего? Чтобы однажды закончить вот так же? Сломленными, опустошенными, забытыми на руинах чужого мира?
Рейн долго молчала, глядя на угасающее солнце.
— Возможно, — наконец сказала она, — смысл не в том, чтобы победить. А в том, чтобы продолжать сражаться. Даже зная, что в конце пути тебя ждет не трон, а лишь тишина.
Она посмотрела вниз, на одинокую, сгорбленную фигуру Гильгамеша, который медленно брел прочь, в никуда.
— По крайней мере, — добавила она почти шепотом, — наша тишина будет нашей собственной. Мы выберем ее сами.
Феррил ничего не ответила. Она просто встала рядом с сестрой, и две вечные воительницы, два осколка одной проклятой души, молча смотрели, как последний из великих королей уходит в закат, унося с собой лишь пустоту.
Представление было окончено. Занавес.





| Предыдущая глава |
↓ Содержание ↓
↑ Свернуть ↑
|