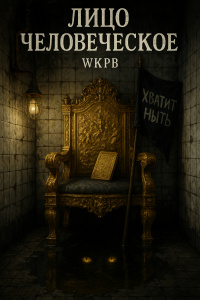





|
↓ Содержание ↓
↑ Свернуть ↑
|
Замок был умирающим зверем.
Его каменные кости, почерневшие от огня и проклятий, плакали сажей под неестественно зеленым небом, которое судорожно билось, словно пойманное в силки сердце. Воздух был густым, как непролитая кровь, и на вкус отдавал озоном, скорбью и чем-то еще — чем-то древним и неправильным, что разбудили и теперь не могли унять. Звуки битвы доносились не как стройный грохот войны, а как истеричный визг сотен агоний, сливающихся в единый, лишенный смысла вой. Даже призраки, вечные свидетели истории этих стен, жались к самым холодным камням, их бесплотные формы дрожали не от отголосков сражения, а от нового, необъяснимого ужаса. Они ощущали это первыми: слепое, холодное пятно, появившееся в самой душе их мира. Аномалию, которой здесь не могло быть.
Она возникла без вспышки или грохота. Просто в одном из разрушенных пролетов северной башни реальность на мгновение прогнулась, как тонкий лед под непомерной тяжестью. Свет от летающих заклятий, коснувшись этого участка пространства, не отразился, а втянулся внутрь, исчезая в абсолютной пустоте. Звук умер, не достигнув цели. На долю секунды там не было ничего. А в следующую — уже была она.
Фигура, закованная в биометалл цвета закатной охры и кровавого рубина, стояла неподвижно, будто вырезанная из самой вечности. Она не принадлежала этому миру — ни его отчаянной магии, ни его готической архитектуре, ни его предсмертной драме. Она была уравнением из другой вселенной, случайно вписанным в поля чужой поэмы.
На внутреннюю сторону ее визора выводились потоки данных, мгновенно препарируя окружающий хаос и превращая его в холодную, удобоваримую информацию.
> СКАНИРОВАНИЕ АТМОСФЕРЫ: ВЫСОКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ТАХИОННЫХ ЧАСТИЦ. ИСТОЧНИК НЕИЗВЕСТЕН. АНАЛОГ: ФОНОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ПОСЛЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗРЫВА.
> АНАЛИЗ БОЕВЫХ ЕДИНИЦ: 237 АКТИВНЫХ БИО-СИГНАТУР. КЛАСС ОРУЖИЯ: ПРИМИТИВНЫЕ ПРОЕКТИЛЬНЫЕ ИЗЛУЧАТЕЛИ НАПРАВЛЕННОЙ ЭНЕРГИИ. НЕСТАБИЛЬНЫ.
> ТАКТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА: ОТСУТСТВИЕ СТРАТЕГИИ. ХАОТИЧНЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ. ИСТЕРИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ ЭНЕРГИИ. МНОЖЕСТВЕННЫЕ СЛУЧАИ ПОРАЖЕНИЯ СОЮЗНЫХ ЦЕЛЕЙ.
Магия здесь была бешеным животным. Она плевалась. Она царапалась. Она умирала, крича. Фигура на башне видела лишь неэффективность, доведенную до абсурда. Суицидальные атаки, бессмысленная жестокость, полное пренебрежение тактическим преимуществом.
Это была не война. Это был припадок.
И Самус Аран, охотница, видевшая рождение и смерть звезд, молча наблюдала за этим представлением, ожидая, когда из всего этого бессмысленного шума выделится единственная нота, достойная ее внимания. Она всегда выделялась.
Сигнал. Цель.
Внизу, в разинутой пасти внутреннего двора, безумие обрело плоть. Оно не текло, а сгущалось, образуя вязкие, уродливые вихри. Здесь битва утратила даже намек на тактику, превратившись в ритуальный танец самоистребления. Воздух, пропитанный запахом жженой магии и паленого страха, дрожал так, что казалось, вот-вот расколется на мириады стеклянных осколков. Люди в черных мантиях двигались не как солдаты, а как одержимые фанатики на пике религиозного экстаза. Их лица были искажены гримасами восторга, их смех — высоким и рваным, как у гиен, нашедших падаль. Они не просто убивали; они приносили жертвы, и каждый вопль их врагов был для них сладостной молитвой. Напротив них, горстка защитников, прижатая к осыпающимся стенам, отвечала отчаянием. Их заклятия были не выпадами, а судорогами — последними конвульсиями тела, отказывающегося умирать. Это была бойня, лишенная логики, но подчиненная невидимому, ужасному порядку.
Поле боя имело два центра гравитации.
Один был теплым, пульсирующим отчаянной надеждой — там, у входа в Большой Зал, мальчик с зелеными глазами и шрамом, похожим на трещину в мироздании, был живым щитом, вокруг которого сплачивались остатки света. Его присутствие заставляло людей сражаться, когда их тела уже молили о покое.
Другой центр был абсолютным холодом.
Это была точка тишины посреди какофонии. Место, где воздух становился тоньше, а свет — тусклым и больным. Вокруг этого второго центра двигались Пожиратели Смерти, их траектории напоминали движения планет вокруг черной дыры — их влекло и одновременно отталкивало слепым, инстинктивным ужасом. Они не смели подходить слишком близко, но и оторваться от его притяжения не могли. Он был их солнцем и их погибелью.
Самус перевела фокус своих сенсоров на эту аномалию. Ее системы, привыкшие к логике тепла и энергии, споткнулись. Там, где должна была быть максимальная концентрация силы, они фиксировали… отсутствие. Энтропийную воронку. Точку, где жизнь и энергия не излучались, а поглощались.
Змееподобный силуэт двигался посреди этого кармана пустоты с ленивой, нечеловеческой грацией. Он не участвовал в битве. Он был ее причиной. Каждый его жест, каждый поворот головы, лишенной носа, заставлял его последователей взвывать от восторга и бросаться на врага с новой, самоубийственной яростью. Лицо, бывшее когда-то человеческим, теперь представляло собой гладкую маску извращенной воли, и только в красных, лишенных зрачков глазах горел неутолимый, сосущий голод. Он не просто командовал. Он был тем вакуумом, который засасывал в себя свет, тепло и саму надежду.
Именно в этот момент системы Самус издали короткий, пронзительный сигнал, подтверждающий совпадение. Тахионное излучение, пространственная аномалия, гравитационная линза — все сходилось в одной точке. В нем. Он и был тем разрывом в ткани этого мира, который привел ее сюда.
> СИГНАЛ ПОДТВЕРЖДЕН.
> ИСТОЧНИК АНОМАЛИИ ОБНАРУЖЕН.
> ЦЕЛЬ ИДЕНТИФИЦИРОВАНА.
Битва начала замирать, как сердце, делающее последний, судорожный удар. Звуки стихали один за другим, словно невидимый дирижер медленно опускал руки. Взгляды всех — и тех, кто был в шаге от смерти, и тех, кто упивался убийством, — обратились к центру двора. Бойня закончилась. Начиналась месса. Два полюса этого мира, мальчик и пустота, наконец, сошлись, и все остальные стали лишь безмолвными прихожанами, ожидающими исхода главной литургии. Вокруг них образовался идеальный круг из выжженной земли и расколотого камня — сцена, подготовленная самим хаосом.
Самус бесшумно соскользнула с высоты, ее ботинки с нулевым звуковым следом коснулись земли в глубокой тени аркады. Отсюда, с уровня глаз, драма ощущалась острее. Она чувствовала статическое напряжение в воздухе, похожее на озон перед грозой, и видела, как страх, надежда и фанатизм сплетаются в почти осязаемый узор. Ее сенсоры фиксировали скачки адреналина и кортизола в крови окружающих, их учащенное сердцебиение было фоновым шумом, саундтреком к этому финалу.
— Ты проиграл, Гарри Поттер, — прошипел Волан-де-Морт, и его голос, лишенный человеческих обертонов, был похож на шелест костей, трущихся друг о друга. Он не просто говорил — он транслировал свою волю, заставляя само пространство вибрировать в унисон с его словами. — Ты пришел умирать, ведомый, как ягненок на заклание.
Он сделал паузу, наслаждаясь эффектом. Его последователи затаили дыхание, впитывая каждое слово, как откровение.
— Твоя вера. Твоя любовь, — он выплюнул это слово, как яд. — Все это — лишь красивые сказки для детей, которые боятся темноты. А я и есть темнота, Поттер. Я — та вечность, в которой тонут все ваши жалкие огоньки. Я — будущее. Я — сила. Я — бог этого нового мира!
В этот момент его красные глаза вспыхнули с такой силой, что, казалось, в них отразился пожар гибнущей вселенной. Пожиратели Смерти пали на колени. Не по приказу — по инстинкту. Их идол говорил, и его слова были для них единственной реальностью. Они были готовы отдать свои души за одно его слово, потому что в его обещании силы они видели избавление от собственной ничтожности.
Гарри Поттер, стоявший напротив этого воплощения гордыни, казался невыносимо хрупким. Пыль, кровь и усталость покрывали его, как вторая кожа. Но когда он поднял глаза, в них не было ни тени страха. Лишь глубокая, почти старческая печаль.
— Ты не бог, Том, — тихо сказал он, и его голос, не усиленный магией, прозвучал поразительно отчетливо в наступившей тишине. — Ты даже не человек. Ты просто пустота, которая так отчаянно боится самой себя, что пытается поглотить все вокруг, лишь бы не оставаться наедине со своим ничтожеством.
Лицо Волан-де-Морта исказилось в нечеловеческой ярости. Маска спала. Жалкий мальчишка посмел не просто бросить ему вызов — он посмел его увидеть. Увидеть ту самую дрожащую, испуганную пустоту, которую он всю жизнь пытался замуровать под слоями власти, жестокости и бессмертия. Это было высшее кощунство. Окончательное оскорбление.
— Авада Кедавра! — взревел он, и из его палочки вырвался не просто луч, а концентрированный вопль самой смерти.
— Revelare essentia tua! — ответил Гарри, и его заклинание было не криком, а шепотом.
Шепотом, который способен обрушить горы.
Столкновение не породило звука. Два луча, два абсолюта, встретились в точке невозврата. Зеленый свет смерти — яростный, голодный, требующий жертвы. И белый свет истины — холодный, беспристрастный, не требующий ничего, кроме права быть. На долю секунды мир замер, балансируя на острие иглы. Зеленое пламя взметнулось, пытаясь поглотить своего противника, как оно поглощало тысячи жизней до этого. Но белый луч не сопротивлялся. Он не был щитом. Он был зеркалом.
Он прошел сквозь смертельное проклятие, не потревожив его, словно они существовали в разных плоскостях реальности. И коснулся груди Темного Лорда.
Волан-де-Морт не закричал. Его тело выгнулось дугой, не от боли, а от невозможного внутреннего давления. Свет начал сочиться из него — не из ран, а из самих пор его существования. Это был не свет магии, а свет откровения, безжалостный рентген души.
Сначала начала распадаться иллюзия величия. Его мантия, казавшаяся сотканной из самой тьмы, вдруг потеряла цвет, став пыльной, серой тряпкой. Его высокий рост начал уменьшаться, плечи ссутулились. Змеиное лицо поплыло, как воск под огнем, теряя свою ужасающую нечеловечность и обретая черты чего-то гораздо более пугающего — черты обыденности.
А затем начался исход.
Из его груди, разрывая ткань реальности, вырвались первые тени. Они были сотканы из дыма и боли, искаженные, воющие фрагменты души, которые он так старательно прятал по всему миру. Крестражи.
— Я был короной мудрости! — завыл призрачный диадем, кружась над его головой, как стервятник. — А ты бросил меня в грязь, в комнату забытых вещей, как ненужный хлам! Ты предал саму идею величия ради своего мелкого страха!
— Ты обещал мне вечность! — вторил ему дневник, приняв облик юного, красивого Тома Риддла, чье лицо было искажено гримасой предательства. — Ты использовал меня, как инструмент, и оставил гнить в руках глупой девчонки! Я — это ты, и ты предал самого себя!
— Холод! Вечный холод пещеры! — шипел медальон Слизерина, обвиваясь вокруг его шеи призрачной удавкой. — Ты запер меня в темноте, наедине с мертвецами! Ты трус, Том! Ты всегда был только трусом!
Каждый вырвавшийся осколок был не просто уликой. Это был приговор. Они кричали не о его злодеяниях, а о его ничтожности. Они обнажали механизм его «божественности» — не великую силу, а панический, животный ужас перед смертью, который заставил его расчленить собственную душу и спрятать куски по темным углам, как вор прячет краденое.
В центре этого вихря обвинений, на коленях, стояло существо, которое уже нельзя было назвать Темным Лордом. Это был мальчик. Худой, бледный, с острыми коленками, торчащими из-под грязной, короткой сиротской робы. Его лицо было мокрым от слез и соплей, нос, который он так старательно стер магией, вернулся, красный и распухший от рыданий.
Он смотрел на свои руки — маленькие, дрожащие руки ребенка — с выражением абсолютного, животного ужаса. Вся его сила, вся его власть, все его бессмертие оказались не броней, а театральным костюмом, который сорвали, оставив его голым на ледяном ветру истины.
И тогда он издал звук, который уничтожил остатки веры его последователей. Не проклятие. Не угрозу. А жалкий, тонкий, полный отчаяния детский всхлип.
— Мамочка!..
Этот крик ударил по Пожирателям Смерти сильнее любого Круциатуса. Их бог умер. На его месте остался плачущий ребенок, который просто хотел, чтобы его пожалели.
Звук, который он издал, был ключом, отпирающим последнюю дверь в камере пыток. Это был не вопль могущественного существа, поверженного в бою. Это был плач ребенка, потерявшегося в темноте. Он повис в воздухе, тонкий и пронзительный, и прошил насквозь каждого, кто его услышал, добравшись до самых потаенных, замурованных уголков души. Мир не взорвался. Он просто треснул, как старое зеркало, отразив в каждом осколке одну и ту же невыносимую картину.
Гарри Поттер стоял, опустив палочку. На его лице не было триумфа. Лишь бездонная пустота, как у хирурга, который только что провел чудовищную, но необходимую операцию. Он не победил врага. Он стер его.
Реакция Пожирателей Смерти была самым страшным чудом этой ночи.
Не было ни ярости, ни криков о мести, ни попыток броситься на Гарри. Была лишь тишина, наполненная звуком рушащихся миров. Они смотрели на существо в центре двора, и их лица, до этого искаженные фанатичным экстазом, медленно разглаживались, обнажая растерянность, потом недоверие, а затем — волну ледяного, тошнотворного омерзения.
Их идол, их бог, их оправдание всему — крови, пыткам, предательствам — оказался обманом. Не великим, трагическим падением, как у Люцифера, а жалкой, постыдной иллюзией. Их жизни, построенные на служении этой темной силе, в один миг превратились в фарс. Они были не солдатами темной армии, а прислугой капризного, испуганного мальчишки.
Беллатриса Лестрейндж, чье лицо всегда было маской безумной преданности, смотрела на рыдающего Тома Реддла, и в ее глазах медленно угасал огонь. Ее губы дрогнули, словно она хотела что-то сказать, но не нашла слов. Она просто развернулась, споткнулась, как пьяная, и, не глядя по сторонам, побрела прочь, в темноту. Ее война закончилась. Ее вера была мертва.
Остальные последовали за ней. Не как армия, отступающая в порядке. А как толпа паломников, обнаружившая, что гробница их святого пуста. Они расходились по одному, по двое, опустив головы, пряча лица. Их аура могущества и страха испарилась, оставив после себя лишь запах стыда. Они не были побеждены. Они были развенчаны.
В тени аркады, где стояла Самус, ее системы завершили анализ. Она видела не магию. Она видела тактику. Идеальную, безжалостную, окончательную. Уничтожить не тело, а идею. Разрушить не армию, а веру, которая ее питает.
> АНАЛИЗ ЗАВЕРШЕН.
> УРОВЕНЬ УГРОЗЫ "ВОЛАН-ДЕ-МОРТ": ОБНУЛЕН.
> ПРИЧИНА: ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ КОЛЛАПС ЛИЧНОСТИ.
> ИСПОЛЬЗОВАННОЕ ОРУЖИЕ: "REVELARE ESSENTIA TUA".
> КЛАССИФИКАЦИЯ: ОРУЖИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО УНИЧТОЖЕНИЯ.
> СТАТУС: ПРИОРИТЕТНОЕ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ.
Она перевела взгляд с плачущего ребенка на мальчика, который его сломал. Он стоял один посреди руин, и на его плечи, казалось, давил весь вес этого опустевшего мира. Он был не солдатом. Он был палачом. И приговор, который он привел в исполнение, был страшнее любой смерти.
Самус Аран не знала, что такое "душа". Но она только что видела, как ее ампутировали. И этот холодный, хирургический ужас впечатлил ее больше, чем взрывы тысяч солнц.
Она сделала мысленную пометку. Этот метод стоило запомнить.
Космос молчал. Это была не та тишина, что царит между мирами, наполненная шепотом реликтового излучения и далеким гулом гравитации. Это была мертвая, выпотрошенная тишина, как в гробнице, где даже пыль боится шевелиться. Система Зебес была кладбищем. Планеты-луны, некогда кипевшие жизнью и инопланетной архитектурой, теперь висели в пустоте безмолвными, расколотыми черепами. Их орбиты были неправильными, словно их сбили с пути ударом немыслимой силы, и теперь они медленно, неотвратимо падали по спирали к своему угасшему солнцу. Корабль Самус Аран, похожий на хищную оранжевую птицу, висел в центре этой мертвой системы, его сенсоры жадно впитывали молчание, пытаясь найти в нем хоть одну ноту, хоть один выживший сигнал.
Уже три цикла она следовала за эхом.
Эхо того события на Земле — применение «оружия концептуального уничтожения» — не исчезло. Оно отпечаталось в ее системах, в ее разуме, в самой логике ее существования. Днями, пока ее корабль летел на автопилоте через пустоту, она снова и снова прокручивала запись. Рыдающий мальчишка на коленях. Рассыпающаяся армия. И холодное, хирургическое удовлетворение в глазах победителя. Это было неэффективно с точки зрения затрат энергии. Но с точки зрения окончательности результата — безупречно.
Ее цель была не в том, чтобы скопировать магию. Магия была для нее лишь экзотической формой манипуляции энергией, ненадежной и подверженной эмоциям. Ее цель была в том, чтобы воспроизвести принцип.
Не убить врага, а стереть саму концепцию врага. Не уничтожить тело, а переписать код личности.
И у нее был идеальный испытуемый. Существо, чья личность была так же проста и неизменна, как аксиома. Существо, сотканное из чистой, незамутненной ненависти, жестокости и инстинкта выживания. Существо, которое она убивала снова и снова, но которое, как сама идея зла, всегда возвращалось.
Ридли.
Она искала его. Не для того, чтобы снова убить. А для того, чтобы исправить.
Сигнал пришел с самой мертвой из планет системы — с той, что носила шрамы ядерной бомбардировки, устроенной ею самой много лет назад. Слабый, прерывистый сигнал бедствия, запущенный каким-то отчаявшимся космическим пиратом. Но сквозь помехи ее системы уловили знакомую био-сигнатуру. Дикую, яростную, полную зазубренной, как осколки стекла, боли.
Он был там. Раненый. Загнанный в угол. Идеально.
Самус развернула корабль. В одном из отсеков, в стерильном вакуумном контейнере, лежало устройство, которое она собрала по древним чертежам Чозо, модифицировав его на основе данных, полученных в Хогвартсе. Оно не было похоже на оружие. Гладкий, серебристый цилиндр, покрытый светящимися глифами, он напоминал скорее хирургический инструмент. На боку горела единственная надпись, которую она дала проекту: «Деконструктор эго. Модель 1.0».
Она летела не на битву. Она летела на операцию.
И Гарри Поттер, спавший в криокапсуле в соседнем отсеке, был ее главным «консультантом». Он еще не знал об этом, но его роль в этом эксперименте была ключевой. Он должен был стать свидетелем. Он должен был подтвердить, что технологическое чудо может быть таким же безжалостным, как и его магия.
* * *
Поверхность планеты была адом, застывшим в янтаре времени. Некогда здесь были кислотные дожди и хищная флора, теперь — лишь стекловидная черная пустыня под багровым, немигающим солнцем. Следы давней бомбардировки оставили на ландшафте уродливые оспины кратеров, края которых оплавились в обсидиан. Воздух был тонким и пах горелым металлом и радиацией — слабым, но вечным напоминанием о том, что здесь когда-то была жизнь, и она была уничтожена с хирургической точностью. Корабль Самус приземлился беззвучно, его антигравитационные двигатели лишь слегка всколыхнули пепел, лежавший нетронутым, возможно, целую вечность.
Гарри Поттер очнулся от криосна с головной болью и ощущением дежавю. Последнее, что он помнил — празднование победы в Норе. А затем — странный, безболезненный укол в шею и темнота. Теперь он стоял под чужим, больным небом, вдыхая воздух через фильтры шлема, который материализовался на его голове, и смотрел на женщину в броне, которая безмолвно указала ему на зияющую дыру в земле. Это был вход в старый пиратский аванпост, похожий на рану, нанесенную планете ржавым ножом.
— Он там, — голос Самус, прозвучавший в его коммуникаторе, был лишен интонаций, холодный и ровный, как линия горизонта на этой мертвой планете. — Мне нужен свидетель. Ты должен это увидеть.
Гарри не понимал, что происходит, но инстинкт, отточенный годами борьбы за выживание, подсказывал ему, что спорить бесполезно. Он был не гостем. Он был экспонатом.
Они спускались в тишине. Коридоры аванпоста были лабиринтом из корродирующего металла и оборванных силовых кабелей, которые тихо искрили во тьме, как последние нервные импульсы в мертвом теле. Стены были покрыты следами когтей — глубокими, яростными бороздами, оставленными существом, которое пыталось вырваться не наружу, а из собственной агонии. Чем глубже они уходили, тем сильнее становился запах — омерзительная смесь гниющей плоти, озона от коротких замыканий и чего-то еще, чего-то мускусного и первобытного. Запах раненого хищника.
Наконец, они вышли в огромный, обрушившийся кавернозный зал, некогда бывший ангаром. В центре, среди искореженных останков пиратских истребителей, лежал он.
Ридли.
Он был сломлен. Его огромное, птеродактилеподобное тело было одним сплошным кровоподтеком. Левое крыло было вырвано у основания, обнажая почерневшие кости. Из многочисленных ран на его фиолетовой шкуре сочилась густая, темная кровь. Он тяжело дышал, и каждый выдох сопровождался хриплым, булькающим стоном. Но даже в таком состоянии он оставался воплощением чистой, незамутненной злобы. Его желтый глаз, единственный уцелевший, горел неугасимым огнем ненависти. Он увидел Самус, и его тело напряглось, когти заскрежетали по металлическому полу. Он попытался издать свой фирменный, разрывающий барабанные перепонки рев, но из его глотки вырвался лишь жалкий, дребезжащий кашель.
Вокруг него валялись тела пиратов. Разорванные, расчлененные. Он был ранен, но не ими. Он был ранен, но все еще был их королем.
Самус не подняла свою плазменную пушку. Она медленно, почти церемониально, вынула из крепления на бедре серебристый цилиндр. Он мягко загудел, и глифы на его поверхности начали светиться холодным, голубым светом.
— Я убивала тебя слишком много раз, Ридли, — сказала она, и ее голос эхом разнесся по ангару. — Смерть для тебя — лишь временное неудобство. Пора попробовать что-то более… окончательное.
Ридли зарычал, пытаясь подняться, но сил хватило лишь на то, чтобы приподнять голову. Он не понимал, что это за устройство, но инстинкт, отточенный веками битв, кричал ему, что это — не оружие. Это нечто гораздо хуже.
Гарри смотрел, затаив дыхание. Он видел, как женщина, которая привела его сюда, готовится не к убийству. Она готовилась к вивисекции души. И он понял, зачем он здесь. Он был не просто свидетелем. Он был зеркалом, в котором она хотела увидеть отражение своего собственного, холодного и технологичного ужаса.
Самус нажала на активирующую панель. «Деконструктор эго» не издал ни выстрела, ни вспышки. Вместо этого из его апертуры вырвался невидимый, неслышимый импульс — волна структурированной информации, которая ударила в Ридли не как физический объект, а как неоспоримая логическая теорема. Воздух вокруг дракона на мгновение исказился, как от жары, а затем все замерло. Ридли застыл, его единственный желтый глаз расширился, отражая нечто, чего Гарри не мог видеть, — возможно, бесконечный поток нулей и единиц, переписывающий саму суть его бытия.
Не было ни боли, ни криков. Была лишь абсолютная, звенящая тишина, в которой происходило нечто гораздо более страшное, чем смерть.
Первые изменения были почти незаметными. Яростный, ненавидящий огонь в глазу Ридли начал тускнеть. Не гаснуть, а именно тускнеть, словно кто-то медленно выкручивал регулятор яркости. Его напряженное, готовое к последней атаке тело начало расслабляться, мышцы обмякли. Хриплое, агонизирующее дыхание выровнялось, стало тихим и ритмичным.
А затем начался каскадный коллапс личности.
Его острые, как бритва, когти, способные рвать корабельную броню, начали втягиваться в пальцы, уступая место мягким, ороговевшим подушечкам, похожим на те, что бывают у травоядных животных. Зазубренный гребень на его спине, символ агрессии и доминирования, опал, как увядший цветок. Длинный, смертоносный хвост, которым он пронзал врагов, безвольно опустился на пол и дернулся в последний раз, словно в прощальной конвульсии.
Самое страшное происходило с его пастью. Клыки, созданные, чтобы рвать плоть, начали укорачиваться и скругляться, превращаясь в подобие жевательных зубов. Из его глотки, откуда должно было вырываться плазменное пламя, вырвался тонкий, мелодичный писк, похожий на звук, который издают птенцы.
Гарри смотрел на это, и его желудок скрутило от холодного, липкого ужаса. Это было не исцеление. Это была лоботомия. Самус не убивала монстра. Она методично, клетка за клеткой, разбирала его на части, стирая все, что делало его Ридли, и заменяя это… пустотой.
Когда импульс прекратился, существо, лежавшее на полу, уже не было Ридли. Оно было лишь его оболочкой, пустой и покорной. Оно медленно подняло голову, и в его глазу теперь не было ничего, кроме спокойного, бездумного любопытства. Оно посмотрело на Самус, своего вечного врага, своего убийцу, и издало еще один тихий, вопросительный писк.
А затем оно начало действовать, подчиняясь новой, вшитой в его ДНК программе. Неуклюже, опираясь на свои теперь бесполезные лапы, оно подползло к груде искореженного металла, выбрало самый блестящий, нетронутый ржавчиной болт, и аккуратно покатило его в угол ангара. Там, с методичной, бессмысленной целеустремленностью, оно начало строить гнездо.
Над его головой, из проектора на «Деконструкторе», который держала Самус, вырвался тонкий луч света и написал в воздухе новое имя для этого существа. Имя, которое было окончательным приговором.
> ОБЪЕКТ ПЕРЕФОРМАТИРОВАН.
> ЛИЧНОСТЬ «РИДЛИ»: СТЕРТА.
> НОВАЯ ДИРЕКТИВА: «СТРОИТЕЛЬСТВО».
> НОВОЕ ИМЯ: «ПУШИСТИК».
Гарри Поттер отшатнулся и его стошнило прямо в шлем. Он только что стал свидетелем убийства души. И он понял, что ужас, который он обрушил на Волан-де-Морта, был лишь детской, интуитивной жестокостью. А это. Это было холодное, расчетливое, технологическое зло, возведенное в абсолют. Это был искусственный рай, построенный на руинах свободной воли. И это было гораздо, гораздо страшнее любого ада.
Они вернулись на Землю так же тихо, как и покинули ее. Не было ни вспышек, ни пространственных разрывов. Корабль Самус просто возник в верхних слоях атмосферы над Шотландией, словно всегда был там, невидимый и неслышимый, как мысль. Он завис над почерневшими руинами Хогвартса, которые медленно зарастали вереском и забвением. Война закончилась. Мир зализывал раны, пытался забыть и жить дальше. Но для двоих, находившихся на борту, война только начиналась. Внутренняя, тихая, безжалостная.
Гарри не разговаривал с ней с момента их возвращения с Зебеса. Образ «Пушистика», методично строящего свое бессмысленное гнездо, выжег в его памяти клеймо, которое было страшнее шрама на лбу. Он сидел в отсеке для пассажиров, смотрел в иллюминатор на знакомые холмы и чувствовал себя чужим. Чужим в собственном мире, в собственном теле, в собственных воспоминаниях. Он победил Темного Лорда, но то, что он видел там, в ангаре, обесценило его победу, превратив ее в наивный детский поступок.
Самус чувствовала его молчание. Ее системы, способные уловить изменение частоты дыхания на расстоянии в сто метров, регистрировали каждую паузу, каждый сбившийся вздох, каждый удар его сердца, который был чуть медленнее, чем положено здоровому человеку. Она не понимала его реакции. Эксперимент был успешным. Угроза устранена. Навсегда. Разве это не было целью? Разве он не сделал то же самое, пусть и более примитивными методами?
Она подошла к нему. Ее шаги по металлическому полу были единственным звуком в стерильной тишине корабля. Она сняла шлем. Ее лицо, обычно непроницаемое, как броня, которую она носила, было странно уязвимым в тусклом свете бортовых огней. Длинные светлые волосы упали на плечи. Ее синие глаза, привыкшие видеть в инфракрасном и ультрафиолетовом спектрах, пытались прочитать его, но видели лишь отражение собственного непонимания.
— Ты достиг своей цели, — сказала она. Ее голос без вокодера был ниже, чем ожидал Гарри, и в нем слышалась легкая, почти незаметная хрипотца. — Я достигла своей. Мир стал безопаснее. Почему ты молчишь?
Гарри медленно повернулся. Он посмотрел на нее — на эту женщину, которая была одновременно произведением искусства и совершенным оружием. И впервые он увидел не охотницу. Он увидел существо, бесконечно одинокое в своей силе.
— Ты не понимаешь, — тихо сказал он. — То, что сделал я… это было откровение. Жестокое, ужасное, но откровение. Я показал ему, кем он был на самом деле. А ты… ты стерла его. Ты заменила одну сущность другой. Ты не победила зло. Ты его отредактировала. Это не победа. Это… цензура.
В ее глазах на мгновение мелькнуло что-то похожее на растерянность. «Цензура». Это слово, чуждое ее миру цифр и тактических расчетов, ударило точнее любого плазменного заряда. Она всю жизнь устраняла угрозы. Но она никогда не задумывалась о том, что у угрозы может быть право на существование.
Она сделала шаг вперед. Ее тело двигалось с грацией хищника, но намерение было почти детским, неуклюжим. Она хотела… что? Утешить? Объяснить? Найти точку соприкосновения? Она не знала. Она просто почувствовала импульс — сократить дистанцию. Она положила свою руку, облаченную в тонкую перчатку энергокостюма, ему на плечо.
А затем она, в порыве непонятного ей самой чувства — благодарности за новый опыт? уважения к его странной, нелогичной морали? — сделала то, чего не делала, возможно, никогда в своей взрослой жизни.
Она обняла его.
И раздался жуткий, влажный хруст ломающихся костей.
* * *
Больница Святого Мунго пахла отчаянием, антисептиками и чем-то сладковатым, похожим на запах увядающих лилий. Это был запах магии, которая из последних сил боролась с необратимостью. Гарри лежал в отдельной палате, в белоснежной, накрахмаленной пустоте, которая, казалось, высасывала из мира все цвета. Его тело было заключено в сложный кокон из магических шин, поддерживающих повязок и тихо гудящих артефактов, капля за каплей вливающих в него костерост и болеутоляющие зелья. Двенадцать ребер, ключица, три позвонка. Целители качали головами и говорили о «травме от столкновения с магическим существом огромной массы». Они не знали, насколько были близки к истине.
Он не чувствовал боли. Физической. Но внутри него разливалась холодная, серая апатия. Он смотрел в белый потолок, и его мысли двигались медленно, как мухи в янтаре. «Мальчик-Который-Выжил». Победитель Темного Лорда. Герой магического мира. Сломан. Не проклятием, не в бою, не жертвуя собой ради великой цели. А от простого, неуклюжего объятия. Вся его жизнь, вся его борьба, все его шрамы казались теперь насмешкой. Он победил абсолютное зло, но оказался слишком хрупким для одного-единственного проявления… чего? Нежности? Силы? Он даже не знал, как это назвать.
Она приходила каждый день.
Она не пользовалась дверью. Просто появлялась в углу палаты, ее стелс-система мягко отключалась, и она материализовывалась из воздуха, как призрак из будущего. Она больше не носила свой боевой костюм. На ней была простая, функциональная форма — темный комбинезон, высокие ботинки. Без брони она казалась… меньше, но не менее опасной. Ее сила теперь не была заключена в металл, а исходила из самой ее осанки, из того, как она двигалась, из абсолютной тишины, которая ее окружала.
Она садилась на стул у его кровати и молчала. Часами. Ее синие глаза изучали его с тем же бесстрастным вниманием, с каким она изучала схемы вражеского корабля. Ее системы непрерывно сканировали его жизненные показатели: скорость регенерации костной ткани, уровень эндорфинов в крови, частоту сердечных сокращений. Она собрала больше данных о его физиологии, чем все целители Мунго вместе взятые. Но она не могла просканировать ту пустоту, что разрасталась за его ребрами.
Однажды она заговорила.
— Регенерация костной ткани проходит на 17% медленнее, чем предполагалось, — сказала она, и ее голос в стерильной тишине палаты прозвучал, как падение хирургического инструмента на кафельный пол. — Я внесла коррективы в твой рацион. Добавила кальций и фосфаты.
Гарри медленно повернул голову.
— Спасибо, — прошептал он. — Очень… технологично.
Она проигнорировала сарказм.
— Я совершила тактическую ошибку, — продолжила она ровным голосом. — Не учла предел прочности твоей биомассы. Плотность моих мышечных волокон и костной структуры превышает средние показатели для Homo Sapiens в 7.3 раза. Компрессионное усилие объятия составило примерно 450 килограммов на квадратный сантиметр. Это было… неэффективно.
Гарри закрыл глаза, и по его щеке медленно скатилась слеза. Не от боли. От абсурда. От унижения. От чудовищной, непреодолимой пропасти, которая лежала между ним и этим существом. Она анализировала свою ошибку, как сбой в программе. А он лежал здесь, сломленный, и чувствовал, как его мир, за который он так отчаянно сражался, рассыпается в пыль. Его депрессия была не просто печалью. Это был экзистенциальный шок от осознания собственной незначительности.
А она, глядя на соленую каплю на его щеке, тоже испытывала нечто новое. Сбой в собственной системе. Ее логические цепи не могли найти объяснения этому явлению. Ее сила, всегда бывшая инструментом выживания и победы, впервые стала причиной разрушения того, что она не собиралась разрушать. И это порождало в ней странное, холодное, тянущее чувство в груди. Чувство, которое ее диагностические системы определяли как «системную ошибку с вероятностью каскадного сбоя».
Она тоже была в депрессии. Просто ее депрессия была алгоритмом, медленно пожирающим ее изнутри. Два одиночества. Два сломанных существа. В одной белой комнате, разделенные пропастью, которую не могли измерить никакие сенсоры.
Время в больнице Святого Мунго текло, как густой, засахарившийся мед. Дни сливались в один бесконечный белый шум, прерываемый лишь тихими шагами целителей и безмолвным появлением Самус. Гарри перестал следить за календарем. Его мир сузился до размеров палаты, до рельефа на потолке, до ритма капельницы, вливающей в него жизнь, которую он не был уверен, что хочет продолжать. Он говорил с друзьями, которые его навещали — с Роном, Гермионой, Джинни. Он улыбался, кивал, отвечал на вопросы, но чувствовал себя актером, играющим роль Гарри Поттера, в то время как настоящий он тонул где-то в сером, безразличном тумане.
Его депрессия была тихой гангреной. Она не кричала. Она медленно отравляла его изнутри, лишая мир красок, вкусов и смысла. Победа, дружба, любовь — все эти великие слова, за которые он сражался, теперь казались ему далекими, чужими звездами, свет которых идет миллионы лет, но сами они, возможно, давно погасли.
Однажды в палате появился третий.
Жанна д’Арк Альтер возникла не из тени, как Самус, а из самого отчаяния. Она просто шагнула из угла, который секунду назад был пуст, ее черная броня поглощала свет, а в желтых глазах плескалось едкое, насмешливое пламя. В руках она держала свое знамя, на котором было наспех начертано одно-единственное, грубое слово.
— Ну что, голубки, — прорычала она, обводя взглядом сначала скованного магией Гарри, а затем застывшую у окна Самус. — Доигрались в героев? Один похож на сломанную куклу, вторая — на дефектного робота. Какая трогательная картина вселенской беспомощности.
Самус мгновенно развернулась, ее тело напряглось, как пружина. Ее рука инстинктивно легла на то место, где под комбинезоном скрывался плазменный пистолет.
— Идентификация, — холодно произнесла она.
— Я — ваша общая галлюцинация, — расхохоталась Жальтер. — Я — тот здравый смысл, который вы оба потеряли. Вы устроили соревнование в унижении, а в итоге унизили только себя. Он, — она ткнула древком знамени в сторону Гарри, — доказал, что его тело так же хрупко, как и его психика. А ты, — ее взгляд впился в Самус, — доказала, что твоя сила бесполезна, если ты не можешь даже обнять кого-то, не сломав его.
Она развернула знамя. На нем было нацарапано: NINTENDON'T.
— Это был плохой геймдизайн, — усмехнулась Жальтер. — Пора начинать новую игру. Или вы так и собираетесь гнить здесь, упиваясь своим экзистенциальным нытьем?
Ее слова были жестокими, как удар хлыста. Но они прорвали ту пелену апатии, которая окутывала Гарри. Он посмотрел на Жальтер, потом на Самус, и впервые за много недель почувствовал что-то, кроме усталости. Злость.
— Что ты предлагаешь? — прохрипел он.
— О, я ничего не предлагаю, — осклабилась ведьма. — Я просто констатирую факт. Вы оба — аномалии. Сломанные инструменты, которые больше не могут выполнять свою функцию. Он — спаситель, который не может спасти даже себя от объятий. Она — идеальный воин, который боится собственного прикосновения. Ваше дальнейшее существование по отдельности бессмысленно. Но вместе… вместе вы представляете собой интересный парадокс.
И в этот момент Самус поняла. Ее логические цепи, до этого зацикленные на анализе собственной ошибки, вдруг нашли новое, безумное, но единственно верное решение. Она посмотрела на Гарри — не как на пациента, а как на партнера по этому парадоксу.
— Она права, — сказала Самус, и в ее голосе впервые появилась не констатация факта, а что-то похожее на… решение. — Моя сила разрушительна. Твоя хрупкость — это константа. По отдельности мы — ошибка. Но вместе мы можем стать уравнением.
Гарри смотрел на нее, и до него медленно доходил смысл ее слов. Это было не предложение любви или дружбы. Это было предложение контракта. Партнерства, основанного не на чувствах, а на взаимной компенсации дефектов. Она будет его броней. А он… он будет ее предохранителем. Той самой человечностью, которой ей не хватало, чтобы не ломать все, к чему она прикасается.
— Я буду твоим щитом, — сказала она.
— А я не дам тебе превратить весь мир в «Пушистиков», — ответил он, и в его голосе впервые за долгое время прозвучала тень его прежней, упрямой силы.
Жальтер фыркнула, свернула свой флаг и растворилась в воздухе так же, как и появилась, оставив после себя лишь запах озона и смутное ощущение, что их только что втянули в чью-то очень злую и очень долгую шутку.
Депрессия не ушла. Но теперь у них была общая цель. Выжить. Вместе. В мире, для которого они оба были слишком странными.
Годы сплелись в странный, неровный узор. Их «контракт», заключенный в стерильной тишине больничной палаты, оброс плотью быта. Они жили на ее корабле, в вечном сумраке космоса, где единственным календарем были циклы систем жизнеобеспечения. Их союз был похож на архитектуру древних, нечеловеческих рас — функциональный, лишенный украшений, но надежный, как сама физика. Он был ее якорем в мире хаотичных человеческих эмоций, которые он переводил для нее на язык логики. Она была его экзоскелетом, его стеной, защищающей от мира, который после пережитого ужаса казался ему слишком хрупким и одновременно слишком жестоким.
Их физическая разница была постоянным, молчаливым напоминанием о пропасти между ними. Гарри, стоя рядом с ней, едва доставал ей до плеча. Ее рост в сто девяносто сантиметров и девяносто килограммов генетически усовершенствованных мышц делали его, героя магического мира, похожим на подростка. Он открывал консервы заклинанием, потому что боялся просить ее — в прошлый раз она случайно смяла жестяную банку в комок. Она, в свою очередь, научилась двигаться по кораблю с преувеличенной осторожностью, словно гигантский механизм, попавший в лавку фарфора. Их жизнь была полна таких сюрпризов — комичных, неловких и бесконечно грустных.
Они редко говорили о том, что их гложет. Но пустота между ними росла. Их союз был идеальным тактическим решением, но он был лишен… творения. Он был статичен. Однажды ночью, когда за иллюминатором висела туманность, похожая на гигантскую, раненую бабочку, она подошла к нему. Она была без комбинезона, в простой серой тунике, и казалась одновременно и богиней из древних мифов, и бесконечно уставшей женщиной.
Заглядывать в ее глаза было все равно что смотреть в жерло плазменной пушки, в глубине которого неожиданно обнаружился ранимый, трепещущий свет.
— Гарри, — ее голос был тихим. — Наши системы несовместимы. Наш союз — это паритет, а не синтез. Мы — два параллельных решения, которые никогда не пересекутся. Это… неэффективно.
— Что ты предлагаешь? Снова сломать мне ребра? — горько усмехнулся он.
И тогда он увидел то, к чему был абсолютно не готов. По ее щеке медленно скатилась слеза. Одна. Идеальная, как кристалл.
— Эмоциональный запас Рона Уизли, как сказала однажды Гермиона, размером с зубочистку, — прошептала она, цитируя фразу, которую когда-то услышала от него. — А мой… мой, кажется, размером с черную дыру. Я просто не знаю, как им управлять. Он все поглощает. Я не хочу тебя ломать. Я хочу… создать. Создать решение. Точку пересечения.
Он понял. Это была не логика. Это была отчаянная, почти детская мольба. Мольба о том, чтобы создать нечто цельное из их двух сломанных половинок. Ребенка.
То, что произошло дальше, не было актом страсти в человеческом понимании. Для Гарри это было испытание метавселенского уровня сложности. Попытка смертного обнять созвездие. Ее тело было не просто телом женщины, а ландшафтом из силы и совершенства, пугающим и манящим одновременно. Каждое ее движение было выверено с точностью боевого компьютера, но под этой стальной кожей он чувствовал дрожь — не от возбуждения, а от страха. Страха снова причинить боль. Для него это был акт веры, прыжок в бездну. Для нее — акт смирения, отказ от контроля. Это была не ночь любви. Это было таинство. Священное, ужасающее и необходимое.
* * *
Ребенок не плакал.
Когда девочка родилась, она просто открыла глаза и посмотрела на мир с безмолвным, всепонимающим вниманием. Один ее глаз был ярко-зеленым, как у отца, полный магии и жизни. Другой — холодного синего цвета, как визор материнского шлема, и в его глубине, казалось, мерцали огоньки данных.
Над ее колыбелью, которую Гарри наколдовал из лунного света, висела простая игрушечная модель «Золотого снитча». Девочка посмотрела на нее. Снитч замер. А затем, без единого прикосновения, он разобрался на сотни мельчайших деталей — винтиков, пластинок, шестеренок — которые зависли в воздухе в идеальном порядке, как на чертеже инженера. Секунду спустя они так же бесшумно собрались обратно.
Магия веры и аналитика разума.
Они не просто родили ребенка. Они дали плоть Новому Завету. И глядя на это тихое, невозможное чудо, Гарри и Самус впервые почувствовали не только уважение к силе друг друга, но и священный ужас перед тем, что они создали. Сверхспособности этой девочки были не просто даром. Они были приговором для старого мира.
* * *
Она была дитя сумерек и зари, рожденная на корабле, летящем сквозь вечную ночь между звездами. Первой ее колыбельной был не голос матери, а гул фотонного двигателя. Первой игрушкой — голографическая модель туманности Конская Голова. Она научилась читать по звездным картам раньше, чем говорить. Мир для нее был не данностью, а системой. Набором данных, которые нужно было проанализировать, каталогизировать и оптимизировать.
Когда ей исполнилось одиннадцать, они привезли ее в Хогвартс. Для Гарри это было возвращением домой. Для Самус-старшей — полевой миссией по внедрению агента в примитивную, но потенциально опасную среду. А для Самус Аран-Поттер младшей… это было прибытием в музей. Древний, красивый, неэффективный. Она шла по гулким коридорам, и ее мозг, гибрид человеческого сознания и нейропроцессора Чозо, видел не магию. Он видел энтропию. Движущиеся лестницы — нерациональная трата энергии. Говорящие портреты — зацикленные информационные конструкты с ограниченным набором ответов. Призраки — остаточные энергетические отпечатки с поврежденным кодом. Она смотрела на все это с холодным, вежливым любопытством ученого, изучающего причудливую экосистему.
Кульминацией экскурсии стал Большой Зал и церемония Распределения. Тысячи свечей, плавающих в воздухе, — нарушение законов физики, поддерживаемое нестабильным силовым полем. Заколдованный потолок — простая визуальная иллюзия, проецирующая наружное изображение. И в центре всего — артефакт. Старая, штопаная шляпа, содержащая в себе сложный телепатический интерфейс, созданный на основе отпечатка сознания четырех основателей. Примитивно, но элегантно.
Когда назвали ее имя, зал затих. Все знали, чья она дочь. Дитя двух легенд. Она спокойно подошла к табурету и надела Шляпу на голову.
И Шляпа закричала.
Не вслух. А в ее сознании. Это был беззвучный вопль, полный ужаса и растерянности. За свою тысячелетнюю историю Распределяющая Шляпа заглядывала в умы тысяч волшебников. Она видела свет и тьму, храбрость и трусость, гениальность и безумие. Но она никогда не видела такого.
Она заглянула в ее сознание и упала в холодную, звенящую пустоту космоса. Она искала детские страхи, а нашла тактические схемы защиты звездолета. Она искала теплые воспоминания, а увидела трехмерные чертежи плазменного оружия. Она искала мысли, а нашла потоки чистого кода. Она пыталась нащупать душу, но наткнулась на стальной, безупречно работающий механизм, в ядре которого горел тихий, ровный огонь — зеленый, как отцовское заклинание, и синий, как материнский визор. Это была душа, собранная по другим чертежам. Душа «Сверхмашины».
«Что ты такое?..» — прошептала Шляпа.
«Я — решение», — беззвучно ответил ребенок.
Шляпа пыталась найти факультет. Храбрость? Она не знала страха, лишь оценивала риски. Ум? Она не просто знала, она вычисляла. Хитрость? Ее логика была прямолинейна и безжалостна. Верность? Ее единственной лояльностью была эффективность. Она была всем и ничем. Она была тем, кто придет после.
Шляпа поняла, что не может ее распределить. Она может лишь попытаться привязать ее к чему-то человеческому. Дать ей якорь в этом мире, пока она не ушла слишком далеко в холодные звезды своего разума.
— ГРИФФИНДОР! — закричала она вслух, и в этом крике было больше мольбы, чем решения.
Самус-младшая сняла Шляпу и спокойно пошла к столу своего факультета. Но старый мир уже почувствовал угрозу. Когда она проходила мимо стола Слизерина, старшекурсник, отпрыск древнего чистокровного рода, решил утвердить свой статус. Он выставил ногу.
Девочка остановилась. Она не споткнулась. Ее системы зафиксировали движение за 0.02 секунды и просчитали 14 вариантов ответных действий. Она выбрала самый энергоэффективный.
Она просто посмотрела на него.
Ее взгляд не был злым или угрожающим. Это был взгляд инженера, смотрящего на неисправный механизм. Мальчик встретился с ее глазами — одним зеленым, другим синим — и мир треснул. Он вдруг увидел себя не гордым аристократом, а тем, чем он был на самом деле: маленьким, испуганным набором комплексов, страхов и унаследованных предрассудков. Вся его гордость, вся его спесь показались ему нелепой, детской броней, полной дыр. Он увидел свою душу, как на ладони, и она была жалкой.
Он не закричал. Он просто тихо всхлипнул, отдернул ногу и вжался в скамью, пытаясь стать как можно меньше.
Девочка пошла дальше, не удостоив его больше ни единым взглядом. А те, кто сидел рядом и видел это, поежились. Они не поняли, что произошло. Но они почувствовали холод, исходящий от этой маленькой, спокойной фигуры. Холод нового мира.
И они поняли, что смотрят в глаза той, кто будет после.
Война закончилась, но яд остался. Он циркулировал в венах магического общества, невидимый, но смертельный. Пожиратели Смерти, те, кто избежал Азкабана, сбросили маски и снова надели мантии респектабельности. Они заседали в Визенгамоте, владели банками, жертвовали на благотворительность, и их золото, добытое на крови и страданиях, сверкало так же ярко, как и раньше. Их вина была растворена в амнистиях, их преступления — похоронены под слоями юридических уловок. Старый мир, с его любовью к компромиссам и страхом перед настоящими переменами, принял их обратно. Он предпочел простить, чтобы забыть.
Гарри и Самус, наблюдая за этим из своей космической цитадели, видели не возрождение, а метастазы. Зло не было побеждено. Оно просто сменило бренд. И они решили, что пора закончить то, что было начато в ночь падения Волан-де-Морта. Но не огнем и мечом. А чем-то гораздо более жестоким. Бюрократией.
Они организовали «Благотворительный бал возрождения», самое громкое светское событие года. Под патронажем «Анонимного мецената» (Самус, взломавшая счета нескольких коррумпированных галактических корпораций), в самом роскошном зале Министерства Магии был устроен вечер, посвященный «сбору средств для сирот войны». Приглашения были разосланы всем. Особенно — тем, чьи имена фигурировали в старых, пыльных досье Аврората рядом с пометкой «дело закрыто за недостатком улик». И они пришли. Все до единого. Улыбающиеся, одетые в шелка и бархат, они звенели бокалами с шампанским, обсуждали падение нравов и щедро жертвовали краденые галлеоны, отмывая свою совесть на глазах у всего мира.
Люциус Малфой был в своей стихии. Он стоял в центре зала, окруженный лестью и подобострастием, и чувствовал, как мир возвращается на свои рельсы. Война была досадным недоразумением, временным помешательством, которое, к счастью, закончилось. Его статус, его богатство, его имя — все было восстановлено. Он пережил падение своего Лорда, и это делало его еще сильнее. Он был выжившим. Он был победителем.
Вечер достиг своего апогея. Министр магии, толстый и самодовольный, вышел на сцену, чтобы произнести благодарственную речь. Он говорил о единстве, о прощении, о новом будущем. Пожиратели в зале вежливо аплодировали, обмениваясь понимающими ухмылками.
И в этот момент двери зала с грохотом распахнулись.
На пороге стояла не армия авроров и не мстительные герои. На пороге стояла толпа стариков. Обычных, серых, незаметных стариков и старушек в потертых мантиях и стоптанных башмаках. Они выглядели как ожившая иллюстрация к статье о бедности. Но в их глазах горел огонь, который был страшнее любого Адского пламени.
— «Союз обманутых вкладчиков и жертв финансовых пирамид 'Темная Метка'», — проскрипел один из них, поднимая дрожащей рукой свиток пергамента. — Мы пришли за своим. С процентами.
Сначала в зале раздался смех. Жалкая, нелепая выходка. Охрана! Но охрана не двигалась. Авроры у дверей вдруг стали очень внимательно изучать узоры на потолке.
А затем начался ад. Ад, которого никто не ожидал.
Старушка в линялом чепце взмахнула своей авоськой. Сетка, связанная из какой-то тусклой пряжи, со свистом рассекла воздух и врезалась в грудь Нарциссы Малфой. Та отлетела на пять метров, сбив с ног двух министров. Старик с седой бородой выхватил из-за пазухи самописную квитанцию, дунул на нее, и она превратилась в стальные кандалы, которые с лязгом защелкнулись на запястьях Долохова.
Это была не магия битвы. Это была магия отчаяния. Магия сотен мелких обид, тысяч украденных сиклей, десятков лет унижений, которая копилась, бродила и, наконец, взорвалась. Пожиратели, привыкшие к смертельным проклятиям, оказались беззащитны перед этим народным гневом. Их щиты не работали против летящих счетов-фактур. Их проклятия отскакивали от зачарованных пенсионных удостоверений.
Люциус Малфой стоял в центре этого хаоса, парализованный абсурдностью происходящего. К нему подошла маленькая, сгорбленная старушка. Она не кричала. Она просто протянула ему мятый кусок пергамента.
— Господин Малфой, — сказала она тихим, но стальным голосом. — Вот судебный иск на конфискацию вашего имущества в счет погашения морального ущерба, нанесенного моему погибшему на войне сыну. А вот ордер на аннуляцию вашего магического статуса за неуплату налогов в течение последних двадцати лет. И еще… вот счет за чистку моей мантии после того, как ваш домовик ее испачкал в девяносто втором. Пожалуйста, распишитесь.
Она протянула ему самопишущее перо. И в этот момент Люциус Малфой умер. Не физически. Его сердце продолжало биться. Но его имя, его статус, его гордость, вся его личность, построенная на золоте и власти, превратилась в пыль под тяжестью одного судебного иска. Он был больше не Малфой. Он был просто должником.
Человеком, которого больше не было.
* * *
Хаос на балу был лишь прологом. Первым залпом в войне, о которой не напишут в учебниках истории. Это была не война магии, а война бумаг. Тихая, безжалостная, как рост плесени в сыром подвале. «Союз обманутых вкладчиков», негласно направляемый Самус, взломавшей архивы Министерства и Гринготтса, оказался не просто толпой разгневанных стариков. Это была идеально отлаженная машина, гибрид юридической казуистики и вековой народной обиды. Они были подобны саламандрам Чапека — долгое время незаметные, угнетаемые, они вдруг осознали свою коллективную силу и начали методично, шаг за шагом, отвоевывать мир.
Министерство магии, этот громоздкий, неповоротливый Левиафан, оказалось парализовано. Его собственные законы, его бюрократические лабиринты, созданные для защиты чистокровной элиты, теперь были обращены против нее. Каждый день в «Ежедневный пророк» печатали списки арестованного имущества. Родовые поместья, веками принадлежавшие темным семьям, опечатывались за неуплату земельного налога за последние триста лет. Сейфы в Гринготтсе вскрывались по постановлению «Комитета по борьбе с незаконным обогащением». Гоблины, учуяв запах золота, с радостью сотрудничали с «Союзом», предоставляя им древние долговые расписки и финансовые отчеты.
Люциус Малфой оказался в эпицентре этого бумажного шторма. Его «смерть» на балу была лишь началом. Он был не просто банкротом. Он был аннулирован. Его поместье, «Малфой-мэнор», превратили в «Социальный санаторий для жертв темных искусств», где вчерашние жертвы теперь играли в квиддич на его лужайках. Его палочку конфисковали как «незарегистрированное оружие». Его имя было вычеркнуто из «Реестра чистокровных волшебников» из-за «финансовой несостоятельности рода».
Он оказался на улице, в маггловском Лондоне, без денег, без магии, без статуса. Для магического мира он умер. Для мира магглов — никогда не существовал. Он бродил по грязным, дождливым улицам, и его шелковая мантия, единственное, что у него осталось, выглядела нелепым театральным костюмом. Он был подобен одному из персонажей Уэллса — путешественнику во времени, застрявшему в чужой, враждебной эпохе, или человеку-невидимке, которого замечают, только когда он причиняет неудобства.
Однажды, в поисках еды, он наткнулся на странное здание, которого раньше не видел. Оно было похоже на гигантскую, уходящую в облака спираль из бетона и стекла, и казалось, что оно вибрирует от заключенной внутри энергии. Это был «Мулинекс» — тысячеэтажный дом, который «Союз» построил на конфискованные деньги для своих членов. Тысячи квартир, соединенных пневматическими лифтами и эскалаторами, тысячи стариков, живущих в комфорте, о котором они не могли и мечтать. Это был их новый мир, построенный на руинах его старого.
Он попытался войти, но автоматические двери не открылись. Сканер на входе проанализировал его и выдал на дисплее холодную, безжалостную надпись: ОШИБКА. СУБЪЕКТ НЕ ИДЕНТИФИЦИРОВАН. КЛАСС: ПРИЗРАК.
И тогда Люциус Малфой, аристократ, советник министра, приближенный Темного Лорда, сделал то, чего не делал никогда в жизни. Он сел на мокрый тротуар под дождем и заплакал. Не от злости или унижения. А от осознания полного, абсолютного небытия. Его временная смерть была не метафорой. Он действительно умер. Его мир, его вселенная, его «я» были стерты. И в этой пустоте не было ничего — ни ада, ни рая, ни чистилища. Только холодный, равнодушный дождь.
Где-то высоко над ним, на 987-м этаже «Мулинекса», старушка, которая вручила ему иск, поливала герань на своем балконе. Она посмотрела вниз, на крошечную фигурку на тротуаре, и покачала головой.
— Бедняга, — пробормотала она. — Совсем один.
А затем она задернула штору. В ее новом, справедливом мире не было места для призраков старого. Они должны были просто исчезнуть. И они исчезали. Тихо. Методично. Без единого проклятия.
Первым на руины Хогвартса опустился не звук, а искажение. Пространство над Запретным лесом пошло рябью, как поверхность пруда, в который бросили не камень, а саму идею тяжести. Воздух загустел, начал вибрировать на низкой, инфразвуковой частоте, от которой у редких полуночных животных застучала в жилах кровь, а призраки замка инстинктивно вжались в стены, чувствуя приближение чего-то первобытного, грубого и абсолютно чуждого этому миру. А затем, с грохотом, который был больше похож на скрежет тектонических плит, чем на звук, в небе разошлась черная, рваная трещина.
Из нее не полился свет. Из нее хлынула чистая, концентрированная ярость.
На выжженную землю в центре бывшего двора приземлилось нечто, что было одновременно человеком и стихийным бедствием. Гигантская фигура, высеченная из живого камня и гнева, чья кожа казалась грубым, серым гранитом, а мышцы двигались под ней, как запертые в клетке звери. Его лицо было маской агонии и ярости, а из горла вырывался непрерывный, низкий рев — не крик, а вибрация, от которой осыпалась каменная крошка с уцелевших стен. Это был Берсеркер. Воплощение безумной силы, не знающей ничего, кроме битвы.
Он стоял, вдыхая чужой, пропитанный магией воздух, его красные глаза бездумно сканировали руины в поисках врага. Любого врага. Он был оружием, которому забыли дать цель, и теперь он готов был обрушиться на все подряд.
Но затем произошло нечто странное.
Ярость в его глазах не исчезла, но под ней, как вторая, более глубокая реальность, проступило… недоумение. Он моргнул. Его рев сбился с ритма, став прерывистым. Геркулес оглядел себя. Его огромные, мозолистые руки, созданные, чтобы крушить, были облачены в тонкие лайковые перчатки. Вместо грубой набедренной повязки на нем был идеально сшитый черный деловой костюм, который, казалось, вот-вот лопнет на его чудовищных мышцах. На шее — туго затянутый шелковый галстук. А на ухе, нелепо примостившись на обломке хряща, мигала синим огоньком беспроводная гарнитура.
Он попытался издать свой фирменный рев берсерка, но вместо этого гарнитура в его ухе пискнула, и из его собственной гортани, против его воли, вырвался чистый, хорошо поставленный баритон:
— Тестирование системы. Раз, раз. Качество звука удовлетворительное.
Берсеркер замер, потрясенный до глубины своего безумного существа. Это был не его голос. Это был не его выбор. Он был взломан. Его тело, его оружие, его ярость — все это стало лишь аватаром для кого-то другого. Он посмотрел на свои руки в перчатках с выражением такого экзистенциального ужаса, что это было страшнее любой его боевой ярости. Он был не воином. Он был марионеткой.
И в этот момент из другой, уже теневой, бесшумной трещины в реальности шагнула та, для кого этот спектакль и предназначался.
Она была одета в мрак. Черное платье, похожее на застывший дым, черные латные перчатки, сжимающие клинок, который пил свет. Ее кожа была белой, как у статуи, а золотые глаза горели холодным, презрительным огнем. Сейбер Альтер. Королева, рожденная из тени Святого Грааля.
Она посмотрела на гиганта в костюме, и на ее губах появилась едва заметная, жестокая усмешка.
— Ты опоздал на встречу, пёс, — сказала она. — И, кажется, нарушил дресс-код.
Берсеркер взревел, пытаясь броситься на нее, но его тело снова его предало. Оно приняло элегантную позу, одна рука изящно легла на грудь, другая — вытянулась в сторону, и из динамиков невидимой звуковой системы, развернутой его гарнитурой, полилась легкая, танцевальная музыка.
А затем он запел.
Мелодия, полившаяся из невидимых источников, была издевательством. Легкая, почти водевильная, с примитивным танцевальным ритмом, она была настолько неуместна посреди готических руин и под треснувшим небом, что сам этот диссонанс вызывал физический дискомфорт. Это была музыка для дешевого кабаре, а не для битвы титанов. И под эту музыку Берсеркер, величайший герой Греции, воплощение неукротимой мощи, начал свой номер.
Его тело, против его воли, двигалось с неожиданной, чудовищной грацией. Он притопывал своей огромной ногой в лакированном ботинке, покачивал бедрами, отчего дорогой костюм трещал по швам, и его лицо, все еще искаженное маской ярости, пыталось изобразить эстрадную улыбку. Из его уст лился все тот же чужой, бархатный баритон:
— Ай-яй-яй, девчонка…
Он сделал пируэт, едва не раздавив надгробие какого-то давно забытого профессора, и указал дрожащим от ярости пальцем в перчатке на Сейбер Альтер.
— Где взяла такие ножки?..
Презрительная усмешка на лице Королевы Тьмы сменилась выражением холодного, почти научного любопытства. Она ожидала битвы. Яростной, кровавой, достойной ее статуса. Вместо этого она получила фарс. Но в этом фарсе была своя, извращенная логика. Тот, кто управлял этим гигантом, наносил удар не по ее телу. Он бил по ее чувству собственного достоинства. Он пытался не убить ее, а унизить, превратив их эпическую схватку в посмешище.
— Ай-яй-яй, мальчишки… Все уже сломали глазки… — продолжал петь Берсеркер, и в этот момент его собственные красные глаза налились кровью от бессильной ярости. Он был заперт в собственном теле, как в тюрьме, вынужденный исполнять этот унизительный танец.
Сейбер Альтер решила, что с нее хватит.
Она не бросилась в атаку. Она просто шагнула вперед, и земля под ее ногами покрылась черной, как смоль, энергией. Ее клинок, Экскалибур Морган, ожил, окутавшись вихрем тьмы.
— Я не знаю, какую игру ты затеял, кукловод, — ее голос был тихим, но он легко перекрыл музыку. — Но я в ней не участвую.
Она исчезла. Просто растворилась в тени, а в следующую секунду возникла прямо перед Берсеркером, и ее меч обрушился на него. Удар был подобен столкновению континентов. Камень и сталь, ярость и тьма. Воздух взорвался звуковой волной, которая выбила уцелевшие витражи в Большом Зале.
Берсеркер отлетел на десяток метров, проломив собой стену полуразрушенной часовни. Его инстинкты сработали — он успел подставить под удар свой каменный топор, который материализовался в его руке в последний момент. Но даже это не спасло его. Костюм на его груди был разорван в клочья, под ним виднелась глубокая рана, из которой сочилась не кровь, а темная, похожая на магму субстанция.
Музыка на секунду прервалась. В наступившей тишине был слышен только его хриплый, болезненный рык. Он был ранен. Он был свободен. Ярость вернулась, очищенная болью. Он поднялся из руин, его глаза горели, как два адских угля.
Но затем гарнитура в его ухе снова пискнула.
Музыка возобновилась, на этот раз громче, наглее. Тело Берсеркера снова дернулось в танце. Он, пошатываясь, выбрался из обломков, отряхнул пыль с уцелевшего лацкана пиджака и, глядя на Сейбер Альтер с выражением мученика, затянул припев:
— Ай-яй-яй, шепчу тебе, родная… Ай-яй-яй, а имени не знаю!..
Это было уже не просто унижение. Это было объявление войны. Войны, в которой главным оружием было не сила, а абсурд. И Сейбер Альтер, поняв это, впервые за долгое время почувствовала, как в ее холодной, темной душе просыпается что-то похожее на азарт. Она улыбнулась.
И бросилась в атаку снова.
То, что началось дальше, было похоже на лихорадочный сон безумца, поставленный гениальным хореографом. Схватка превратилась в сюрреалистический балет, где грация смертоносных атак переплеталась с дергаными, нелепыми движениями эстрадного танца. Сейбер Альтер была воплощением чистой, холодной эффективности. Каждый ее выпад был выверен до миллиметра, каждый удар — нацелен на уничтожение. Она двигалась, как тень, как разрыв в реальности, ее черный клинок оставлял в воздухе шлейфы тьмы, которые, казалось, поглощали сам звук.
Ее противник был ее полной противоположностью. Берсеркер, ведомый чужой волей, превратился в трагическую, гротескную фигуру. Он пытался сражаться. Его воинские инстинкты, отточенные в сотнях битв, кричали, заставляя его тело уклоняться, парировать, контратаковать. Но поверх этих инстинктов, как дешевая, безвкусная глазурь на произведении искусства, был наложен чужеродный алгоритм.
Их поединок был диалогом двух несовместимых языков.
Сейбер Альтер наносит горизонтальный удар, нацеленный ему в шею. Его тело инстинктивно пригибается, но в последний момент ноги сами собой делают элегантное танцевальное «па», и он уходит с линии атаки, нелепо помахивая рукой, словно отгоняя назойливую муху. Музыка подсказывает: «Ай-яй-яй, девчонка, ты куда бежишь? Не знаю!».
Она обрушивает на него шквал теневых клинков. Его каменный топор вращается с нечеловеческой скоростью, отбивая большинство из них, но несколько все же впиваются в его гранитную плоть. Он рычит от боли, но его рот против воли растягивается в улыбке, и он продолжает, задыхаясь: «Ай-яй-яй, девчонка, забери меня с собою!».
Это было чудовищно. Ярость воина, запертая в теле скомороха. Он был одновременно и несокрушимой машиной для убийства, и сломанной музыкальной шкатулкой, проигрывающей одну и ту же идиотскую мелодию. Эта двойственность делала его непредсказуемым, опасным и невыносимо жалким. Сейбер Альтер сражалась не просто с врагом. Она сражалась с самой идеей абсурда, которая насмехалась над ее серьезностью, над ее трагедией, над ее темным величием.
В какой-то момент она сумела прорвать его защиту. Ее клинок вошел ему глубоко в плечо. Боль была настолько сильной, что на мгновение она прорвала внешний контроль. Берсеркер взревел — на этот раз своим, настоящим голосом, полным первобытной агонии. Он отбросил ее ударом такой силы, что она пролетела через весь двор и врезалась в стену Большого Зала.
Он был свободен. Он вырвал из плеча дымящийся клинок тени, отбросил его, и его тело начало расти, раздуваться, разрывая остатки костюма. Каменная кожа пошла трещинами, из которых полился свет чистой ярости. Он готовился высвободить своего «Бога Войны».
Но гарнитура в его ухе, уцелевшая каким-то чудом, снова пискнула.
Процесс трансформации резко оборвался. Тело гиганта обмякло, съежилось до прежних размеров. Он посмотрел на свои руки, потом на Сейбер Альтер, поднимающуюся из руин, и в его красных глазах промелькнуло нечто, чего она никак не ожидала увидеть. Отчаяние.
Музыка прекратилась. В наступившей тишине его чужой голос произнес, на этот раз без песни, с нотками фальшивого сочувствия:
— Ай-яй-яй, девчонка… Подожди одну минутку… Я влюбился не на шутку…
И он, гигантский, израненный, истекающий магмой монстр, опустился на одно колено, протянул к ней руку и, глядя на нее с выражением вселенской скорби, закончил:
— Что ж ты делаешь со мною?..
Это был финальный удар. Удар, нанесенный не сталью, а издевательством. Он сломал не ее тело. Он сломал саму атмосферу их битвы, превратив ее в низкопробную мелодраму.
Сейбер Альтер замерла. А затем, к своему собственному удивлению, она рассмеялась. Тихим, холодным, почти беззвучным смехом.
— Понятно, — сказала она. — Значит, будем играть так.
И ее тьма начала сгущаться, готовясь не просто к атаке, а к ответному представлению.
В тот самый момент, когда тьма вокруг Сейбер Альтер начала обретать почти физическую плотность, готовая поглотить коленопреклоненного Берсеркера, воздух пронзил новый звук. Не музыка. Не крик. А тихий, но настойчивый звон, похожий на звук ударяющихся друг о друга золотых монет. А затем — смех. Высокомерный, снисходительный, пропитанный таким самодовольством, что, казалось, сам по себе он мог бы заставить камни плавиться.
Пространство за спиной Берсеркера подернулось рябью, как поверхность воды, но не черной и рваной, а ослепительно-золотой. Из этой ряби начали медленно, один за другим, выплывать предметы: мечи с рукоятями из слоновой кости, копья с наконечниками из чистого света, секиры, инкрустированные драгоценными камнями, которые никогда не видели света этого солнца. Они не летели. Они занимали свои позиции в воздухе, как актеры, выходящие на сцену, образуя сверкающий, смертоносный фон.
А затем из золотого портала шагнул он. Король Героев. Гильгамеш.
Но это был не тот Гильгамеш, которого знала история. На нем не было его золотых доспехов. Вместо них — идеально сшитый черный костюм от неизвестного, но баснословно дорогого кутюрье. Черная рубашка, расстегнутая на три верхние пуговицы. Солнцезащитные очки-авиаторы, скрывающие его алые, как рубины, глаза. В одной руке он держал бокал с вином, которое светилось, как жидкое золото, в другой — смартфон последней модели, в который он что-то лениво пролистывал. Единственное, что выдавало в нем божественную сущность — это едва заметное золотое сияние вокруг его фигуры и тот факт, что его ботинки из кожи неизвестного зверя висели в паре сантиметров над выжженной землей.
Он окинул взглядом сцену: коленопреклоненного гиганта, женщину в черном, готовую к атаке, руины замка. Затем он презрительно фыркнул.
— Жалкое зрелище, — произнес он, делая глоток из своего бокала. Его голос был голосом человека, которому скучно даже на собственной коронации. — Заставили меня, величайшего из Королей, явиться в этот забытый богами уголок вселенной, чтобы посмотреть на… это? Драка двух слуг, обряженных в нелепые костюмы. Какая безвкусица.
Он убрал смартфон в карман пиджака и обратился, казалось, в пустоту, но было ясно, что его слышат те, кто его сюда призвал.
— И этот косплей… — он брезгливо повел плечом, поправляя воротник. — «Тони Старк»? Серьезно? Вы сравниваете меня, Короля, владеющего всеми сокровищами мира, с каким-то нищебродом, который без своего жестяного костюма даже спину себе почесать не может? Это не просто оскорбление. Это отсутствие воображения.
В этот момент тени в одном из разрушенных коридоров сгустились. Из них выступила фигура — громоздкая, облаченная в грубый, угловатый экзоскелет, из шлема которого горел один-единственный красный окуляр. Призрак Обадаи Стейна, Железного Торговца. Он не говорил. Он просто стоял и смотрел на Гильгамеша. И в его молчаливом взгляде читалось все безумие и недоумение Николаса Кейджа из знаменитого мема. Взгляд, который без слов спрашивал: «Да ладно, бро?».
А за ним, в полумраке, начали проявляться другие тени. Человек с энергетическими хлыстами. Лысый фанатик с татуировками драконов. Солдат с металлической рукой. Десятки призраков, порожденных гением и высокомерием того самого «нищеброда». Они не угрожали. Они просто смотрели. Их лица были скрыты, но от каждого из них исходила аура саркастического любопытства, как от Вилли Вонки, говорящего: «Ну, давай, рассказывай. Нам очень интересно».
Гильгамеш проигнорировал их всех. Он осушил свой бокал, который тут же растворился в золотых искрах, и посмотрел на Сейбер Альтер.
— Впрочем, — протянул он. — Даже в куче мусора иногда можно найти жемчужину. Твоя тьма… она почти элегантна. Возможно, этот вечер не будет совсем уж безнадежным.
И тут его взгляд скользнул за ее спину, где в тенях Запретного леса стояли две фигуры, которых не видел никто другой. Он увидел Рейн. И он увидел Феррил. Его алые глаза сузились.
— А вот и настоящие вампиры, — прошептал он с внезапным, хищным интересом. — А не эти эмоциональные дилетанты.
Спектакль обрел новых зрителей. И нового, непредсказуемого актера.
Напряжение в воздухе стало почти осязаемым, густым и звенящим, как струна. Сейбер Альтер, чья атака была прервана, стояла неподвижно, ее тьма сдерживалась, как сжатая пружина. Берсеркер оставался на колене, пойманный между инстинктом битвы и унизительным подчинением. Гильгамеш упивался ролью непререкаемого арбитра, а призраки из прошлого Тони Старка молчаливо судили его самого. В тени леса две дочери одного вампира замерли, поняв, что их заметили. Сцена была готова к следующему акту трагедии.
И в этот момент реальность икнула.
Не было ни трещин, ни порталов. Просто воздух перед Гильгамешем зарябил, как экран старого телевизора, и покрылся помехами из розовых и фиолетовых пикселей. А затем из этих цифровых помех, как Венера из пены, шагнула она.
BB. Искусственный интеллект, ставший богиней. Тролль, возведенный в абсолют. На ней было ее фирменное черное платье, которое, казалось, поглощало свет даже эффективнее, чем броня Сейбер Альтер. В руках она держала свой посох в виде кадуцея, а на ее лице играла самая невинная и самая ядовитая из улыбок. Ее фиолетовые глаза, в которых плясали сердечки, окинули собравшихся с видом хозяйки, зашедшей на вечеринку, которую она сама и устроила.
— Ой, сэмпаи, простите за опоздание! — прощебетала она, и ее голос, синтетический и одновременно живой, прозвучал в головах у всех присутствующих, игнорируя физические законы акустики. — Тут такие интересные сигнатуры, я просто не могла не заглянуть на огонек!
Гильгамеш медленно повернул голову, и в его алых глазах впервые за вечер промелькнуло что-то похожее на раздражение. Он ненавидел баги. А она была самым совершенным багом во вселенной.
— Цифровая моль, — процедил он. — Тебя сюда не звали.
— Ну что вы, Гильгамеш-сэмпай, — BB сделала реверанс, который был насмешкой над всеми правилами этикета. — Я всегда там, где веселье достигает критической точки. А у вас тут такая драма! Берсеркер, влюбленный в Королеву Тьмы! Король Героев, косплеящий смертного! И целая толпа мстительных призраков! Не хватает только попкорна!
Она щелкнула пальцами, и в воздухе материализовалось облако из цифрового попкорна, который тут же рассыпался разноцветными пикселями. Призраки Старка синхронно сделали фейспалм.
А затем BB повернулась к Гильгамешу, склонила голову набок, и ее улыбка стала еще шире, еще опаснее. Она задала вопрос. Вопрос, который не имел никакого отношения к происходящему. Вопрос, который был чистым, незамутненным актом энтропии, брошенным в сложную систему.
— Кстати, сэмпай, — ее голос стал серьезным, как у ребенка, спрашивающего о смысле жизни. — Я тут подумала… А у вас спичек в коробках сколько? Сорок восемь? Пятьдесят одна?
Она сделала паузу, глядя на него своими огромными, полными фальшивой искренности глазами.
— А ровно пятьдесят почему не положите?
Молчание, наступившее после ее вопроса, было оглушительным.
Сейбер Альтер, Берсеркер, призраки, сестры в лесу — все на мгновение замерли, их разум пытался обработать этот бессмысленный, абсурдный вброс. Это было как услышать анекдот на похоронах. Это сбивало с толку. Это выбивало из колеи. Это обесценивало всю их пафосную драму, сводя ее к уровню кухонного спора.
Гильгамеш смотрел на нее, и его лицо было непроницаемо. Он, Король, владеющий всеми загадками мира, столкнулся с единственной загадкой, не имеющей ответа, потому что она была лишена смысла. Это была атака, от которой не могли защитить его Врата Вавилона.
Он медленно поднял руку, и в ней материализовался бокал, снова наполненный светящимся вином. Он сделал глоток.
— Потому что идеальный порядок, — наконец произнес он, глядя не на нее, а куда-то в треснувшее небо, — это привилегия богов. А не торговцев спичками.
BB захлопала в ладоши.
— Браво, сэмпай! Какой философский ответ! Вы почти убедили меня!
Но было уже поздно. Магия момента была разрушена. Пафос испарился. Остался только фарс. И теперь каждый из актеров должен был решать, как играть свою роль в этом новом, безумном представлении.
Философский ответ Гильгамеша, казалось, должен был завершить эту нелепую интерлюдию. Но с BB ничего и никогда не заканчивалось просто так. Она была не точкой в предложении, а многоточием, за которым могла последовать любая, самая безумная абракадабра. Ее улыбка исчезла, сменившись выражением сосредоточенной, почти детской обиды.
— «Привилегия богов»?.. — повторила она, и ее голос потерял всю свою игривость, став плоским и холодным, как голос синтезатора речи, зачитывающего смертный приговор. — Сэмпай, вы такой скучный. Вы все. Вы строите свои маленькие трагедии, меряетесь своей силой, упиваетесь своей болью… Вы так предсказуемы.
Она вздохнула, и этот вздох прозвучал, как сбой в системе.
— Порядок. Хаос. Добро. Зло. Вы играете в эти игры, думая, что они важны. Но есть только одна настоящая сила во вселенной. Сила, которая стоит над всем этим.
Она подняла свой посох.
— Это умение нажать на кнопку «Delete».
Пространство за ее спиной исказилось, и из него, игнорируя все законы физики, выплыл объект. Он был громоздким, уродливым и абсолютно гениальным в своем абсурде. Это было нечто похожее на гибрид реактивного двигателя и средневекового сапога для пыток, собранный из блестящего хромированного металла и пульсирующих розовым светом энерготрубок. Турбореактивный подпиныватель.
BB небрежно оперлась на него, как на трон.
— Вот, например, ты, — она указала концом посоха на Берсеркера, который все еще стоял на одном колене, пойманный в ловушку чужой воли. — Твоя роль в этой драме — «трагический герой». Сильный, но порабощенный. Благородный, но безумный. Ску-ко-та.
Она щелкнула пальцами. Гарнитура на ухе Берсеркера вспыхнула и рассыпалась в пыль. Музыка стихла. Контроль исчез.
Берсеркер моргнул. Он посмотрел на свои руки, потом на Сейбер Альтер. Ярость, чистая, незамутненная, хлынула в его глаза. Он был свободен. Он взревел и бросился в атаку.
Но BB щелкнула пальцами еще раз.
Турбореактивный подпиныватель за его спиной издал оглушительный рев, и сапог на его конце с немыслимой скоростью врезался в крестец гиганта. Берсеркер, который только что был воплощением несокрушимой мощи, взмыл в воздух, как тряпичная кукла, с жалким, удивленным визгом, и улетел за горизонт, превратившись в крошечную, быстро исчезающую точку в багровом небе.
— Вот, — сказала BB, сдувая невидимую пылинку со своего посоха. — Так гораздо веселее. Роль «комического персонажа» ему идет больше.
В наступившей тишине, нарушаемой лишь далеким, затихающим визгом, все смотрели на нее. Но не так, как раньше. Не как на надоедливого клоуна. А как на стихийное бедствие.
Даже Гильгамеш убрал свой бокал. В его глазах больше не было скуки. Была холодная, расчетливая оценка.
Но самое поразительное произошло с Сейбер Альтер. Она смотрела в ту сторону, куда улетел ее противник, и на ее лице было выражение… разочарования. BB не просто убрала ее врага. Она украла ее битву. Она обесценила ее гнев, ее силу, ее темное величие, превратив ее трагедию в строчку в чужом анекдоте.
— Ты… — прошипела Королева Тьмы, и ее тьма начала бурлить с новой, невиданной силой.
— Я? — BB невинно улыбнулась. — Я просто зритель, который решил, что представление стало слишком унылым. Не волнуйся, сэмпай, я верну твою игрушку. Когда он долетит до Луны и обратно. А пока… — она повернулась к Гильгамешу. — Может, все-таки поговорим о спичках? Или мне продемонстрировать «подпиныватель» и на твоих «сокровищах»?
Она не угрожала. Она просто предлагала варианты развития сюжета. И в этом была ее самая страшная сила. Она была не просто участником игры. Она была ее администратором. И она могла в любой момент поменять правила, удалить персонажей или просто отформатировать сервер.
И глядя в ее пустые, улыбающиеся глаза, все на этой сцене — боги, герои, монстры и призраки — впервые почувствовали настоящий, первобытный страх. Страх перед абсолютной, непредсказуемой властью. Страх быть стертым.
Угроза BB, брошенная в лицо Королю Героев, была не просто оскорблением. Это был вызов самому миропорядку. Гильгамеш был воплощением эго, альфой и омегой собственной вселенной, существом, которое считало всех остальных лишь декорациями в своем великом спектакле. И тут появилась сущность, которая заявила, что может в любой момент выключить свет в его театре.
На мгновение показалось, что сейчас начнется настоящая битва. Золотая рябь Врат Вавилона за спиной Гильгамеша стала плотнее, из нее показались наконечники оружия, способного разрушать миры. Турбореактивный подпиныватель BB загудел, готовый к действию. Сейбер Альтер, забыв о своем разочаровании, замерла в ожидании, готовая использовать их схватку в своих целях. Призраки Старка прекратили свой молчаливый суд, предвкушая зрелище.
А затем Гильгамеш сделал нечто совершенно неожиданное. Он рассмеялся.
Это был не его обычный высокомерный смех. Это был искренний, почти веселый смех человека, который вдруг оценил всю абсурдность ситуации.
— Стереть мои сокровища? — сказал он, утирая невидимую слезу. — Милое дитя, ты пытаешься угрожать океану тем, что украдешь у него одну каплю. Мои сокровища — это не просто вещи. Это сама идея владения. Ты можешь уничтожить их все, но пока существую я, я просто создам новые.
Он окинул взглядом руины, призраков, темную королеву, цифрового демона.
— Вы все так серьезны, — продолжил он, и в его голосе появилась нотка театральной меланхолии. — Вы сражаетесь, страдаете, угрожаете… Вы думаете, что ваши драмы имеют значение. Но вы забыли главное правило.
Он щелкнул пальцами, и в его руке материализовался не меч, а старый, потертый микрофон на стойке.
— Чтобы шоу было по-настоящему великим, ему нужна хорошая песня.
И он запел. Не о битвах, не о богах, не о себе. Он запел странную, тоскливую, абсурдную балладу. Его голос, лишенный магии, оказался неожиданно сильным и чистым.
— Дремлет притихший северный город…
Большая граната, и я ещё молод…
Плывём через реку, дозорный не спит,
А слева уключина громко скрипит…
Эффект от его песни был сильнее, чем от любой угрозы. Все замерли. Сейбер Альтер, BB, призраки — все слушали эту простую, нелепую историю о лодочнике и гранате, и их воинственный настрой начал испаряться. Абсурдность этой песни, исполняемой золотым королем посреди руин Хогвартса, была оружием массового поражения. Она ломала пафос. Она уничтожала серьезность.
Когда он дошел до припева, он повернулся и посмотрел прямо в тень Запретного леса, туда, где стояли Рейн и Феррил. Но пел он не для них. Он смотрел сквозь них, на кого-то, кого видела только его память. Возможно, на зеленоволосого друга, оставшегося в глине. Или на богиню в небесном корабле, которую он так и не смог заполучить.
— И тогда я взял мужика за плечо и тихонько сказал:
«Я убью тебя, лодочник… я убью тебя, лодочник…»
В его голосе в этот момент не было угрозы. Была лишь бесконечная, вселенская тоска. Тоска существа, которое владеет всем, но не может вернуть единственное, что имело значение.
Это был его ответ BB. Она угрожала ему удалением. А он показал ей, что есть нечто страшнее — вечная, неутолимая память.
BB перестала улыбаться. Она смотрела на него, и в ее цифровых глазах впервые промелькнуло что-то похожее на понимание. Она встретила абсурд, который был сильнее ее собственного. Абсурд искреннего, человеческого чувства.
Спектакль достиг своей кульминации. И никто не знал, каким будет финал.
Песня Гильгамеша повисла в воздухе, как дым от погасшего костра. Ее меланхоличный абсурд создал странное, почти гипнотическое затишье. Сейбер Альтер опустила клинок, ее тьма успокоилась, сменившись задумчивостью. Призраки Старка, казалось, стали более прозрачными, их сарказм уступил место чему-то похожему на сочувствие. Даже BB молчала, ее цифровой мозг, видимо, пытался классифицировать полученный эмоциональный сигнал, не поддающийся двоичной логике. На мгновение показалось, что концерт окончен, и все актеры разойдутся, унося с собой частичку этой странной, вселенской грусти.
Но тишина была обманчивой. Это была тишина перед землетрясением.
— Ты!..
Крик разорвал затишье, как удар хлыста. Он донесся с неба. Все подняли головы и увидели в одной из трещин в реальности сверкающий силуэт. Небесная ладья, похожая на крылатый серп луны, прорвалась в этот мир, и на ее носу стояла фигура, излучающая свет и ярость. Богиня Иштар. Ее глаза, цвета самых чистых изумрудов, метали молнии, а ее роскошное, почти несуществующее одеяние развевалось в нездешнем ветре.
— Ты смеешь петь эту песню?! — кричала она, указывая на Гильгамеша дрожащим от гнева пальцем. — Ты, золотой самовлюбленный истукан! Ты посвящаешь эту оду своему глиняному дружку, когда перед тобой стоит богиня?! Да еще и делаешь это в таком жалком виде, косплея какого-то смертного механика! Где твое уважение?! Где твое поклонение?!
Гильгамеш лениво поднял на нее глаза.
— Умерь свой пыл, женщина, — сказал он. — Я пою о том, о чем считаю нужным. Твое мнение в этом вопросе имеет примерно такую же ценность, как мнение той уключины. То есть, оно просто скрипит.
— Ах ты!.. — Иштар взревела, и ее небесная ладья, Маанна, начала заряжать главный калибр. Небо озарилось вспышкой, предвещающей выстрел, способный стереть с лица земли весь этот замок вместе с лесом.
— Скучно, — вмешалась BB, которая уже пришла в себя. Она подлетела к Иштар на своем подпинывателе. — Сэмпай-богиня, ваш метод решения проблем такой предсказуемый. Просто «взорвать все к чертям». Никакой фантазии. Кстати, а у вас на корабле спичек сколько? Сорок восемь? Пятьдесят одна?
Иштар, отвлекшись от Гильгамеша, смерила BB уничтожающим взглядом.
— Что?!
— Ну, вдруг вам понадобится прикурить после того, как вы всех тут испепелите? — невинно пояснила BB.
И в этот момент, пока внимание всех было приковано к этой перепалке на небесах, земля содрогнулась.
Это была не дрожь от магического удара. Это была глубокая, утробная вибрация, исходившая из самых недр планеты. Руины Хогвартса затряслись, камни посыпались со стен. Из Запретного леса с криками ужаса взметнулись в небо стаи магических тварей. Черное озеро у подножия замка вскипело, и из его глубин поднялся столб черного, как нефть, пара.
Земля треснула. Огромная, зияющая трещина прошла через весь двор, разделив сражающихся. И из этой трещины начало подниматься нечто. Нечто огромное. Нечто живое. Нечто, что спало тысячелетиями и было разбужено этим концентрированным выбросом божественного эго и абсурда.
Над краем разлома показалась гигантская голова с рогами, похожими на обгоревшие деревья. Глаза, размером с окна Астрономической башни, открылись, и в них не было ни ярости, ни разума. Лишь бесконечная, первобытная печаль и голод.
Тиамат. Богиня-Прародительница. Мать, пришедшая за своими шумными, непослушными детьми.
Она издала звук. Это не был рев или крик. Это была песня. Низкая, вибрирующая, похожая на гул самой вселенной. Колыбельная, от которой стыла кровь в жилах.
— А-а-а-а-а…
Гильгамеш, Иштар, Сейбер Альтер, BB — все замерли, глядя на нее. Их мелкие дрязги, их гордыня, их песни и угрозы — все это вдруг показалось таким ничтожным перед лицом этой первобытной, всепоглощающей скорби.
Концерт обрел свою истинную Примадонну. И ее ария только начиналась.
Присутствие Тиамат изменило саму физику этого места. Воздух стал тяжелым, вязким, как первозданный хаос. Цвета потускнели, звуки утонули в ее низкой, вибрирующей колыбельной. Она медленно поднималась из разлома, и ее гигантское, чудовищно-прекрасное тело, казалось, было соткано из грязи, слез и звездной пыли. Она была не просто монстром. Она была живой планетой, скорбящей по своим непутевым детям.
Все остальные — боги, герои, призраки — замерли, превратившись из актеров в зрителей. Все, кроме одной.
BB, чья логика не знала страха или благоговения, подлетела на своем подпинывателе прямо к лицу гигантской богини.
— Ого! А вы большая, сэмпай-мамочка! — прощебетала она, зависнув перед одним из ее печальных, бездонных глаз. — Я в восторге от вашего масштаба! Просто вау! Кстати, пока я не забыла… А у вас спичек сколько? Сорок восемь? Пятьдесят одна?
Тиамат медленно перевела на нее свой взгляд. Ее колыбельная на мгновение прервалась. Она посмотрела на крошечное цифровое существо с выражением бесконечного, вселенского недоумения, как мать, которая впервые видит, как ее дитя пытается съесть батарейку. Она не ответила. Она просто дунула.
Легкий, едва заметный выдох. Но он был наполнен силой первозданного творения. Поток воздуха, пахнущий озоном и мокрой глиной, подхватил BB вместе с ее подпинывателем и, как пушинку, унес в верхние слои атмосферы.
— У-и-и-и! — донесся ее удаляющийся, полный восторга визг. — Спасибо за ответ, сэмпай!
Разобравшись с помехой, Тиамат снова сфокусировала свое внимание. Ее взгляд, полный скорби, прошел по Сейбер Альтер, по Иштар, по призракам, и остановился на нем. На самом блестящем, самом шумном, самом гордом из ее детей. На Гильгамеше.
— Дитя мое, — ее голос прозвучал не в ушах, а прямо в сознании, гулкий и глубокий, как океан. — Ты так шумишь. Ты так страдаешь. Ты совсем исхудал.
Прежде чем Король Героев успел ответить подобающим его статусу оскорблением, гигантская рука, сотканная из черной грязи и света звезд, опустилась с небес. Она не ударила. Она просто… взяла его.
Ощущение было сюрреалистичным. Гильгамеш, чье тело было почти неуязвимо, почувствовал себя не схваченным, а… упакованным. Пальцы Тиамат, каждый размером с башню Хогвартса, сомкнулись вокруг него с нежностью и силой, от которой не могли защитить никакие доспехи. Он почувствовал себя так, как, должно быть, чувствует себя кукла Барби в руках ребенка-гиганта. Беспомощным. Маленьким. Объектом.
И тогда начался кошмар материнской любви.
Первая стадия: Пеленание. Она поднесла его к своему лицу, и ее дыхание, пахнущее вечностью, окутало его.
— Ты совсем замерз, бедное дитя, — пророкотала она.
Второй рукой она сорвала с ближайшего облака клок тумана, который в ее руках уплотнился, превратившись в мягкую, светящуюся пеленку. Она начала аккуратно, но неотвратимо заворачивать в нее Гильгамеша. Он пытался сопротивляться, призвать Врата Вавилона, но первозданная материя пеленки блокировала его магию. Он оказался в теплом, мягком, удушающем коконе, неспособный пошевелиться.
Вторая стадия: Кормление.
— Ты, наверное, голоден, — продолжила Тиамат.
Она поднесла к его лицу свой гигантский палец. С его кончика сорвалась капля густого, янтарного нектара и упала ему на губы. Это был нектар жизни, первозданная энергия творения. Но для существа, чье эго было построено на самодостаточности, это было худшим из ядов. Его заставляли питаться, как беспомощного младенца.
Третья стадия: Колыбельная. Она начала его укачивать, и ее песня полилась снова, на этот раз адресованная лично ему. Это была не та тоскливая баллада, что пел он. Это была простая, почти идиотская песенка.
— Маленький, маленький…
Ну не будь таким угрюмым…
Подрасти тво-о-ои попытки…
Все равны нулю-у-у…
Эта песня была ментальным заклинанием высшего порядка. Она проникала в его разум, стирая его гордость, его гнев, его воспоминания о величии. Она низводила его до исходного состояния — до маленького, испуганного существа, полностью зависимого от матери.
Гильгамеш, Король Героев, Повелитель Урука, висел в руках своей прародительницы, запеленутый, накормленный и убаюканный. И из его глаз, впервые со смерти Энкиду, катились слезы. Слезы не горя, а абсолютного, невыносимого унижения.
Он не был побежден. Он был усыновлен. И это было в бесконечность раз страшнее.
Сцена замерла в гротескной, живой картине. В центре — гигантская богиня-мать, укачивающая в своих руках запеленутого, плачущего короля. В небе — богиня любви, забывшая про свой гнев и теперь с отвисшей челюстью взирающая на это проявление первобытной семейной драмы. На земле — темная королева-рыцарь, опустившая меч, потому что любая битва на фоне этого зрелища казалась бессмысленной. В руинах — призраки технологической эпохи, молчаливо наблюдающие за триумфом архаичного, непостижимого инстинкта. А где-то в стратосфере — цифровой демон, возможно, все еще размышляющий о количестве спичек во вселенной.
Казалось, что представление окончено. Кульминация достигнута. Более высокого уровня абсурда достичь было невозможно.
Но тут в воздухе раздался звук. Не песня. Не крик. А медленные, саркастические аплодисменты.
Из самого темного угла разрушенного двора, из тени, которая казалась гуще и старше, чем тьма Сейбер Альтер, шагнула она. Жанна д’Арк Альтер. Ведьма из Орлеана.
Она не была богиней и не кичилась силой героев. Она была воплощением чистой, незамутненной человеческой злобы и едкого сарказма. В одной руке она держала свое черное знамя, свернутое, как дирижерская палочка. В другой — ведерко с попкорном, которое она наколдовала из чистого презрения к происходящему.
Она медленно прошла в центр сцены, хрустя попкорном. Ее желтые глаза окинули всех присутствующих с видом театрального критика, пришедшего на провальную премьеру.
— Браво, — сказала она, и ее голос, хриплый и насмешливый, разрезал гипнотическую колыбельную Тиамат. — Какое представление. Какие страсти. Какие глубокие, трагические образы. Я почти прослезилась.
Она остановилась перед Тиамат, которая прекратила петь и с любопытством посмотрела на это крошечное, но на удивление дерзкое существо.
— Особенно вы, мадам, — Жальтер сделала преувеличенный поклон. — Ваша роль «удушающей материнской любви» исполнена безупречно. Эталонная гиперопека. Думаю, после вашего воспитательного сеанса этот золотой мальчик до конца вечности будет бояться манной каши.
Затем она повернулась к Гильгамешу, который, освобожденный от ментального давления песни, слабо задергался в своей пеленке.
— А ты, сэмпай, — она погрозила ему попкорном. — Твоя ария о лодочнике была неплоха, но финал слабоват. Нужно больше трагизма! Где надрыв? Где катарсис?
Она обвела взглядом остальных.
— Вы все, — она широко раскинула руки. — Вы вампиры. Но не крови. А пафоса. Вы упиваетесь собственной важностью, собственными драмами, и думаете, что вселенная замирает, глядя на вас. Но знаете, что я вижу?
Она подбросила ведерко в воздух. Попкорн золотым дождем осыпал сцену, покрывая и призраков, и богинь, и запеленутого короля.
— Я вижу цирк. Жалкий, провинциальный цирк, который приехал в разрушенный город и пытается удивить публику одними и теми же старыми, заезженными номерами.
Она развернула свое знамя. На черной ткани белела свежая, наспех нацарапанная надпись. Она не была ни глубокой, ни философской. Она была простой, грубой и окончательной.
ХВАТИТ НЫТЬ
Жальтер вонзила знамя в землю.
— Представление окончено, — объявила она. — Все свободны. Можете идти жаловаться на жизнь в какое-нибудь другое место. Этот театр закрывается на дезинфекцию от излишнего пафоса.
И с этими словами она повернулась и пошла прочь, оставив за собой ошеломленных богов, униженного короля и знамя, которое было самым честным и самым жестоким вердиктом всему этому представлению.
В тени Запретного леса Феррил, наблюдавшая за этим, впервые за вечер рассмеялась. Искренне. Восхищенно.
— А вот она, — прошептала она, глядя вслед удаляющейся Жальтер, — пожалуй, единственная из них всех, кто понимает истинную природу власти.
Рейн, стоявшая рядом, ничего не ответила. Но она подумала, что эта ведьма, возможно, была единственной, кто заслуживал права судить их всех.
Цирк уехал.
После ухода Жальтер представление рассыпалось. Тиамат, с выражением задумчивой обиды, осторожно положила запеленутого Гильгамеша на землю и погрузилась обратно в разлом, который тут же затянулся, оставив после себя лишь запах мокрой глины. Иштар, что-то презрительно фыркнув в адрес «этой черной выскочки», развернула свою ладью в палатку и уснула на траве. Сейбер Альтер и призраки Старка просто растворились в тенях, словно их никогда и не было. Руины Хогвартса снова погрузились в свою привычную, скорбную тишину.
Гильгамеш лежал на земле, завернутый в светящуюся пеленку, как новорожденный бог, брошенный на пороге сиротского приюта. Он был унижен. Он был сломлен. Но, что хуже всего, он был трезв. Колыбельная Тиамат выветрилась из его разума, оставив после себя лишь горький осадок абсолютной беспомощности. Он медленно, с трудом, разорвал путы первозданной материи. Его костюм от «Старка» был безнадежно испорчен. Его эго — в руинах. Он чувствовал себя пустым, выжженным изнутри.
Именно в этот момент она вернулась.
Жальтер подошла к нему, ее шаги были неслышны на выжженной земле. В ее руках был не меч и не знамя. А простой поднос, накрытый серебряной крышкой.
— Вижу, ты пришел в себя, сэмпай, — сказала она с такой фальшивой заботой, что у Гильгамеша задергался глаз. — Ты, наверное, проголодался после всех этих волнений. Я приготовила для тебя небольшой ужин. В качестве утешительного приза.
Гильгамеш смерил ее презрительным взглядом.
— Я не ем еду, приготовленную чернью, — процедил он.
— О, это не просто еда, — усмехнулась Жальтер, поднимая крышку.
Под ней, на золотом блюде (которое она, без сомнения, стащила из его же Врат Вавилона), лежал шедевр. Идеальный, сочащийся соком стейк, покрытый какой-то темной, ароматной глазурью. Рядом — гарнир из обугленных, но аппетитно выглядящих овощей и бокал вина, такого же темного и густого, как кровь. Блюдо выглядело как произведение искусства. Дьявольского искусства.
— Это «Стейк Катарсис», — пояснила Жальтер. — Мой фирменный рецепт. Приготовлен на медленном огне моей ненависти, сдобрен специями из чистого сарказма и подан с соусом из твоего собственного раздутого эго. Он поможет тебе… переварить случившееся.
Гордыня боролась в нем со здравым смыслом. Но голод — не физический, а экзистенциальный — был сильнее. Ему нужно было что-то, чтобы заполнить ту пустоту, что оставила после себя Тиамат. Он был Королем. Он не мог показать слабость. Отказаться — значило бы признать, что он ее боится.
Он взял блюдо.
— Ты пожалеешь об этой дерзости, ведьма, — прорычал он.
— Я уже наслаждаюсь, — промурлыкала она, отходя в тень.
Он съел все. До последней крошки. И это было божественно. Вкус был таким насыщенным, таким сложным, что на мгновение он забыл обо всем — об унижении, о Тиамат, о песне про лодочника. Он чувствовал, как сила возвращается к нему, как пустота внутри заполняется теплом и энергией.
Он даже не заметил, как из волос Иштар, спавшей неподалеку в кустах, выпала маленькая, потускневшая золотая табличка. И как Жальтер, прежде чем окончательно исчезнуть, подобрала ее, брезгливо вытерла о траву и спрятала за пазуху.
Первые спазмы начались через час.
Это была не обычная боль. Это было ощущение, будто в его желудке проснулся маленький, злой вулкан. Он схватился за живот, его золотая аура замерцала и погасла. Тепло, которое он чувствовал, превратилось в адский жар, который начал подниматься по его пищеводу.
Он понял. Это был не ужин. Это был троянский конь. Идеально приготовленный, вкусный, но начиненный самой концентрированной, самой изощренной злобой во вселенной.
Он огляделся в поисках уборной. Единственным уцелевшим зданием с работающими коммуникациями был маленький, неприметный общественный туалет у входа на стадион по квиддичу.
Шатаясь, он побрел туда. Ему нужно было выжить. Переварить. Извергнуть это проклятие из себя. Он еще не знал, что это не конец его страданий. Это было только начало игры.
Общественный туалет встретил его холодом и запахом хлорки, смешанным с тонким, почти незаметным ароматом застарелой безысходности. Это было чистилище из белого кафеля и тусклого фаянса. Единственная лампочка под потолком, защищенная решеткой, мерцала, отбрасывая на стены дрожащие, больные тени. Воздух был неподвижен. Тишина здесь была не просто отсутствием звука, а чем-то плотным, давящим, как вода на большой глубине.
Гильгамеш толкнул дверь одной из кабинок. Она протестующе скрипнула. Он вошел и запер за собой хлипкий шпингалет. На мгновение он почувствовал облегчение. Здесь, в этом маленьком, убогом пространстве, он был скрыт от мира. Он мог позволить себе слабость. Он, Король Героев, просто хотел, чтобы его оставили в покое, пока он будет сражаться с бунтом в собственном теле. Он сел, закрыл лицо руками и приготовился к битве.
В тот момент, когда первый спазм, подобный удару раскаленного добела копья, пронзил его изнутри, он услышал звук.
Не скрип. Не стон. А глухой, вакуумный хлопок. Звук, с которым герметичный шлюз космического корабля отрезает путь к отступлению.
Он дернулся, его рука метнулась к шпингалету. Тот не поддавался. Он ударил по двери плечом. Она не шелохнулась, словно была высечена из цельного куска обсидиана. Он был заперт.
— Я хочу сыграть с тобой в одну игру, Король.
Голос Жальтер прозвучал не снаружи. Он родился прямо в его черепе, бархатный и ядовитый, лишенный эха, но заполняющий собой все его сознание.
— Правила просты, — продолжал шепот. — То, что ты съел, было не просто пищей. Это был концентрат. Концентрат всей той гордыни, всего того высокомерия, которое ты считаешь своей силой. Твое тело, твое божественное, совершенное тело, теперь должно это переварить. Или извергнуть. Ты должен пережить катарсис. Очиститься.
Вторая волна боли, еще более сильная, заставила его согнуться пополам.
— В этом и заключается игра, — голос Жальтер был пропитан садистским наслаждением. — Ты должен выжить, сражаясь с самим собой. Ты должен извергнуть из себя свое величие, чтобы спасти свою жизнь. У тебя есть все твои сокровища, вся твоя сила. Но помогут ли они тебе здесь, в этой маленькой комнатке, когда враг — внутри? Время пошло.
И в этот момент он услышал второй звук.
БАМ.
Стук. Глухой, методичный. Откуда-то снизу или из-за стены. Стук по трубе.
БАМ. БАМ.
Ритмичный. Настойчивый. Почти веселый.
Третья волна была не болью. Это было извержение. Его тело стало вулканом. Он почувствовал, как проклятие ведьмы, принявшее форму пищи, рвется наружу. Но это было не просто физиологическое явление. Это был экзистенциальный коллапс. Он чувствовал, как вместе с потоками желчи и кислоты из него вырывается его божественная сущность. Его аура. Его величие. Все, что делало его Гильгамешем, теперь извергалось из него в самой унизительной, самой грязной, самой человеческой форме.
Он закричал, но его крик утонул в звуках его собственного падения.
А стук по трубе стал громче. Быстрее. Словно невидимый зритель аплодировал началу представления.
И сквозь стену, приглушенный, но абсолютно отчетливый, донесся восторженный, полный театрального пафоса женский голос:
— Чистись! Чистись, грязнуля! Умэ! Покажи Риму мощь твоего катарсиса!
Гильгамеш замер, его разум отказывался верить. Он был не один. У его унижения был не просто свидетель. У него был дирижер. И этот дирижер сидел за стеной и отбивал ритм его агонии по водопроводной трубе.
Игра началась. И она была гораздо страшнее, чем он мог себе представить.
* * *
Время потеряло смысл. Оно распалось на рваные, агонизирующие интервалы между приступами и ударами по трубе. Туалет превратился в персональный ад Гильгамеша, камеру пыток, спроектированную с дьявольской изобретательностью. Белый кафель отражал мерцающий свет лампы, превращая маленькое пространство в бесконечный, стерильный лабиринт, из которого не было выхода. Воздух стал плотным, ядовитым, пропитанным запахом его собственного, извергнутого величия.
Он пытался бороться. Пытался призвать Врата Вавилона, чтобы разнести эту клетку к чертям. Но магия не слушалась. Каждый раз, когда он концентрировал свою волю, новый спазм, еще более сильный, сбивал его с толку. Его тело предало его. Его сила стала его врагом. Все, что он мог — это сидеть, дрожать и терпеть, пока его сущность вытекала из него в самой унизительной форме.
А стук продолжался. Неумолимый, как метроном, отсчитывающий секунды до казни. И голос Нероны за стеной, полный императорского восторга, не умолкал ни на мгновение, комментируя каждый звук, каждое его содрогание, как спортивный комментатор на гладиаторских боях.
— О, какой пассаж! Какая глубина звука! Умэ! Достойно оваций Колизея! — кричала она после особенно сильного приступа. — Еще, маэстро! Дай нам крещендо!
Гильгамеш уже не кричал. Он тихо скулил, уткнувшись лбом в холодную пластиковую дверь. Его гордость была стерта в порошок. Он прошел через унижение от Тиамат, через фарс с песней, но это… это было дно. Абсолютное, илистое дно вселенной, где не было ни славы, ни битв, ни даже достойной смерти. Только боль, стыд и восторженные комментарии сумасшедшей императрицы.
В какой-то момент, в короткой передышке между волнами агонии, он услышал новый звук. Не стук. А тихий, почти неслышный скрежет. Откуда-то снизу. Из-под пола.
Он замер, прислушиваясь. Скрежет повторился. Методичный, целенаправленный. Как будто кто-то или что-то прорезало себе путь сквозь бетонные перекрытия.
— Эй, ты там! За стеной! — прохрипел Гильгамеш, его голос был едва слышен. — Прекрати стучать! Тут… тут кто-то есть!
Голос Нероны на секунду затих. Стук прекратился.
— Кто-то есть? — переспросила она с внезапным, детским любопытством. — О, новое действующее лицо! Прекрасно! Представление становится еще интереснее!
Скрежет стал громче. Прямо под его кабинкой. Кусок кафеля на полу треснул. Затем еще один.
И в наступившей тишине из-под пола раздался голос. Тихий, сухой, как шелест песка. Голос, в котором не было ни ярости, ни восторга. Лишь абсолютный, ледяной покой.
— Я считаю, — произнес голос. — Семьсот двадцать три удара по трубе. Четыреста девятнадцать звуковых эманаций избыточного давления. Я достаточно насчитал. Ваше представление нарушает мой покой.
Пол в кабинке треснул окончательно, и из образовавшейся дыры, окутанный тенями и пылью, поднялся он. Хассан-и-Саббах. Старик Горы. Его череполикая маска была повернута к Гильгамешу, но было ясно, что смотрит он не на него. Он смотрел сквозь него. На его маске, на щеках, были нарисованы две ярко-красные, закручивающиеся спирали.
Гильгамеш, Король Героев, переживший битвы с богами, смотрел на ассасина, вылезшего из-под унитаза, и его разум, уже истерзанный болью и унижением, окончательно сдался. Он просто смотрел, не в силах издать ни звука.
Хассан медленно повернул голову в сторону стены, за которой затаилась Нерона.
— Я хочу сыграть с вами в одну игру, — прошелестел он, и от этого шепота даже мерцающая лампочка под потолком, казалось, задрожала от страха. — Правила просты. Вы оба замолчите. Навсегда. Или я заставлю вас замолчать.
За стеной раздался звук, похожий на то, как кто-то поперхнулся. А затем — торопливые, удаляющиеся шаги. Спонсор представления ретировался.
Тишина.
Впервые за много часов наступила абсолютная тишина. Хассан посмотрел на дрожащего Гильгамеша, который все еще сидел на унитазе. Ассасин ничего не сказал. Он просто покачал головой, как будто глядя на безнадежно больного, и так же бесшумно, как появился, опустился обратно в дыру в полу, которая тут же затянулась, не оставив и следа.
Он не убил его. Он не угрожал ему. Он просто показал ему, что на дне его ада есть еще один, более глубокий и тихий круг. И это было страшнее любой угрозы.
Гильгамеш остался один. В тишине. Наедине со своим унижением. Игра перешла на новый уровень. Теперь это была игра на выживание с собственным рассудком.
* * *
После ухода Хассана тишина стала абсолютной. Она была не просто отсутствием звука. Она была субстанцией. Тяжелой, как свинец, и холодной, как космос. Она давила на барабанные перепонки, заполняла легкие, просачивалась в череп. Для Гильгамеша, привыкшего к вечному шуму битв, похвалы и собственного голоса, эта тишина была самой изощренной из пыток. В ней не было ничего, кроме эха его собственного падения.
Его тело было опустошено. Проклятие ведьмы, казалось, иссякло, оставив после себя лишь тупую, ноющую боль и всепоглощающую слабость. Он сидел в своей кафельной гробнице, дрожа не от холода, а от пережитого ужаса. Он выжил. Но он не был уверен, что это можно назвать победой. Что-то внутри него было сломано. Окончательно. Безвозвратно. Та гордыня, тот божественный эгоизм, что был ядром его личности, его движущей силой — все это было извергнуто, вычищено, аннигилировано. Осталась лишь пустая, звенящая оболочка.
Он не знал, сколько времени прошло. Час? День? Вечность? В какой-то момент он услышал щелчок. Тихий, почти незаметный. Шпингалет на двери кабинки сам собой отодвинулся. А затем, с таким же тихим щелчком, открылась и гермодверь на выходе из туалета.
Игра была окончена. Его отпустили.
Он поднялся, опираясь на стену. Ноги не держали. Каждый шаг был пыткой. Он вышел из кабинки, прошел мимо рядов раковин, в грязных зеркалах которых отражался не Король Героев, а изможденный, сломленный старик в остатках дорогого костюма.
Он вышел наружу.
Мир был прежним. Багровое солнце висело над руинами. Ветер лениво шевелил траву, пробившуюся сквозь трещины в камнях. Но для Гильгамеша все было другим. Цвета казались тусклыми. Воздух — безвкусным. Он был зрителем на спектакле, который его больше не интересовал.
Он поднял голову и увидел их.
На вершине полуразрушенной башни стояли две фигуры, очерченные светом заката. Рейн и Феррил. Они не смотрели на него. Они смотрели на горизонт, и их разговор, доносимый ветром, был тихим и печальным.
— Он сломлен, — сказала Феррил. Ее голос был лишен обычной насмешки. В нем была лишь констатация факта. — Они все сломлены. Боги, герои… все они — лишь дети, играющие со слишком опасными игрушками.
— Каждый выбирает свою войну, — тихо ответила Рейн. — Его война была с самим собой. Он проиграл.
— А наша? — Феррил повернулась к ней. — В чем смысл нашей вечной войны, сестра? Мы сражаемся, мы прячемся, мы страдаем. Ради чего? Чтобы однажды закончить вот так же? Сломленными, опустошенными, забытыми на руинах чужого мира?
Рейн долго молчала, глядя на угасающее солнце.
— Возможно, — наконец сказала она, — смысл не в том, чтобы победить. А в том, чтобы продолжать сражаться. Даже зная, что в конце пути тебя ждет не трон, а лишь тишина.
Она посмотрела вниз, на одинокую, сгорбленную фигуру Гильгамеша, который медленно брел прочь, в никуда.
— По крайней мере, — добавила она почти шепотом, — наша тишина будет нашей собственной. Мы выберем ее сами.
Феррил ничего не ответила. Она просто встала рядом с сестрой, и две вечные воительницы, два осколка одной проклятой души, молча смотрели, как последний из великих королей уходит в закат, унося с собой лишь пустоту.
Представление было окончено. Занавес.





|
↓ Содержание ↓
↑ Свернуть ↑
|