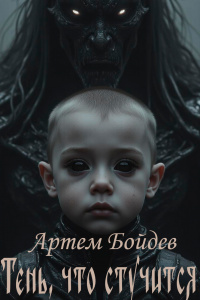





|
↓ Содержание ↓
↑ Свернуть ↑
|
Дождь в тот вечер в захолустном городке Острове был не просто водой, а какой-то ледяной грязной жижей, забивающей стоки и растягивающей сумерки в бесконечную тоскливую ночь. Анна торопливо шла по пустынной улице, кутаясь в промокшее пальто. Ей было не по себе — не из-за погоды, а из-за чувства глупой, иррациональной тревоги. Городок спал, в окнах светились лишь редкие сонные огоньки.
Именно поэтому она заметила их сразу. Двое детей стояли под одиноким фонарем на ее улице, насквозь мокрые, без курток. Мальчик и девочка лет десяти. Анна замедлила шаг, сердце сжалось от внезапной жалости.
— Дети? Вы заблудились? — крикнула она, подходя ближе. — Где ваши родители?
Они повернулись к ней одновременно. Бледные восковые лица. И глаза — совершенно черные, без белка, без радужки, без единого проблеска света. Глубокие, как колодцы в беззвездную ночь.
— Мы можем войти? — спросила девочка. Ее голос был тусклым, без интонаций, как голос из дешевого радиоприемника. — Нам очень холодно.
— Нам нужно воспользоваться вашим телефоном, — добавил мальчик. Его губы едва двигались.
Анна отшатнулась. Первым порывом был испуг, но потом она подумала о болезнях, о врожденных аномалиях. Жалость снова попыталась взять верх.
— Я… я сейчас вызову полицию, — сказала она, судорожно роясь в сумке в поисках телефона.
— Нет, — голос девочки стал резче. — Впустите нас. Мы не будем долго.
Они сделали шаг вперед, синхронно, как марионетки на одной нитке. Свет фонаря скользнул по их плечам, по бледным щекам — и Анна замерла, леденящая догадка выжала из легких весь воздух.
У них не было теней.
Лужи на асфальте блестели, четко отражая столб и желтый круг света. Но под ногами детей не было ничего. Только сухой, неосвещенный асфальт. Свет не огибал их, не отбрасывал темного двойника — он просто проходил сквозь, словно их плотные на вид куртки и живые лица были лишь проекцией. Миражом. Обманом света.
Их собственная плоть не отбрасывала тени. Потому что они сами и были тенями.
— Впустите нас, — повторил мальчик, и в его черных глазах, казалось, пошевелилось что-то древнее и голодное.
Сердце Анны заколотилось в животном ужасе. Она не помнила, как отскочила назад, как захлопнула калитку и бросилась к дому, спиной чувствуя их неподвижный, немигающий взгляд. Заперев дверь на все замки, она подползла к окну и выглянула из-за шторы.
Под фонарем никого не было. Они исчезли.
Алтарь в Чудовом монастыре. 1610 год
Смутное время. Москва пылала, терзаемая междуцарствием, польскими интервентами и своей собственной скорбью. Войска гетмана Жолкевского стояли в Кремле, по улицам рыскали мародеры и отчаяние. В опустевшей, оскверненной алтарной части Чудова монастыря, того самого, где всего несколько лет назад умерщвляли голодом патриарха Гермогена, собрались трое. Не люди — нечто иное.
Воздух дрожал и плавился, как над раскаленными углями. Из теней, отбрасываемых украденной лампадой, материализовались они — Дэвы. Их истинная форма была невидима человеческому глазу, лишь сгустки тьмы, искажающие пространство вокруг себя. Но здесь, у специально возведенного алтаря из обломков икон и костей, украшенного амулетом с вырезанными пентаграммами, они могли проявиться плотнее. Они отбрасывали тени — длинные, угловатые, неестественные. И в этих тенях угадывались очертания: когтистые лапы, перепончатые крылья, вытянутые черепа.
Один из них, самый крупный, чья тень была подобна крылу гигантской летучей мыши, «заговорил» — его голос был скрежетом камня о камень прямо в сознании двух других.
«Этот мир созрел. Он истекает страхом и ненавистью. Сквозь трещины в их вере сочится наша сила».
«Они слабы. Их плоть рвется как гнилая ткань. Зачем мы тратим время на этих тварей?» — прошипела тень второго, извивающаяся, как змея.
«Не время? Посмотри!» — первый Дэв махнул когтистой тенью в сторону решетчатого окна — «Они сами принесли нам в жертву свое святилище. Их молитвы ослабли. Их боги глухи к ним. Каждая смерть здесь — это свеча, зажженная в нашу честь. Каждая слеза — вино для нашей пирушки. Мы не нуждаемся в сосудах, как жалкие псоглавы или акезары. Мы — ветер. Мы — мор. Мы — тень на стене умирающего в лихорадке. Мы явились не для того, чтобы владеть одним, — мы здесь, чтобы пожирать всех».
Внезапно дверь в бывшую трапезную с скрипом открылась. На пороге стоял бледный, исхудавший мужчина в полумонашеском, полубоярском платье — окольничий Михаил Салтыков, один из тех, кто присягнул польскому королевичу Владиславу. Его глаза были полны не столько греха, сколько отчаяния и жажды власти любой ценой.
— Я… я пришел, — прошептал он, крестясь дрожащей рукой, но делая это как-то неправильно, будто защищаясь от собственного знамения. — Вы promised… сила… милость короля…
Трое Дэвов повернули на него свои невидимые «взгляды». Воздух наполнился тихим, леденящим душу смехом, который слышал только Салтыков.
«Милость… да, — прозвучало в его голове. — Мы дадим тебе силу. Силу быть последним, кто умрет в этом городе. Силу видеть нас воочию».
Салтыков поднял голову и вскрикнул. Ритуальный амулет на алтаре вспыхнул багровым светом, и на стене перед ним проступили три огромные, чудовищные тени с крыльями и когтями. Он увидел их истинную суть — невидимых демонов, явивших свою тень. Это зрелище было страшнее любого лика ада.
— Нет! Господи, помилуй! — завопил он, падая на колени.
«Твой господин глух, — прогремел голос. — Теперь ты наш. Ты призвал нас. Ты впустил нас. Не через дверь, а через свое малодушие».
Тень первого Дэва рванулась вперед. Невидимый коготь со свистомрассек воздух. Салтыков даже не успел крикнуть — его тело было разорвано пополам с такой силой, что куски плоти и внутренностей шлепнулись о стены и иконостас. Кровь брызнула на амулет, и тот вспыхнул еще ярче.
«Первый плод, — холодно констатировал Дэв. — Смута — это наш пир. Они сами открывают двери. Они сами гасят свет в своих душах, чтобы нам было удобнее охотиться. Мы будем являться им в облике, которого они боятся больше всего — в облике невинности, которую они сами погубили. В облике детей с глазами пустоты. Они будут впускать нас сами, движимые страхом или жалостью. И это станет их концом».
Тени в монастыре сгустились и растворились, оставив после себя лишь запах серы, медленно расползающуюся лужу крови и тихий безумный шепот, застрявший между камнями оскверненного алтаря.
Смутное время продолжалось. И по улицам горящей Москвы, по темным углам и переулкам поползли слухи. Слухи о бледных детях, которые стучатся в двери ночью и просятся внутрь. И о тех, кто их впускал. Больше их никто не видел.
Шепот в стенах
Слухи в Москве рождались как плесень на сырых стенах — тихо, незаметно и повсюду. Они текли по темным переулкам Китай-города, смешивались с дымом пожарищ и криками пьяных ландскнехтов. Рассказывали о бледных мальчиках и девочках, которые стучались в двери уцелевших домов под покровом ночи. Говорили, что голоса у них были плоские, как доска, а глаза — чернее самой темной ночи. И всегда они просились внутрь.
Одни хозяева, ожесточенные голодом и страхом, прогоняли их грубым окриком, хватая кочергу или топор. Другие, чьи сердца еще не очерствели до конца, колеблясь, приоткрывали дверь — движимые то ли жалостью, то ли страхом перед божьей карой за оставление дитяти на погибель.
Те, кто впускал, исчезали.
Исчезали бесследно. Наутро в горнице находили лишь следы странной липкой темноты на полу да запах, от которого сводило челюсти: смесь озона, гнили и медного привкуса крови. Слухи множились, обрастая чудовищными подробностями. Говорили, что иногда по ночам в опустевших домах были слышны тихие детские шаги и шепот, от которого стыла в жилах кровь.
Наследство
Настоящее Анны раскололось на «до» и «после». Ночь после встречи с черноглазыми детьми стала для нее одной сплошной дрожью. Каждый скрип половиц, каждый шорох за окном заставлял ее вжиматься в подушки, сжимая в руках кухонный нож. Она почти не спала, ее преследовал образ этих пустых, всепоглощающих глаз.
Утром, поборов парализующий страх, она решила действовать. Остров был маленьким, все друг друга знали. Она обзвонила всех знакомых, зашла в мэрию, даже навестила участкового — немолодого уставшего человека по фамилии Гордеев.
— Дети? С черными глазами? — Он скептически хмыкнул, доедая бутерброд. — Анна Викторовна, может, вам отдохнуть? Работаете допоздна, недосыпаете. Или по телевизору чего напуганого насмотрелись. У нас в городе все дети на учете, все при делах.
— Но я их видела! Они… они не отбрасывали теней! — выпалила она, сама понимая, как это звучит.
Гордеев вздохнул.
— От дождя, от света фонаря… тени чудом пропадают. Бывает. Не забивайте голову.
Но Анна не сдавалась. Она чувствовала их. Чувствовала их взгляды на своей спине, когда возвращалась с работы. Чувствовала ледяное прикосновение того страха в своей квартире. Она рылась в интернете, в местной библиотеке, пытаясь найти хоть что-то похожее. Искала упоминания о странных событиях, несчастных случаях, исчезновениях.
И нашла. Старая газетная вырезка, пожелтевшая от времени, датированная началом девяностых. Короткая заметка о трагедии в одном из домов на окраине. Семья — родители и двое детей — пропали без вести. Местные жители жаловались на странный стойкий запах из их дома и на то, что по ночам там слышался детский смех. Милиция ничего не нашла. Дело замяли.
Адрес был тот самый, где сейчас стоял новый пятиэтажный дом, в котором жила Анна. Ее квартиру построили как раз на месте того старого снесенного дома.
Она сидела за кухонным столом, и ледяные мурашки побежали по ее коже. Это было не случайностью. Это было наследием.
Пир Дэвов. 1611 год
Год спустя после смерти Салтыкова Москва все еще была котлом, в котором варились страх, голод и смерть. Дэвы чувствовали себя здесь как в роскошных покоях. Их невидимые силуэты скользили по улицам, и лишь изредка чей-нибудь обостренный страхом взгляд мог уловить на стене или на земле на мгновение промелькнувшую тень, слишком уж большую и страшную для человека.
Они охотились. Не только посылая в мир свои пугающие личины — бледных детей с глазами-пустошами. Порой они являлись сами, сбрасывая невидимую оболочку, чтобы насладиться охотой напрямую. Их вожделеющий трепет вызывала не только паника жертвы, но и чистое, первобытное насилие — хруст кости, тепло брызнувшей крови, миг абсолютной власти над плотью.
Однажды ночью отряд русских ополченцев, пробравшийся в город для диверсии, укрылся в полуразрушенной церкви где-то на Арбате. Их было пятеро — изможденные, но полные ярости мужики с самодельными пиками и бердышами.
В церкви было темно и холодно. Они зажгли факел, и дрожащий свет заплясал на ликах святых, искаженных рукой вандалов.
— Чур меня, чур, — прошептал самый молодой, широко крестясь. — Место сие недоброе. Чувствую я.
— Привыкай, Гриша, — хрипло ответил старший, по имени Прохор. — Теперь вся Русь — недоброе место. От польской шпаги не спрячешься.
Внезапно факел затрещал и погас, словно его окунули в воду. В абсолютной давящей темноте кто-то ахнул.
— Кто там? — грубо крикнул Прохор, выставляя вперед бердыш.
В ответ донесся приглушённый утробный хруст — точь-в-точь как ломают сырую хворостину, — и сразу за ним тяжёлый шлёпок падающего тела. В воздухе тут же повис сладковато-металлический запах крови, перебиваемый едкой, тошнотворной нотой гниющей плоти.
— Света! Зажигай огниво! — завопил кто-то, и в голосе его уже слышалась паника.
Кто-то отчаянно высекал искры. Они вспыхивали, ослепительные, и тут же гасли, не успев коснуться трута, будто невидимая ледяная плёнка гасила их в самом зародыше. Огонь отказывался жить в этом месте. Сама возможность пламени была здесь отменена.
Еще один влажный хруст, еще один короткий оборвавшийся крик.
— Бесы! Да это бесы! — закричал молодой Григорий. — Спасайся!
Он бросился к выходу, наткнулся на что-то невидимое, но невероятно сильное и жесткое. Раздался звук, словно ломали хворостину. Крик оборвался.
Прохор, обезумев от ужаса, замахал бердышом перед собой, чувствуя, как лезвие то и дело натыкается на пустоту. И вдруг он его почувствовал — запах серы, острый и тошнотворный. И увидел — в слабом свете едва занявшегося огнива одного из его товарищей: на стене промелькнула огромная когтистая тень. Она была не от чего-то в комнате. Она была сама по себе.
— Господи Иисусе… — успел прошептать Прохор.
Невидимые когти впились ему в горло, сдавили, подняли в воздух с нечеловеческой силой. Последнее, что он услышал, был тихий, шипящий шепот прямо в ухо:
«Ваша вера слаба. Ваш страх — силен. Это — наш пир. Благодари за трапезу».
Когда на рассвете в церковь заглянули мародеры, они нашли лишь лужи темной липкой субстанции, разбросанные клочья одежды и обломки костей, будто перемолотых в гигантской мясорубке. И тот самый стойкий сладковато-медный запах, который уже стал легендой в охваченной ужасом Москве.
Дэвы насытились. Но ненадолго. Их аппетит лишь рос. И они поняли, что эта земля, политая кровью и отчаянием, станет для них неиссякаемым источником силы. Они были ветром. Они были мором. И их пир только начинался.
Глиняные таблички страха
Следующие дни для Анны превратились в навязчивое, почти маниакальное расследование. Она уже не просто боялась — она была одержима. Ее квартира, некогда уютное гнездышко, теперь напоминала штаб параноика. Стены были увешаны распечатками из интернета, картами города, старыми фотографиями района. Она связалась с краеведческим музеем, умоляя дать ей поработать с архивом.
Пожилая смотрительница, тетя Люда, сначала ворчала, но, увидев лихорадочный блеск в глазах Анны, сжалилась.
— Что ты ищешь-то, девочка? Родственников? — спросила она, отпирая дверь в пыльное подвальное хранилище.
— Нет… Просто этот район. Дом, в котором я живу. Мне кажется, там… нехорошая история.
Тетя Люда вздохнула, проводя пальцем по папке с надписью «Ул. Садовая, д. 17 (бывший 12-й квартал)».
— История у всех у нас нехорошая, милая. Особенно здесь. Земля-то наша много чего помнит. Вот смотри.
Она вытащила толстую папку. Письма, отчеты, газетные вырезки. Анна с жадностью погрузилась в чтение. И чем дальше, тем больше леденела ее душа.
Пропажи начались не в девяностые. Они тянулись тонкой, но неразрывной нитью через весь XX век, уходя корнями в глубь времен. 1978 год: исчезла девочка-пионерка, которая якобы пошла в тот самый старый дом за мячом. 1942 год: в полуразрушенном доме (немецкая бомба угодила рядом) пропали двое раненых бойцов, которых местные жители укрыли в подвале. 1927 год: комсомолец-активист, писавший разгромную статью о «пережитках прошлого» в виде того самого дома, был найден на его пороге… без глаз. Врач констатировал смерть от разрыва сердца, но в акте была пометка: «На лице застыло выражение нечеловеческого ужаса».
И самое древнее, что удалось найти, — потрепанный листок из церковной книги за 1893 год. Запись местного священника отцу Георгию: «Сие место ознаменовано скверной неискоренимой. По ночам являются у порога домов сего квартала отроки бледные, ликом подобные ангелам, но очи имеющие адовы, черные. Просятся в дом. Не внемлите гласу их, ибо не от Бога глас сей. Сеятель смятения и пагубы…»
Анна оторвалась от пожелтевшей бумаги. Руки у нее дрожали.
— Тетя Люда… вы что-нибудь об этом слышали? О бледных детях?
Старушка нахмурилась, поправила очки.
— Бабки мои, покойницы, сказывали… Суеверия, конечно. Бред деревенский. Говорили, что это «незваные». Те, кого нельзя в дом пускать. Ни за что. Ни из жалости, ни из страха. Говорили, что они стучат в самую слабую дверь. Не в деревянную, а в ту, что в душе у человека. Где страх или одиночество.
Анна поняла: она была идеальной мишенью. Одинокая, впечатлительная, живущая на костях.
Увертюра к мору. 1612 год
В палатах князя Дмитрия Пожарского, в самой гуще подготовки ополчения, царила напряженная решимость. Но даже здесь, в эпицентре силы, тень Дэвов находила лазейки.
Князь, человек трезвого ума и железной воли, принимал донесения. Один из его приближенных, воевода Сулемша, только что вернулся из рискованной вылазки за стены лагеря. Лицо его было серым, глаза бегали.
— Говори, Иван, что видел? — Пожарский отложил карту, его взгляд был тяжелым и внимательным.
— Князь… Не знаю, как и сказать, чтобы не счел ты меня за безумца, — голос Сулемши дрожал. — В сгоревших слободах, у речки… Видел я отроковиц. Двух. Стоят среди пепелища, платья белые, чистые. Я окликнул их — мол, какые вы окаянные, тут однажды шляетесь, поляки схватят!
— И что же? — Пожарский нахмурился.
— Обернулись они. Лица… бледные, словно мукой выбеленные. А очи… Князь, очи у них были черные, совсем как уголья! И голос у них… не детский. Гладкий, холодный. Сказали: «Пойдем с нами. Покажем, где спрятаны польские припасы». И улыбнулись. А улыбка эта… леденит душу. Я крест перед собой сотворил, закричал: «Анафема!» Они… они не убежали. Просто стали таять на глазах, словно туман. Исчезли. А запах после них остался… серный и мертвый.
В шатре воцарилась тягостная тишина. Кто-то из младших дружинников перекрестился.
— Видение, — отрезал Пожарский, но в его голосе не было прежней уверенности. — Усталость, голод. Бесы искушают малодушных.
— Князь, я не малодушный! — вспылил Сулемша. — Я кровь лил за землю русскую! Но это было не видение! Это было… реальнее, чем ты сейчас! Они приглашали. Манили. И знаю я, чувствую костями — стоило мне шаг сделать к ним, и моя душа была бы обречена.
Воевода замолчал, тяжело дыша. Пожарский молча смотрел на него, и в его умном уставшем лице шла борьба. Вера в очевидное против шептания потустороннего.
— Хорошо, Иван, — наконец сказал князь. — Я верю, что ты видел нечто. В эти времена граница между мирами тонка. Но наша война — здесь. С плотью и сталью. Мы не можем сражаться с призраками. Забудь. И прикажи своим: если увидят таких… «отроковиц» — не вступать в речи, не подходить, гнать прочь молитвой и железом. И ни в коем случае… ни в коем случае не идти за ними.
Но приказ был запоздалым. Слух о «бледных ангелах смерти» уже пополз по лагерю. И в сердцах людей, и так измученных войной, поселился новый, невысказанный, страх — страх перед тем, что ждет их не в бою с врагом, а в тихом сумраке у родного порога.
Тем же вечером у дальнего частокола нашли часового. Он был мертв. На его лице застыла гримаса неописуемого ужаса. На глинистой земле вокруг его тела не было ни следов борьбы, ни следов кого-либо другого. Лишь одна-единственная странная вмятина — словно от крошечной голой пятки ребенка. А в его окоченевшей руке был зажат простой деревянный крестик, переломленный пополам с нечеловеческой силой.
Пожарский, осматривая тело, почувствовал ледяной холодок, шедший откуда-то из глубины души. Он понял, что сражается не только с поляками. Он сражается с тенью. С тенью, которая старше любого царства, любой веры. И эта тень уже здесь, среди них. И она голодна.
Плетение паутины
Анна вышла из архива с ощущением, что мир перевернулся. Солнце, светившее на удивление ярко для осеннего дня, казалось ей теперь поддельным, бутафорским. Тени от домов ложились слишком уж густо, и в каждой из них ей мерещилось движение — угловатое, неестественное. Слова тети Люды звенели в ушах: «…стучат в самую слабую дверь… в ту, что в душе…»
Она почти бежала домой, сжимая в кармане распечатки словно оберег. По дороге ей встретилась соседка, Марья Ивановна, выгуливающая старого спаниеля.
— Анечка, ты такая бледная! Небось, опять на работе засиделась? — хлопнула ее по плечу соседка.
Собака, обычно дружелюбная, вдруг замерла. Глухое рычание вырвалось из ее глотки, шерсть на загривке поднялась щеткой. Она уставилась не на Анну, а в пустоту прямо за ее спиной, и залилась пронзительным, полным животного ужаса лаем — низким, срывающимся на визг.
— Цезарь, ты что? Успокойся! — смущенно дернула поводок Марья Ивановна. — Прости, не знаю, что на него нашло…
Анна обернулась. Прямо за ней на асфальте лежала ее собственная тень. И тень собаки. И больше ничего. Но Цезарь пялился именно туда, скаля зубы и поджимая хвост.
— Ничего… все хорошо, — с трудом выдавила Анна и почти побежала дальше, слыша за спиной тревожный лай и успокаивающее ворчание соседки.
Они уже здесь. Они следуют за ней. Невидимые, неслышимые, но ощутимые для того, кто знает. Как запах озона перед грозой.
Дома она заперла все замки, включила все светильники, даже в коридоре и ванной. Яркость была невыносимой, от неё слезились глаза, но Анна готова была терпеть эту боль — лишь бы свет прогнал тени. Она села за стол, разложила перед собой бумаги, пытаясь найти закономерность, систему. Даты, места, обстоятельства. И вдруг ее взгляд упал на старую карту уезда, приложенную к церковному отчету. Выяснилось, что исчезновения в позапрошлом веке не были хаотичны. Они привязывались к чёткой схеме, словно жертв расставляли по невидимой сетке. Когда Анна наложила старую карту на современную, схема проявилась: все точки ложились ровно по контуру древних межевых валов — защитных насыпей, давно распаханных, но, по-видимому, всё ещё что-то означавших. И эти линии, если мысленно продолжить их, сходились в одной точке — на старом заброшенном кладбище на окраине города, том самом, где еще сохранились полустертые надгробия XVIII века.
Ее сердце заколотилось. Ритуальный алтарь. Амулет. Им нужно особое место для проявления. Место силы. Или, точнее, место скопления страха и смерти.
Исповедь в огне. Октябрь 1612 года
Кремль был в осаде. Улицы Москвы превратились в адский лабиринт, где за каждым углом подстерегала смерть — от пули, сабли, голода или чего-то похуже. Отряд ополченцев под командованием самого Минина очищал один из богатых дворов на Варварке, где укрепились польские наемники.
Ярость схватки выдохлась так же стремительно, как и вспыхнула. Последний наёмник, могучий детина в изодранном панцире, рухнул на окровавленные половицы, получив страшный удар алебарды Минина по ключице — кость хрустнула, как сухая ветка, и левое плечо повисло под неестественным уродливым углом. Внезапно наступившая тишина была оглушительной. Её тут же начали рвать короткие хриплые стоны раненых и далёкое неровное потрескивание горящих где-то за стенами домов — словно город тихо пожирал сам себя.
В подвале они нашли его. Поляка — молодого парня с перекошенным от ужаса лицом. Он не пытался сопротивляться. Он сидел прислонившись к бочке с солониной и безостановочно крестился, шепча что-то на ломаном русском и латыни.
— Вставать, шляхтич! — грубо крикнул один из ратников, тыча в него алебардой.
Поляк лишь замотал головой, и по его щекам потекли слезы.
— Nie… nie ruszcie mnie… Oni tu są(1)…
— Чего он лопочет? — спросил Минин, подходя. Его лицо было усталым и суровым.
— Страху своего набрался, видно, — хмыкнул ратник. — Рехнулся.
Минин присел на корточки перед пленным.
— Ты. Говори по-христиански. Где остальные?
Поляк поднял на него безумные глаза.
— Они… zabrali… забрали… — он затрясся. — Nie dzieci… to nie dzieci! To cienie! Cienie z oczami(2)!
Минин нахмурился. Слова Сулемши всплыли в памяти.
— Какие тени? Объясни.
— Мы… мы сидели здесь. Ждали… — поляк заглотил воздух. — Было тихо. Потом… постучали. В дверь. Дети… dwoje dzieci. Bladzi. Mówili, żeby wpuścić… że się boją. Я… ja chciałem otworzyć(3)… но капитан… он засмеялся. Сказал: «Русские шпионы». Выстрелил в дверь из аркебузы.
Он замолчал, его взгляд уставился в пустоту, словно он снова видел ту картину.
— Пуля… przeszła na wylot. Они даже не дрогнули. А потом… они были уже внутри. Не открывали дверь. Просто… byli w środku. И их oczy… czarne… jak węgiel(4)…
Он зарыдал, уткнувшись лицом в колени.
— Капитан закричал… и его… rozerwali. Jak szmatę(5) Когтями. Невидимыми когтями. А они смеялись. Тихо. Потом взяли остальных… poszli za nimi w cień(6)… Я спрятался здесь… они меня не тронули. Maybe… maybe для рассказа. Чтобы кто-то знал.
В подвале стало тихо. Ратники переглядывались, крестясь. Даже самые отчаянные бойцы чувствовали, как по спине у них ползет холодный пот.
Минин медленно поднялся. Его лицо было каменным.
— И где они теперь? — спросил он тихо, но так, что каждое слово било как молот.
Поляк показал пальцем вглубь подвала, в самый темный угол, где сходились тени.
— Tam. Czekają. Zawsze czekają(7)
Минин выхватил пистоль из-за пояса и выстрелил в темноту. Вспышка осветила пустой угол, бочки, паутину. Эхо выстрела раскатилось по подвалу.
Ничего. Тишина.
Но запах… Слабый, едва уловимый запах серы и медной кровяной росы повис в воздухе.
— Сжечь, — тихо, но четко приказал Минин. — Сжечь этот дом дотла. И все вокруг. Пусть огонь очистит это место.
Он вышел на улицу и первый раз за всю осаду почувствовал не просто тяжесть командования, а леденящий ужас перед невидимым врагом, которого нельзя было победить штыковой атакой. Он смотрел, как занялся огонь, с треском пожирая бревна, и думал, что, возможно, это единственный язык, который понимают эти тени. Язык абсолютного уничтожения.
А в подвале, в самом сердце пламени, на мгновение проступили две маленькие, искаженные жаром тени. Они танцевали в огне, не сгорая, а затем растворились, уйдя искать новую дверь, новую щель в человеческой душе. Их пир был далек от завершения.
Бдение
Анна не спала. Яркий электрический свет резал глаза, но гасить его она боялась смертельно. Включилa телевизор — какой-то ночной эфир с тихой бессмысленной музыкой, чтобы заглушить звенящую тишину. На столе перед ней лежала карта, испещренная пометками. Старое кладбище. Логика подсказывала, что именно там нужно искать ответы. Но инстинкт, древний и немой, кричал, что это ловушка.
Она взяла старую семейную иконку, подарок бабушки, — образ Святителя Николая. Холодная эмаль под пальцами казалась единственной реальной и твердой вещью в этом расползающемся мире. Она прижала ее к груди, закрыв глаза и пытаясь молиться, но слова застревали в горле, превращаясь в беззвучный шепот отчаяния.
Вдруг музыка из телевизора захрипела, превратилась в белый шум, и по экрану поплыли черно-белые полосы. Анна вздрогнула, уставившись на него. В шипящем шуме ей почудился шепот. Неразборчивый, ползучий. Она потянулась к пульту, чтобы переключить канал, но тут свет в люстре померк, моргнул раз, другой — и погас. Одновременно выключился и телевизор.
Темнота. Абсолютная, густая, напитанная страхом.
Сердце Анны замерло, затем забилось с такой силой, что боль отдала в виски. Она зажмурилась, потом снова широко раскрыла глаза, пытаясь что-то разглядеть. Спустя несколько секунд ее зрение начало привыкать. Лунный свет слабо пробивался сквозь занавески, отбрасывая на пол призрачные серебряные квадраты.
И тогда она услышала: тихий, четкий стук в дверь. Не громкий, не агрессивный. Терпеливый и настойчивый. Тук-тук. Тук-тук.
— Нет, — прошептала она, вжимаясь в спинку кресла. — Нет, нет, нет…
Стук повторился. И на этот раз к нему присоединился голос. Тот самый, тусклый и безжизненный, знакомый до боли.
— Анна. Впусти нас. Мы заблудились.
— Нам холодно.
— Мы одни. Как и ты.
Она зажмурилась, прижимая иконку ко лбу, шепча обрывки молитв, детские заклинания против монстров под кроватью.
— Мы знаем: ты боишься. Мы можем уйти. Но тогда мы придем к другим. К твоей соседке. К той старушке с собакой. Она добрая. Она пожалеет нас.
В голосе говорящего послышалась ледяная насмешка. Они играли с ней. Они знали ее слабости.
— Уйди! — крикнула она, и ее собственный голос показался ей хриплым и чужим. — Я не открою!
Наступила пауза. Затем раздался новый звук. Не стук, а скрежет, словно кто-то тонкими, но невероятно прочными ногтями медленно проводил по деревянной двери снаружи. Скрип раздавался прямо на уровне ее лица, будто незримый гость стоял вплотную к двери и смотрел на нее через запертую дверь.
— Все двери когда-нибудь открываются, Анна, — прошептал голос, и теперь он звучал прямо у ее уха, хотя дверь оставалась закрытой. — Или мы найдем ту, что ты откроешь сама. Твою дверь.
Скрежет прекратился. Воцарилась тишина. Анна сидела не дыша, напряженная, ожидая нового кошмара. Прошла минута, другая. Ничего. Только бешеный стук собственного сердца.
Она поднялась медленно, как лунатик, каждое движение давалось с усилием. На цыпочках, чтобы не скрипнула ни одна половица, подобралась к двери. Холод металлической линзы коснулся её кожи, когда она, замирая, приникла к дверному глазку. Подъезд был пуст. Ярко горела лампа. Никого.
Она сделала шаг назад и вздрогнула. Из-под двери в квартиру медленно, словно живая, наползала тень. Густая, черная, маслянистая. Она не была похожа на обычную тень от какого-то предмета. Она пульсировала и колыхалась, принимая нечеткие, угрожающие очертания — то длинные когтистые пальцы, то разинутая пасть.
Анна отпрянула, споткнулась и упала на пол. Тень медленно ползла к ней через прихожую, неотрывно «глядя» на нее своей безликой пустотой.
Казнь нечисти. Ноябрь 1612 года
Кремль был освобожден. Но радость победы для князя Пожарского была отравлена. Он видел, как тень страха перед «незваными» разъедала его воинов. Люди боялись ночных караулов, боялись оставаться одни в захваченных палатах. Слухи росли как плесень.
И тогда Пожарский пошел на отчаянный шаг. Он призвал к себе не только своих воевод, но и уцелевших священников из кремлевских соборов, и старого монаха-затворника, отца Сергия, который провел всю осаду в застенке Чудова монастыря, питаясь лишь хлебом и водой, и чья вера, по слухам, была столь крепка, что отшатывала саму смерть.
Совещание проходило в Грановитой палате. Факелы бросали тревожные тени на лики святых на стенах.
— Батюшка, — обратился Пожарский к отцу Сергию. — Ты видел ли что-либо… необъяснимое в стенах монастыря?
Монах, высохший как щепка, с глазами, горевшими лихорадочным огнем, медленно кивнул.
— Видел, княже. Не глазами, а духом. Скверну великую. Бесов, кои ходят аки рыкающие львы, ищуще кого поглотити. Но не обычных бесов. Сильных. Древних. Им не нужны одержимые. Им нужны… зрители. Свидетели их ужаса. Они питаются верчением нашим.
— Как с ними сражаться? — в голосе Минина, стоявшего рядом, звучала не привычная ярость, а усталая горечь. — Пули их не берут.
— Оружие железа — нет, — качнул головой старец. — Их оружие — страх. Наше оружие — вера. Не слепая, а яростная! Горящая! Как тот огонь, что вел тебя, Кузьма Минин, на бой! Нужно не прятаться от них. Нужно выжечь их логово.
— Логово? Где оно? — спросил Пожарский.
— Там, где их призвали, — прошептал монах. — Где пролилась первая кровь по обряду. В Чудовом монастыре. В тех самых палатах, где заточали святейшего Гермогена. Земля там осквернена вдвойне.
Приняли решение. Это не был военный приказ. Это был акт отчаянного экзорцизма.
К полуразрушенному алтарному приделу Чудова монастыря подошли не солдаты, а крестный ход. Священники с иконами и кадилами во главе с отцом Сергием, несущим большой освященный топор. За ними — Пожарский и Минин с зажженными факелами. Их лица были суровы. Они шли на войну, которую не понимали.
— Господи, силою твоею возвеселится царь, — начал петь отец Сергий, и его хриплый голос подхватили другие.
Они вошли в помещение. Воздух внутри был холодным и спертым, пахнущим прахом и чем-то кислым. И несмотря на толпу людей, здесь было невыносимо одиноко.
— Вот он, очаг скверны! — указал отец Сергий на груду обломков у стены — тот самый самодельный алтарь из костей и икон, возведенный Дэвами.
В тот же миг факелы затрещали и стали гаснуть, как тогда, в церкви на Арбате. Тени в углах зашевелились, стали гуще, стали тянуться к людям. Из ниоткуда донесся тихий, насмешливый детский смех.
— Не поддаваться! — закричал отец Сергий, и его голос гремел, заглушая страх. — Кади! Пой! Веруй!
Он поднял топор и с молитвой обрушил его на костяной алтарь. Раздался сухой противный хруст.
И тогда тьма взревела.
Невидимая сила рванулась изо всех углов. Один из факелов вырвало из рук Минина и швырнуло в стену. Своды завыли как живые. На стенах заплясали уродливые, искаженные тени — с крыльями, с когтями, с вытянутыми безротыми лицами.
— Вонзи! — закричал Пожарский, вонзая свой факел в груду обломков.
Сухое дерево и кости занялись мгновенно. Языки пламени взметнулись к потолку, и в них на мгновение проступили очертания трех искаженных фигур, корчащихся от ярости и боли. Воздух наполнился нечеловеческим визгом, который слышали не ушами, а самой душой.
— Гори, нечисть! Гори! — кричал отец Сергий, осеняя огонь крестом.
Пожарский видел, как тени, отбрасываемые огнем, на секунду сложились в две маленькие, знакомые по описаниям фигурки. Они стояли в самом сердце пламени, их черные глаза с ненавистью смотрели на него. И исчезли.
Пламя быстро распространялось по монастырю, но никто не пытался его тушить. Люди стояли и смотрели, как огонь пожирает древние стены, очищая их священным пламенем.
Отец Сергий, измученный, упал на колени.
— Ушли… но не навсегда. Они отступили. Им нужен новый алтарь. Новая жертва. Новый страх. Они вечны, пока вечен страх в сердце человеческом.
Пожарский смотрел на огонь и понимал, что победа над поляками была лишь первой битвой. Война с тенями только началась. И она будет длиться вечно.
Искра в пепле
Анна отползла по полу, пятясь от надвигающейся тени. Ее спина уперлась в ножку дивана. Отступать было некуда. Маслянистая чернота пульсировала, и из ее глубины послышался тот самый тусклый, безжизненный шепот, который теперь звучал уже не снаружи, а прямо в ее сознании.
«Бесполезно. Мы уже внутри. Мы в твоих мыслях. В твоем страхе. Он вкусный… горячий…»
Тень протянула к ней щупальце-клинок — медленно, наслаждаясь моментом. Анна зажмурилась, вжалась в пол, ожидая леденящего прикосновения, разрыва плоти.
Но его не последовало.
Вместо этого она почувствовала жгучий жар в ладони, сжимающей иконку. Тот самый образок Святителя Николая. Он стал обжигающе горячим, словно раскаленный уголек. Она вскрикнула от неожиданности и боли, но не отпустила его.
И в ту же секунду в комнате вспыхнул свет. Не яркий электрический — а мягкий, теплый, золотистый. Он исходил от самой иконки, разливаясь вокруг Анны сияющим ореолом, отбрасывая собственный чистый и ясный свет.
Тень отшатнулась. Она зашипела, словно раскаленное железо, опущенное в воду. Ее четкие контуры поплыли, расползлись, стали прозрачными. Шепот в голове Анны превратился в яростный бессильный визг.
«Нет! Нет! Отпусти! Это наша территория! Наша добыча!»
— Уходи! — крикнула Анна, и на этот раз в ее голосе не было страха. Была ярость. Ярость загнанного в угол зверя, нашедшего вдруг силу для последнего броска. Она подняла иконку перед собой как щит. — Я сказала, уходи!
Золотой свет ударил в тень. Та сжалась, извиваясь, и с пронзительным неземным звуком, похожим на звон лопнувшей струны, схлопнулась в маленькую черную точку на полу, а затем исчезла совсем.
Свет от иконки померк, и та снова стала просто холодной эмалью и деревом. Включился свет в люстре, заработал телевизор, загудел холодильник на кухне. Комната была пуста. Только на полу, на том месте, где исчезла тень, было маленькое обугленное пятно, от которого тянуло сладковатым запахом гари.
Анна сидела на полу тяжело дыша, вся дрожа от выброса адреналина. Она была жива. Она отбилась. Но она понимала — это лишь отсрочка. Они не уйдут. Они просто перегруппируются.
Ее взгляд упал на карту и лежащую рядом распечатку со старинной миниатюрой — изображение алтаря из костей в Чудовом монастыре. Затем на архивную записку: «…очаг скверны… выжечь…» Мысли сомкнулись, родив леденящую догадку. Старое кладбище. Не просто место происшествий — логово. Точка, где они сильнее всего. Где должен быть их алтарь. Их нельзя просто выгнать из дома. Нужно найти и разрушить сам источник. Сжечь гнездо.
Страх сменился холодной, хищной решимостью. Она поднялась, подошла к столу и взяла в руки распечатку со старинным рисунком — тем самым амулетом, который использовали для призыва. Рядом лежали газетные вырезки. Она не была воином или монахом, она была архивариусом. И ее оружием была информация.
Она нашла то, что искала. В заметке о пожаре на кладбище в семидесятых годах, когда сгорел старый деревянный часовенный столб, упоминался местный краевед, ныне покойный, который утверждал, что столб этот был не просто памятником, а частью какой-то «системы удержания». Он говорил о «камнях с насечками», вкопанных по периметру.
Анна посмотрела на современную карту. Новое кладбище было обнесено бетонным забором, но старый погост, заброшенный, находился чуть в стороне, в рощице. И его периметр… совпадал с теми самыми межевыми валами на старой карте.
Они не просто выбрали это место. Они были привязаны к нему. Оскверненная земля, ритуальные камни… это был их якорь в этом мире.
Она поняла, что должна сделать. Не просто прийти туда. Она должна разрушить их алтарь.
Наследие молота. 1613 год
Царь Михаил Федорович венчался на царство. Смута официально закончилась. Москва, израненная, но непокоренная, начинала медленное восстановление. Но в кабинете нового государя, в еще пахнущей свежей древесиной кремлевской палате, стояла мрачная атмосфера.
Пожарский и Минин, теперь уже не ополченцы, а высокие сановники, докладывали царю. Рядом с ними стоял отец Сергий, еще более осунувшийся после пожара в Чудовом монастыре.
— …и потому, государь, — голос Пожарского был тверд, но в глазах стояла усталость не от битв, а от беспокойного знания, — скверна сия не уничтожена окончательно. Она отступила, ушла в тень. Но она ждет.
Молодой царь, бледный с большими, испуганными глазами, смотрел на них, не веря своим ушам.
— Князь, Кузьма Минич… Вы говорите о… бесах? Но Смута окончена! Бог даровал нам милость свою!
— Бог даровал, — тихо вступил отец Сергий. — А дьявол насылает испытания. Сии твари, государь, не простые бесы. Они древние. Их имя — Дэвы. Им не нужен одержимый. Им нужен страх. Они — порождение человеческого малодушия, и потому искоренить их невозможно. Но можно сдерживать.
— Как? — спросил царь, и его тонкие пальцы сжали ручку кресла.
— Бдительностью, — сказал Минин. Его кулаки были сжаты. — И знанием. Мы должны оставить завесу потомкам. Чтобы они знали врага в лицо.
— Я приказал составить особую опись, — продолжил Пожарский. — По всем городам и весям. Опись мест, где была замечена… эта нечисть. Где пропадали люди при странных обстоятельствах. Где стучались в двери «бледные отроки». Эти сведения будут храниться в тайне, передаваться из поколения в поколение тем, кто будет готов нести этот груз. Тем, кого мы назовем «Сторожами Порога».
Отец Сергий медленно достал из-за пазухи небольшой, почерневший от времени металлический амулет — тот самый, что был найден на пепелище в Чудовом монастыре.
— И главное — знать их орудие. Сей амулет и ритуальный алтарь — их врата в наш мир. Их нужно находить и уничтожать. Огнем и железом. Как мы сделали это в монастыре.
Царь Михаил смотрел на амулет с суеверным страхом.
— И вы хотите, чтобы я… благословил сие? Создание некоего тайного общества?
— Мы хотим, чтобы вы знали, государь, — голос Пожарского звучал безжалостно честно. — Чтобы вы понимали: ваше царство будет процветать, но под полом всегда может тлеть невидимый огонь. И кто-то должен всегда стоять на страже у этого огня с ведром воды в руках. Мы просим не благословения. Мы просим молчания.
Царь долго смотрел в окно — на возрождающуюся Москву. Он был молод, но Смута научила его смотреть правде в глаза.
— Делайте, — тихо сказал он. — Храните вашу тайну. И да поможет вам Бог.
Так было положено начало тихой тайной войне, которая велась в тени истории. Войне, о которой не писали в летописях. Войне, которую наследовали от отца к сыну, от матери к дочери. Войне Сторожей Порога против вечных теней, питающихся человеческим страхом.
А где-то в глубине подземелий, в заброшенных склепах и на забытых погостах Дэвы, изгнанные из сердца Москвы, уже искали новую щель. Новую дверь. Новую душу, чтобы постучаться в нее. Их пир был лишь прерван.
1) Нет… не трогайте меня… Они здесь…
2) Не дети… это не дети! Это тени! Тени с глазами!
3) двое детей. Бледные. Говорили, чтобы впустили… что они боятся
4) их глаза… черные… как уголь
5) Как тряпку
6) ушли за ними в тень
7) Там. Ждут. Всегда ждут






|
Идея не нова, но выполнена неплохо. В меру жутко, в меру интересно. Жаль, что финал открытый, хотя он и так ясен, учитывая законы жанра.
Показать полностью
Но некоторые вопросы все же есть - и по сюжету, и по матчасти. Итак, "тени" могут войти только в те дома, куда их впустят добровольно. Анна никого не впускала. Как же в ее квартиру пробралась та дрянь? Тогда выходит, что добровольное согласие или отказ не нужны - все равно влезут и сожрут. И смысла во всех этих бледных детях, которые просят впустить их, нет. Разве что чисто напугать, напитаться страхом, а потом уже вползти и сожрать. Хотя если вползти незваным, страху будет не меньше. Имя Божие и иконы то "работают" против нечисти, то нет. Так не может быть. Или вы принимаете современное воззрение, что зло всесильно, или показываете реальную борьбу. А то получается, что Анну икона спасла только потому, что она (Анна) - гг. Понимаю и одобряю попытку в стилизацию под старину. Где-то она удалась, где-то выглядит безграмотно и смешно. Но ладно XVII век. Почему священник конца XIX века пишет таким дремуче-архаичным стилем? Я в теме, мне приходилось видеть документы того времени, и написаны они вполне современным по тогдашним меркам языком. Русским, а не карикатурой на церковнославянский. И зачем нужны вставки на английском? В целом история мне понравилась. Если бы не одно - финал, который остался за кадром. Ясно, что Анна погибнет в тщетной попытке противостоять злу в одиночку, поскольку за той единственной поддержкой, которая реально помогла бы, она не обратится ни за что. Отцов Сергиев, которые есть и в наше время без всяких тайных обществ, сейчас принято презирать, ненавидеть и увешивать самыми нелепыми ярлыками. |
|
|
amatory165автор
|
|
|
Аполлина Рия
Спасибо за отзыв, на некоторые вещи то ли не обратил внимание, то ли забыл) касаемо странных записей, честно говоря не знал, но почему-то в голове звучало именно так) Насчет английского, таким образом хотелось выделить поляков, опять же в голове было хорошо, но по всей видимости только в моей) |
|
|
↓ Содержание ↓
↑ Свернуть ↑
|