|
#даты #литература #длиннопост
175 лет со дня рождения Фридриха Ницше. Ницше. Это был большой поэт. Однако ему весьма не повезло с поклонниками. А. и Б. Стругацкие. Отягощенные злом Так называемые парадоксы автора, шокирующие читателя, находятся часто не в книге автора, а в голове читателя. Ф.Ницше. Человеческое, слишком человеческое Мало есть философов, равных Ницше скандальностью посмертной репутации. Хотя он не был философом в том смысле, в каком ими были Кант или Гегель. Ни классических трактатов, ни стройной логики. Это скорее традиция философии античной, еще не выделившейся из «науки». Все, кто о нем пишет, начинают с того, что философия Ницше непоследовательна и необычно изложена. Если, конечно, можно называть «философией» философские поэмы и эссе. И этот жанровый микс в сочетании с ярким даром слова сослужил Ницше не очень хорошую службу. Художественные образы, принятые за философские постулаты и к тому же выдранные из контекста — о, этот контекст! Ницше проклинали представители диаметрально противоположных мировоззрений. И использовали в своих интересах — тоже. Реплики Ницше вошли в язык, разлетелись на крылатые цитаты, которые применялись весьма широко и разнообразно. Иногда это было более или менее безобидно, как случилось с выражениями «вечное возвращение» и «переоценка ценностей» — или с изречениями «что не убивает меня, то делает сильнее», «если долго смотреть в бездну, то бездна посмотрит в тебя» и т.п. Но обычно Ницше везло меньше. Очень уж эффектны были реплики — и заманчива возможность использовать их как угодно. Один дореволюционный критик (В.Чуйко) даже называл его «жертвой беспорядочной любви к парадоксу». По отношению к наследию Ницше очень часто употребляют слово «афоризм» — и вот тут возникает некоторая подстановка. Афоризм выражает определенную законченную мысль. Но Ницше — не Лабрюйер и не Ларошфуко. Те фразы, которые подхватила публика, в большей или меньшей степени были выдернуты из контекста — а следовательно, никак не «закончены». Пример: знаменитая реплика, которая чаще цитируется в сокращенном и искаженном виде: «падающего — подтолкни». На самом деле у Ницше — «Was stürzt, soll man noch stoßen», т. е. «что», а не «кто»: Но я же говорю: что падает, то нужно еще и толкнуть. Всё, что сегодня падает и распадается: кто захотел бы удержать его? Речь здесь о необходимости освободиться от старых взглядов на жизнь, когда они стали оковами, помехой на пути. Но сокращенная до пары слов реплика прекратилась во что-то наподобие антитезы пушкинской «милости к падшим».Так говорил Заратустра Вообще же эта книга — «Так говорил Заратустра» — нечто вроде поэмы в прозе, оформленной как четырехчастная симфония, и в ней содержится огромное количество реминисценций (в том числе пародийных), отсылок к Гомеру и Аристотелю, Лютеру и Вагнеру, Гёте и Шекспиру — и, конечно, к Библии. Очень важным элементом ее является игра смыслов, ритма, звукописи: Андрей Белый говорил по этому поводу, что по-русски нечто подобное мог написать разве что Гоголь. Выдранные из «Заратустры…» куски текста получают тот смысл, который угодно будет вложить выдравшему. Например: «…как говаривал Ницше: “Ты идёшь к женщинам? Не забудь плётку!”» И от слова «говаривал» — сразу впечатление, будто у Ницше это была такая любимая послеобеденная поговорка. Хотя фраза принадлежит персонажу из «Заратустры…» — притом персонажу женскому! Другое знаменитое выражение Ницше — «Бог умер». Вот его ближайший контекст: Безумец вбежал в толпу и пронзил их своим взглядом. “Где Бог? — воскликнул он. — Я хочу сказать вам это! Мы его убили — вы и я! Мы все его убийцы! Но как мы сделали это? Как удалось нам выпить море? Кто дал нам губку, чтобы стереть краску со всего горизонта? Что сделали мы, оторвав эту землю от ее солнца? Куда теперь движется она? Куда движемся мы? Прочь от всех солнц? Не падаем ли мы непрерывно? Назад, в сторону, вперед, во всех направлениях? Есть ли еще верх и низ? Не блуждаем ли мы словно в бесконечном Ничто?.. Бог умер! Бог не воскреснет! И мы его убили! Как утешимся мы, убийцы из убийц!.. Сквозная тема Ницше — в его же выражении «переоценка ценностей». Век позитивизма постепенно подточил устои прежней простодушной веры, и то, что вчера было нравственным ориентиром, сегодня оказалось декорацией, данью традиции, на которую больше нельзя опираться. (В России похожую роль сыграл Н.Г.Чернышевский с его теорией разумного эгоизма и новых людей, сформулированной еще в 1860 году: он попытался основать новую этическую философию на «антропологическом» принципе и превратился в такую же скандальную фигуру, какой позже стал — в европейском масштабе — Ницше.) Цель морали теперь почти всюду определяется так: сохранение и движение человечества вперед. Но это значит хотеть только иметь формулу, и больше ничего. Сохранение — в чем? Движение — куда? Ницше назвал современную европейскую мораль моралью стадных животных. Она поставила личность на службу «общему благу» (читай — массе) и тем уничтожила саму идею личности, возведя в идеал безопасность и посредственность (© В.П.Преображенский). Ницшевский образ «сверхчеловека» вырос из отвращения, которое автор питал к массовому усреднению. Знать и противопоставляемая ей чернь в системе Ницше — это не социально-политические, но моральные категории (© С.Д.Франк).Ф.Ницше. Утренняя заря В «Заратустре…» Ницше выразил это чувство со свойственной ему категоричностью — чем, конечно, подставил себя под удар: …хуже всего мелкие мысли. Поистине, лучше уж совершить злое, чем подумать мелкое! Впрочем, даже этой уязвимой позицией его попрекали: Н.Минский писал, что вернейшее средство привлечь толпу — это бранить ее и превозносить «избранных»; уж конечно, каждый захочет считать себя избранным:Злое дело похоже на нарыв: оно зудит, и чешется, и нарывает, — оно говорит откровенно. Но мелкая мысль похожа на грибок: он и ползёт, и прячется, и нигде не хочет быть, пока всё тело не будет вялым и дряблым от маленьких грибков. Ницше создал новую риторическую фигуру, которую я бы назвал фигурой запугивания. Прежде чем высказать какую-нибудь мысль, он дает понять, что, конечно, ее не одобрят лицемеры и трусы, и запуганный читатель заранее ее одобряет, лишь бы откупиться этою ценою от звания труса и лицемера. А Л.Троцкий (да, тот самый) заклеймил Ницше как ненавистника демократии. Аргументация у него была в своем роде замечательная. Для начала Троцкий справедливо упомянул, что вырванные из контекста фразы могут послужить иллюстрацией любого заранее заданного положения. Поэтому он принялся за анализ «общественной почвы», на которой, по его мнению, вырос феномен Ницше, и заключил просто прекрасной фразой: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Что и требовалось доказать. В целом, более хитроумная версия «не читал, но осуждаю». Параллель с Христом остается на совести Троцкого (тем более что в данном случае она работает против него), но как бы опрометчиво ни выражался Ницше, в этих наблюдениях и переживаниях он был не одинок. Нет, лучше мерзостный порок, Еще в 1855 году А.И.Герцен, чью книгу «С того берега» сейчас называют самым ницшеанским произведением русской литературы, дал убийственную характеристику современников:Разбой, насилие, грабёж, Чем счетоводная мораль И добродетель сытых рож! Г.Гейне. Anno 1829 Меня просто ужасает современный человек. Какая бесчувственность и ограниченность, какое отсутствие страсти, негодования, какая слабость мысли, как скоро стынет в нем порыв, как рано изношено в нем увлеченье, энергия, вера в собственное дело! — и где? чем? когда эти люди истратили свою жизнь, когда они успели потерять силы? Они растлились в школе, где их одурачили; они истаскались в пивных лавках, в студентской одичалости; они ослабли от маленького, грязного разврата… В «Былом и думах» он писал о мещанстве, поработившем Европу: мещанство тогда уже перетекло из категории социальной в нравственную (филистерство).А в 1930 году Х. Ортега-и-Гассет пишет: Характерным для нынешнего момента является то, что посредственность, зная, что она посредственность, имеет нахальство повсюду утверждать и всем навязывать свое право на посредственность. «Посредственность» всегда прекрасно себя узнавала в таких выпадах и мстила как могла. Причем страшнее всего оказалась не прижизненная травля, а посмертная канонизация, с кастрацией и искажением всего наследия, которое ставилось на службу очередной власти. В России как раз такая судьба постигла Герцена: с подачи известной ленинской статьи он был объявлен предтечей Октябрьской революции, а в конце ХХ века попал в список «соответчиков» по ее итогам. Хотя достаточно прочитать «Письма к старому товарищу» — политическое «завещание» Герцена, — чтобы убедиться, что он предостерегает против насильственной ломки режима и попыток форсировать прогресс общества, против обобществления земли, против грубого утилитаризма; но когда такие мелочи смущали пропаганду, которая вербовала себе союзников из числа авторитетных исторических фигур? Вырываем из контекста нужные нам фразы и объясняем их как хотим! А что Герцен там ляпнул: «Нельзя людей освобождать в наружной жизни больше, чем они освобождены внутри», — так ведь это можно и пропустить…Восстание масс Так же поступила с наследием Ницше в свое время и германская машина идеологической пропаганды. И времена те уже ушли, а ложь осталась. Все дело в том, как мы понимаем, как мы произносим слово «сверхчеловек», — замечал В.С.Соловьев. В этом — и истина, и ложь ницшеанства. Это словечко подхватили идеологи Третьего рейха, а заодно записали и Ницше в свои предтечи: кто там станет вспоминать, что Ницше называл лозунг «Германия превыше всего» концом немецкой философии и отказался от прусского подданства; что он всю жизнь гордился своим славянским происхождением (фамилия его предков-поляков — Ницкие) и называл русских и евреев самыми одаренными и перспективными нациями (© К.А.Свасьян). По части идеологической «перекраски» мыслителей прошлого все политические режимы так или иначе стоят друг друга. Всю жизнь Ницше живо интересовался русской литературой. Он переводил Пушкина, был «знаком» с Печориным и с Базаровым (русские версии «сверхчеловеков»), но особенно почитал Достоевского: «это единственный психолог, у которого я мог кое-чему научиться; знакомство с ним я причисляю к прекраснейшим удачам моей жизни»… Русская литература платила ему взаимностью. Нравился Ницше не всем, но всем был интересен. «С таким философом, как Нитче, я хотел бы встретиться где-нибудь в вагоне или на пароходе и проговорить с ним целую ночь, — писал Чехов Суворину (25.02.1895). Все, что русские получили от Ницше, было возогнано преимущественно в литературу (© В.Шохина). На рубеже XIX — XX веков нашу литературу наводнили герои-ницшеанцы. Но оказались они очень разными. Философия Ницше обладала свойством индикатора: она разоблачала исповедующего ее человека, именно благодаря своей метафоричности. Скажи мне, как ты понимаешь Ницше, и я скажу тебе, кто ты. В «Вишневом саде» Симеонов-Пищик простодушно замечает: — Ницше… философ… величайший, знаменитейший… громадного ума человек, говорит в своих сочинениях, будто фальшивые бумажки делать можно. Герои-ницшеанцы есть у Чехова («Дуэль») и Куприна («Поединок»), у Арцыбашева и Л.Андреева, у Гумилева и Маяковского. Позже — у А.Толстого, Эренбурга, Олеши и Зощенко. Но больше всего их у Горького. На стене кабинета Горького портрет Ницше висел рядом с посмертной маской Пушкина.Что замечательно: два хорошо известных нам еще со школы персонажа «Старухи Изергиль», противопоставленные друг другу, Ларра и Данко, оба воплощают тип «сверхчеловека». Но понятый абсолютно по-разному. Общего между ними — только романтическая позиция «над» массой. Таковы и герои «Макара Чудры», и Сатин («На дне»): — Чело-век! Это — великолепно! Это звучит… гордо! Че-ло-век! Надо уважать человека! Не жалеть… не унижать его жалостью… уважать надо! Забавно, что эти слова были очень популярны в советском «школьном литературоведении», хотя Советская власть решительно числила Ницше среди идеологических врагов.Эти слова Сатина и памятная со школьных лет тема сочинения «Спор Сатина и Луки» — они упираются в проблему, ключевую для Ницше (и не только для него). Озаглавив одно из основных своих сочинений «По ту сторону добра и зла», он попытался разобраться, что же в действительности вкладывается в эти понятия, — и пришел к выводу, что «добрый» и «хороший» не всегда тождественны друг другу. Тот идеал, который ему виделся, нельзя было найти между жестокими и злыми. Но его не удовлетворяла и мораль «добрых», которые, по мнению Ницше, доведены процессом обобществления до стадообразного состояния. А эмоция сострадания сложна по составу: в ней содержится примесь самоутверждения за счет «ближнего», то самое «унижение жалостью» и в перспективе — уничтожение человека как личности, о чем до Горького-Сатина рассуждал еще Достоевский (© Н.К.Михайловский). Отсюда родились известные лозунги Ницше: Выше любви к ближнему — любовь к дальнему и будущему… С.Л.Франк, сделавший подробный разбор этической системы Ницше, пояснял это так:Так велит моя великая любовь к дальнему: не щади своего ближнего! Этика «любви к ближнему» есть моральная система, основанная на инстинкте сострадания. Понятие «любви к дальнему» не имеет столь определенного значения». Это и забота о более отдаленных интересах тех же «ближних», и забота о согражданах и потомках (этика прогресса), и, наконец, любовь к идеалу: истине, добру, справедливости. Оба моральных принципа нередко приходят в столкновение, и нельзя закрыть на это глаза. «Любовь к ближнему» Франк сравнил с заботой медсестры, которая хлопочет о том, чтобы избавить больного от боли. «Любовь к дальнему» — это суровость врача, который нередко причиняет дополнительную боль, чтобы избавить от болезни. Кстати, Франк приводил еще одну русскую параллель: судьбу Чаадаева (один из прототипов Чацкого), который в своих «Философических письмах» наговорил столько нелестных вещей, что император предпочел официально объявить его сумасшедшим: мол, только сойдя с ума русский человек станет так клеймить свою страну. (Эту отличную находку впоследствии использовала и Советская власть.) Чаадаев с горечью замечал, что он любит свое отечество так, как научил его любить Петр I: не закрывая глаз на его недостатки и не купаясь в розовых иллюзиях. Однако еще выше «любви к дальнему» Ницше поставил то, что образно назвал «любовью к вещам и призракам (Gespenst)», т.е. к идеалам и идеям: истина, справедливость и т.п., вне соотнесенности с сиюминутной «пользой». Чистый утилитаризм в перспективе заводит в тупик. Тот же С.Л.Франк высказался об этом так: Успехи науки, которые имели такое огромное практическое значение, могли быть достигнуты только путем бескорыстного искания истины вне всяких соображений о ее пользе для людей; а сколько народных бедствий было бы предупреждено, если бы современная «реальная политика» — этот типичнейший продукт государственного утилитаризма — сменилась политикой «идеальной», которая считалась бы не только с утилитарными интересами страны, но и хотя бы с элементарнейшими «призраками» справедливости и добропорядочности! Парадокс в том, что среди этих «призраков» оказалось и многое из того, от чего Ницше вначале решительно отворачивается: он как бы приходит к отвергнутым ценностям на новом, более высоком витке, стряхнув все лишнее. «Почти все главные теории Ницше поражают нас следующей неожиданностью: они в последних своих выводах как будто сами себя отрицают» (© Е.В. де Роберти).Это проще увидеть опять же на примере русской литературы. Повесть Чехова «Дуэль». Многие, наверное, помнят и экранизацию — «Плохой хороший человек», с отличными актерами: О.Даль (Лаевский), В.Высоцкий (фон Корен), А.Папанов (Самойленко). Лаевский — ничтожный человечишка, привыкший выезжать на чужой доброте и снисходительности паразит. Так, во всяком случае, воспринимает его фон Корен, со своих суровых научных позиций (он зоолог) осуждающий все, что содействует вырождению. То есть фон Корен представляет в повести как раз «ницшеанство» в расхожем смысле слова: — Лаевский безусловно вреден и так же опасен для общества, как холерная микроба. Утопить его — заслуга. <…> В интересах человечества и в своих собственных интересах такие люди должны быть уничтожаемы. И у ошалевшего Самойленко вырывается: «Если людей топить и вешать, то к чёрту твою цивилизацию!..»— Что ты говоришь?! — пробормотал Самойленко, поднимаясь и с удивлением глядя на спокойное, холодное лицо зоолога. — Да ты в своем уме? — Я не настаиваю на смертной казни, — сказал фон Корен. — Если доказано, что она вредна, то придумайте что-нибудь другое. Уничтожить Лаевского нельзя, ну так изолируйте его, обезличьте, отдайте в общественные работы... Столкновение Лаевского и фон Корена неизбежно. Но в результате не удается остаться прежним ни тому, ни другому. И в финале повести трижды повторяется фраза: «Никто не знает настоящей правды…» Ницше решительно не соглашался с Достоевским в вопросе о ценности сострадания, но всю жизнь, по его словам, был благодарен русскому писателю («хотя он и противоречил неизменно моим самым сокровенным инстинктам»). Однако закончилась жизнь Ницше совершенно «по-достоевски»: так, что в книге подобный эпизод показался бы невозможной натяжкой, морали ради притянутой за уши. Ницше жил тогда в Италии, в Турине. Когда утром 3 января 1889 г. он вышел из своей наемной квартиры, то увидел извозчика, который избивал лошадь у стоянки на Пьяцца Карло Альберто. С криком Ницше бросился через площадь и обнял ее за шею. Потом потерял сознание и сполз на землю. Собралась толпа, и владелец квартиры, привлеченный уличной сценой, узнал своего постояльца и перенес его в дом. Этот эпизод попал потом в артхаусный фильм Б.Тарра «Туринская лошадь» (2011). Ницше прожил еще 11 лет, но рассудок к нему уже не вернулся. Уличная сцена, которая пришла словно из страшного сна Раскольникова (а туда — из стихотворения Некрасова), послужила толчком, который разбудил дремлющую болезнь (Ницше с детства страдал сильными головными болями и имел наследственную предрасположенность к шизофрении). Странное совпадение, но самый скандальный из русских «ницшеанских» авторов — Маяковский, который тоже наговорил много возмутительных вещей, — в 1918 году напишет свое «Хорошее отношение к лошадям». Вот такой цепляющий образ страдания получился у Некрасова: волны от него словно разошлись во времени и задели даже тех людей, от кого меньше всего можно было этого ожидать. Что до работ Ницше, то в заключение — пара суждений. Первое прозвучало более ста лет назад: Верны или неверны эти тезисы, во всяком случае они не могут остаться без влияния на нас уже потому, что они вынуждают нас к самопроверке… ценности мнимые, призрачные, не выдержат философской критики и отпадут; то же, что есть в современной философской мысли действительно ценного, получит для нас более глубокое и прочное обоснование. А это пишет наш современник:Е.Н.Трубецкой Единообразное понимание (не говоря уже о приятии) Ницше можно считать провалом его сверхзадачи — научить каждого быть самим собой, то есть мыслить и жить самостоятельно. Нам недостает не смысла. Напротив, мы переполнены смыслами. Нам недостает творчества, то есть производства новых смыслов. И потому нам недостает сопротивления старым мифам, порабощающим нас своими смыслами. Важно, как читать Ницше: понимая его буквально, торопясь и захлебываясь, или зрело, охватывая все его творчество как бы в целостности, зная, что перед вами обоюдоострый меч, неосторожное обращение с которым опасно. Но еще более важно, кто читает Ницше: экзальтированные особы, которые падают и потому пытаются схватиться за что попало (Ницше называл их «обезьянами Заратустры»), либо поднимающиеся духом люди, которые хотят подняться еще выше. Н.Орбел 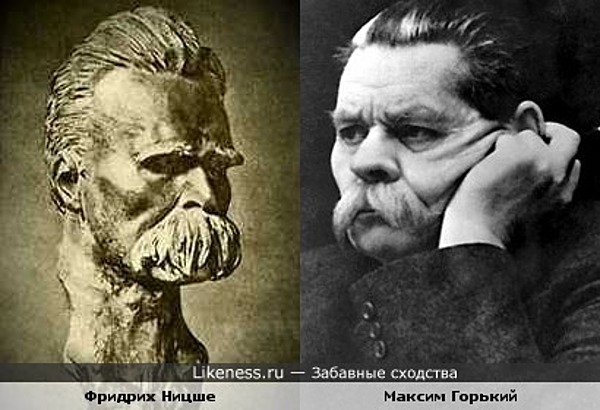 Источники: Белый А. Фридрих Ницше Дудкин В.В. Ницше и Герцен Минский Н. Фридрих Ницше Михайловский Н.К. Еще о Ницше Орбел Н. Ecce liber. Опыт ницшеанской апологии Преображенский В.П. Фридрих Ницше. Критика морали альтруизма Роберти Е.В. де. Ницше: его философия, его социология. Опыт общей характеристики Свасьян К.А.. Ницше, или Как становятся богом Синеокая Ю.В. Российская ницшеана Соловьев В.С. Идея сверхчеловека Троцкий Л. Кое-что о философии «сверхчеловека» Трубецкой Е.Н. Философия Ницше. Критический очерк Франк С.Л. Фр. Ницше и этика «любви к дальнему» Холлингдейл Р. Дж. Фридрих Ницше. Трагедия неприкаянной души Чуйко В. Общественные идеалы Фридриха Ницше Шохина В. Философия Ницше в свете нашего опыта 15 октября 2019
10 |