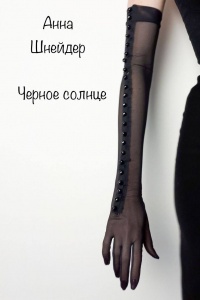





| Предыдущая глава |
↓ Содержание ↓
↑ Свернуть ↑
| Следующая глава |
Агна сжала мел в руке, и он треснул, рассыпаясь на ткань ее платья мелкой, белоснежной крошкой.
— Фрау Кельнер?
Высокий голос Магды Гиббельс возвращает ее в реальность. Агна растягивает губы в улыбке, которой пользуется на публике, — вежливая, внимательная, не слишком широкая и не скупая. Одним словом, умеренная и смеренная по всем параметрам улыбка, пригодная для тех, кто решает ничего не замечать, или играть, как Элисон Эшби — в Агну Кельнер.
— Да, фрау Гиббельс.
Голос Агны звучит приветливо, в меру заинтересованно. Боковым зрением она замечает движение справа, и вот перед ней появляется мужская фигура.
Выдвинувшись на шаг вперед, она приближается к Агне, рассматривает ее лицо умным, задумчивым взглядом темно-карих глаз и, к удивлению фрау Кельнера, как-то нехотя салютует по заданной форме, медленно вскидывая руку вверх. «Недостаточно резко!» — сказал бы иной ретивый нацист. Но этот продолжает с какой-то отстраненной грустью смотреть на Агну, и словно не торопиться соответствовать моде даже в присутствии жены министра пропаганды. Человек в форме сам называет себя.
— Георг Томас, — он протягивает руку девушке, и в ответ слабо пожимает кончики ее пальцев.
Взгляд его снова ускользает из настоящего момента, отчего Агне кажется, что в обычной одежде, без мундира, он наверняка больше походит на флегматичного писателя, чем на начальника штаба артиллерийско-технического снабжения армии.
Фрау Гиббельс заметно нервничает, крепко сцепляя пальцы правой руки на массивных кольцах левой. Может быть, ей хочется прервать этот вялый разговор, но она не может этого сделать. Как не может и поторопить будущего генерала в выражении своих мыслей. А потому ей приходиться почти смиренно ожидать, пока Томас, снова вернувшись от своих соображений к настоящему моменту в холле модного дома, спрашивает, будет ли Агна присутствовать на партийном съезде, который откроется завтра в Нюрнберге?
Жена Кельнера почти слышит, как шипит супруга министра. Ее большой нос с тупым концом возмущенно ворочается из стороны в сторону: как можно предположить, чтобы посторонние присутствовали на съезде, которым руководит сам фюрер?!
Словно распознав ее немое возмущение, Томас растягивает полную нижнюю губу в извинительной улыбке, и тихо, скомкано завершает разговор с Агной.
Проводив Магду Гиббельс и будущего генерала пехоты взглядом, девушка возвращается к выкройке для новой модели.
* * *
Тяжелая деревянная дверь модного дома Modeamt беззвучно закрывается за Агной. Перебегая дорогу, она смотрит вправо, на секунду задерживает взгляд на припаркованной у тротуара машине.
…В тот вечер ее «Хорьх» стоял на этом же месте. Она собиралась домой. Но из темноты беззвучно, словно он был ее порождением, вышел Гиринг. Одного взгляда на его глумливое, страшное и притягательное лицо хватило для того, чтобы Агна сильно испугалась, — безотчетным, внутренним страхом. И потеряла ребенка. Она смутно помнила тот вечер. И если бы кто-нибудь видел ее тогда, она бы хотела у него спросить: «Как я оказалась в больнице, как я осталась жива?».
Воспоминания показывают ей одни и те же разрозненные детали: Гиринга поглощает темнота, она падает на сидение машины, ничего не соображая от боли, сквозь которую не может пробиться ни одна разумная мысль. Тело не слушается ее, выходит из строя. Загребая ногами землю, Агна затаскивает в салон автомобиля сначала одну ногу, потом другую. А они, словно деревянные грубые палки, как назло, цепляются за край широкой автомобильной подножки. Высокий бортик зеленых туфель замазан землей, вверх от него по чулку, — от лодыжки и выше, — рваными петлями бежит стрелка. Пот тяжелыми каплями падает со лба на руки и одежду.
«Ну же, Эл!».
Элис пытается помочь себе руками, но боль, от которой ее рвет изнутри, с каждым движением забирает все больше сил. Наконец, она закрывает черную лакированную дверь автомобиля, и четко вставляет ключ в замок зажигания. Это — благодаря Эдварду. Мутно-белая капля пота медленно катится по виску, когда Элис, откинув голову на спинку сидения, вспоминает, как он настоял на том, чтобы она научилась быстро заводить машину. Краешек ее губ дрожит в измученной улыбке.
Она тогда стала с ним спорить, все спрашивала, почему он так настаивает на том, чтобы она умела заводить «Хорьх» «быстро, даже если тебе завяжут глаза!»?..
Для этого?.. Чтобы суметь повернуть в замке блестящий металлический ключ даже сейчас, когда — она знает, — внутри нее умирает малыш?.. Мальчик или девочка?..
Набрав в легкие воздух, Элис резко выпрямляется на зеленом кожаном сидении, четко и быстро вставляет и поворачивает ключ вправо.
«Где ты сейчас?».
Автомобиль негромко урчит, послушно отъезжает от тротуара, и везет ее по прямой. Сложнее всего останавливаться перед светофорами, и потому Агна Кельнер не тратит на них время. Минуты медленно утекают, и где-то им наверняка ведется обратный отсчет. Ее личный «золотой час», в который ей и ребенку еще можно помочь, истаивает… Ветер обносит лицо холодом, на кончике заостренного от боли сознания она помнит, что забыла поднять крышу автомобиля, но теперь на это нет времени.
«Пусть мне будет холодно, а он выживет».
Она не говорила об этом Эдварду, но ей казалось, что это мальчик. Крошка, зацепившаяся за край жизни. Руки Эл соскальзывают с узкого руля, безвольно падают на сигнал, отчего улицы, крутящиеся вокруг ее черного «Хорьха», оглушает резкий крик клаксона. Она поворачивает налево, — до клиники «Шарите» остается не так много, но тело снова отказывается ей служить. После единственной остановки на светофоре, «Хорьх» плавно трогается на первой передаче, и перестает урчать. Остановка. Дверь открывается, нос черного ботинка блестит на подножке ее автомобиля, и кто-то плавно, словно в воде, уложив ее на попутное течение реки, выносит Элис прочь. Ее глаза закрываются, но она успевает почувствовать, как слезы, крупные и горячие, какими она до этого никогда не плакала, выкатываются из-под ресниц. Справа и слева. Они бегут вниз, по скулам, огибая черты ее лица. Какой-то свет недолго слепит ее даже через закрытые веки, отчего перед глазами все становится кроваво-красным…
Провал.
Движения.
Далекие голоса.
Снова слепящий свет. Много точек света, белого света. Они складываются в линию, пробегают через нее, через ее закрытые, кроваво-красные глаза… там, с внешней, другой от нее стороны, кто-то волнуется, повышает голос. Кричит и зовет. Она летит прямо, потом направо, прямо как в «Хорьхе». Но Элис больше не в автомобиле, потому что улица перестает звучать. Прохлады, захватывающей ее своими крыльями с обеих сторон, больше нет. Внутри все сжалось. И высохло. Она тянется рукой к животу. Там много крови? Они знают, что она беременна? Надо им сказать, иначе они потеряют время на ненужный осмотр, и не смогут его спасти. Крошка, зацепленная за край жизни. Она катится по белой льняной салфетке вниз, — это Элис смахнула ее, не заметив.
…Из красного появляется лицо. Старое, сморщенное, доброе. Оно трясется над ней, рот открывается, наверное, он хочет что-то узнать, но Элис ничего не знает. Глубокие линии этого старого лица еще какое-то время нависают над ней, закрывая от нее невыносимо-яркую, кипельную потолочную лампу, а потом снова исчезают. Ей становится не больно, она скатывается в провал. И только белый-как-лунь доктор маячит над ней дальним светом.
* * *
Агна идет прямо. Через два дома, в переулке, стайка мальчишек гоняет мяч. Их громкие голоса, сплетаясь звонкой трелью, уносятся в небо. Прислонив ладонь ко лбу, она радостно улыбается, когда один из футболистов, сказав что-то на бегу остальным, спешит ей навстречу, широко раскинув руки.
Вечернее солнце освещает его невысокую фигурку бликами теней и остатками света. Тощие ноги со съехавшими вниз гольфами темнеют ссадинами. Еще одна секунда, — последняя и самая радостная, — и тонкие детские руки крепко обхватывают ее талию. Мальчик врезается в Агну с разбегу, отчего она теряет немного равновесия, и замирает, прислонившись кудрявой, темной головой к ее животу. Он молчит, и Агна молчит тоже. Из всех встреч это мгновение — ее любимое: у них еще есть несколько минут, и пока не нужно расставаться.
— Мариус…
Тихий, ласковый голос Агны приводит мальчишку в движение. Он отпускает девушку, с любопытством смотря на нее снизу вверх. И вот фея, которая однажды, — под самое Рождество! — отдала ему все свои деньги, опускается перед ним, и улыбается широкой, красивой улыбкой. Край ее белого платья касается земли, и Мариусу жаль, что оно, такое красивое и воздушное, станет грязным от дворовой пыли. Фея чуть-чуть покачивается на каблуках, а он хватает ее за руку, — не грубо, но крепко, чтобы удержать, если она начнет падать. Мариус не очень много знает из всяких волшебных дел, но если красивые рыжие феи, такие как эта, могут жить среди людей и даже общаться с обычными, как он, «грязными мальчишками», то и упасть они наверняка тоже могут. Поэтому он держит ее за руку. Очень аккуратно, так, чтобы грязь с его ладони не слишком сильно замарала ее светлую-светлую кожу.
Мариусу очень нравятся их редкие встречи. Они всегда разные. Иногда совсем короткие, на несколько минут, иногда длинные. Но фея всегда разрешает ему себя обнять, и обнимает его в ответ. И почему-то плачет, тоже всегда. То прозрачными слезами, — и тогда она вытаскивает из сумочки платок, и вытирает глаза мягким белым уголком, — то, как это Мариус объясняет себе, «одними глазами», — это когда слезы не успевают еще перебежать на щеки, и только-только собираются в зеленых, феиных, глазах.
Сейчас она тоже плачет. Не одними глазами, а прозрачными слезами, бегущими по лицу быстрыми строчками. Фея улыбается, не обращая на них внимание, и раскрывает ярко-зеленую, похожую на солнечный бархат, сумочку. Мариус ждет, когда из-за темно-желтого медного бортика покажется привычный белый уголок платка. Но в этот раз вместо него она снова достает деньги. Это значит, что у нее мало времени, и на платок нет ни секунды. Мариус застывает в волнении, что происходит с ним всегда, когда фея дарит ему банкноты, свернутые пополам. Он никак не может привыкнуть к этому, предвкушая бессловесную от слез радость мамы, которой Мариус отдает хрустящие бумажки.
Фее даже не нужно просить его о том, чтобы он держал их встречи в тайне, — он и так это знает. И хотя Мариус отдает маме все деньги, отчего потом в их доме появляется свежий хлеб и даже мясо, себе он оставляет самое ценное: знание о том, как выглядит фея.
Она гладит его по голове, по густым кудрявым волосам, и улыбается в ответ на его улыбку. Он говорит, что у него все хорошо, и спрашивает, когда она снова придет? Фея ничего не отвечает, и, выпрямившись, поправляет подол платья. Ее рука исчезает за бортиком кармашка, по белому краю которого вышиты мелкие синие цветы. Заметив внимательный взгляд, она шутливо нажимает на кончик его острого носа, и говорит, что это — васильки. Потом протягивает Мариусу шоколад в золотой обертке, крепко целует в пыльную щеку, и, стерев следы красной помады, прощается с ним, обещая, что скоро они снова увидятся.
Мариус кивает, говорит «спасибо!» и наклоняет голову вниз, потому что это очень стыдно, — когда от поцелуя на щеках выступают пятна, ведь он уже взрослый, ему почти семь: еще немного и взрослый мужчина. Но каждый раз ему становится жарко, когда она целует его и смотрит в карие глаза с волшебной улыбкой на губах. В такие моменты он начинает думать, что, может быть, в нем есть что-то необычное, если такая красивая фея приходит именно к нему?.. Мариус убегает обратно, к мячу и мальчишкам, и все-таки еще раз оглядывается на фею, с которой теперь разговаривает высокая женщина с белыми волосами.
— Фрау Кельнер! Какая неожиданная встреча!
Ханна Ланг растягивает слова в своей привычной манере, и выжидательно смотрит на девушку.
Агна оглядывается, чтобы убедиться, что Мариус теперь — не более, чем отдаленная, неразличимая в толпе мальчишек, точка, звонко кричащая «гоооол!». Это значит, что уже он далеко, и Ханна их не заметила.
— Правда, фройляйн Ланг? — Агна поворачивается к блондинке, и ее зеленые глаза темнеют.
— Как Харри?
Вопрос поднимается вверх, зависает в воздухе грозой, разыгранной как по нотам. Ханна уверенно смотрит на Агну. Вот она, перед ней: рыжая, маленькая, вряд ли чем-то примечательная, кроме своего лица.
Смех Агны начинается внезапно. С улыбки, скользнувшей по губам, он вырастает в тихий, беззвучный смех, и превращается в хохот. На глазах выступают слезы. Плечи мелкой фрау еще дрожат, когда она, шагнув по направлению к Ханне, пытается унять веселье и задать вопрос одной фразой. Но это не получается, — губы то и дело уходят в улыбку, растягиваются в стороны, обнажая белые зубы.
— Интересуетесь чужим мужем, фрау Ланг? Накануне собственной свадьбы?
Глаза Агны искрятся таким весельем, что сама Ханна улыбается. Сначала дежурно-непонимающе, потом — со страхом. И когда в ее взгляде мелькает быстрая тень удивления, Агна хватает ее за ворот платья, явно сшитого на заказ, и четко шепчет:
— А Георг Томас знает, кто ты?
Ханна, которая при желании могла бы довольно легко освободиться от хватки Агны, замирает под ее свирепым взглядом.
— Знает?!
Агна притягивает Ханну с такой силой, что под ее цепкой изящной рукой платье haute couture трещит по швам.
— Попробуй еще хотя бы раз подойти ко мне или к моему дому, и я расскажу твоему будущему мужу о тебе все, что знаю!
Агна со всей силы отталкивает Ханну от себя, и добавляет чуть громче:
— Я знаю много, Ханна. Сама понимаешь, — модный дом, высокие гости, новые слухи…
— Ты!.. — Ханна взмахивает над Агной рукой.
Вдруг плечи ее замирают, а глаза, до этого смотревшие на соперницу высокомерно, теряют всякое человеческое выражение, становятся смиреннее самых последних, собачьих, молящих глаз, и она шепчет:
— Умоляю, не говори. Не говори ему!
Смерив Ханну взглядом, Агна улыбается и быстро уходит вперед, не оглядываясь.
…Агна знает, что Ханна наблюдает за ней. За каждым ее шагом, движением, жестом. За тем, как она перебегает дорогу, подходит к «Мерседесу», в котором ее ждет Харри, садится рядом с ним, и, не давая времени произнести приветствие, долго его целует.
— …Нам нужно в Нюрнберг, Агна, — медленно шепчет Кельнер, удивленный таким пылким поцелуем.
Она не отвечает, — только улыбается ему и своим мыслям, неведомым Харри, и потому он все так же удивленно уточняет:
— Все в порядке?
Агна переводит на него озорной и лучистый взгляд, и, не в пример выражению своих глаз, покорно отвечает:
— Все хорошо, Харри. Значит, поедем в Нюрнберг.
Кельнер молча кивает, и медленно отъезжает от здания модного дома. Если у него и есть догадки о причинах столь неожиданного поведения Агны, то он скоро забывает о них, верно чувствуя, что ни одна из этих версий не имеет ничего общего с настоящей причиной, о которой, она, конечно, не говорит.
* * *
Генрих Остер, член правления IG Farben был предельно краток. Раскурив сигару, он откинулся на спинку кожаного кресла, и, посмотрев на стоявшего перед ним Кельнера через облако дыма, произнес:
— Вы едете в Нюрнберг.
Харри молчал, ожидая продолжения, которое последовало после того, как Остер, отплевавшись от табачной крошки, сморщился и с яростью затушил сигару о дно большой пепельницы.
— Как вы знаете, в сентябре тысяча девятьсот тридцатого мы оказали партии большую услугу.
Кельнер согласно кивнул, уточняя:
— Пожертвования.
Указательный палец Остера повернулся в сторону блондина.
— Именно! С тех пор…
Генрих с трудом вылез из глубокого кресла, — все-таки нервная работа и неразбериха на местах давали о себе знать.
— …Мы всегда оказываем нашим друзьям различного рода услуги. Конечно, выгодные для нас. Вскоре нам предстоит заключить соглашение о поставке никеля с нашими канадскими партнерами, что позволит сэкономить валюту, тогда как остальной никель мы получаем из Англии.
Увлеченный собственными мыслями, Остер ненадолго замолчал, и, улыбнувшись чему-то, коротко и жестко рассмеялся.
— Эти идиоты даже не представляют, во что они ввязались по своей воле, Кельнер! Даже не представляют!... — он резко хлопнул в ладоши. — Но что можем сделать мы, если наши партнеры хотят с нами сотрудничать и получать деньги, правда, Харри?
— Полагаю, ничего, — ровно заметил Кельнер, не меняя положения.
— Именно! Ну а пока ведутся переговоры и готовятся необходимые бумаги…
Остер остановился напротив Харри и положил руку ему на плечо, что, по его задумке, наверняка должно было свидетельствовать о доверии, которое он оказывает сотруднику берлинского филиала «Фарбен», и этот жест мог бы стать таким, если бы Генрих не был на голову ниже Кельнера. Сообразив, наконец, что его жест в сочетании с разницей в росте выглядит скорее комично, чем доверительно, Остер поспешно убрал руку с плеча блондина, и растер ладонь о полу пиджака, стирая с нее капли пота.
— Вы едете в Нюрнберг, где завтра открывается съезд. Побудете там, разведаете обстановку, выразите, если представится случай, наше дружественное расположение партии, и вернетесь сюда. От вас после Нюрнберга я жду отчет.
Прежде чем ответить, Кельнер прочистил горло.
— Я думал, герр Остер, мы доверяем членам партии, ведь речь идет о самом фюрере.
Генрих с утешающей улыбкой посмотрел на наивного Харри, и ласково произнес:
— Конечно, мы им доверяем! И членам партии, и самому фюреру, конечно… но никогда не стоит забывать о своих интересах, правда? Вы слишком молоды для того, чтобы все понять, но я скажу вам одно, Кельнер: это все, — Остер сделал несколько шагов назад, и обвел руками воздух, — большая игра, Кельнер, большая и-г-р-а… и мы с вами будем играть по своим правилам: при удобном случае объединимся с теми, кто нам нужен, как, например, Грубер и Рем в самом начале, или… оасстанемся, как случилось совсем недавно с беднягой Эрнстом в тюрьме… — заметив, как вытянулось от удивления лицо подчиненного, Остер снова рассмеялся.
— Как, вы не знали? Ладно, скажу вам по большому секрету: Рема убил Теодор Эйке. Оно и понятно, нельзя же доверять случайному человеку столь важное дело. Но Эйке таким образом доказал свою верность, Кельнер. Он честно служит партии, выполняя трудное дело: пытаясь наставить на правильный путь предателей партии, направленных в лагерь Дахау. Кстати!
Остер взмахнул руками
— После Нюрнберга я даю вам отпуск, о котором вы спрашивали, а потом вы снова поедете в Дахау, надо кое-что… ну да ладно! Довольно пустой болтовни!
— Могу я поехать в Нюрнберг со своей супругой?
— О… — Остер сделал вид, что раздумывает над вопросом, — с вашей рыжей красавицей? Конечно, Харри, возьмите ее на праздник.
Генрих улыбнулся, довольный собой и послушным, исполнительным сотрудником. Вскинув руку вверх, он попрощался с подчиненным, наблюдая за ним до тех пор, пока дверь кабинета не скрыла от него Харри Кельнера.
* * *
Эдвард подъехал к дому и заглушил мотор «Мерседеса». Разговор с Остером разжег его тревогу только сильнее.
«С вашей рыжей красавицей?».
Не стоило об этом спрашивать, не стоило привлекать внимание, лишний раз упоминая об Элис, Эдвард понимал это. Но только так отсутствие Агны Кельнер в Берлине на протяжении пяти дней, что продлится съезд, — на котором, судя по слухам, что ему удалось узнать, будет Освальд Мосли, глава британского союза фашистов, — не вызовет ни у кого подозрений.
Ни у кого. В том числе и у жены Гиббельса, с которой, — в этом Милн был полностью согласен с Эл, — следует быть предельно осторожными.
Он столкнулся с Элис на пороге дома.
— Я услышала, как ты приехал.
— Да, я… садись! — Милн забрал у Элис небольшую дорожную сумку, взял ее за руку и повел к машине.
— Что такое? — тихо спросила Элис, смотря на Милна снизу вверх. — Мы не едем в Нюрнберг?
— Едем, конечно, едем! Прямо сейчас. Ты собрала вещи, взяла самую простую одежду, как я просил?..
—…И предупредила Кайлу, да.
— Хорошо, это… хорошо, — Милн закрыл за Эл дверь автомобиля и сел за руль.
Когда их дом в Груневальд остался далеко позади, а стрелка на спидометре «Мерседеса», летящего по загородному шоссе дошла до 120 км/ч, Элис набрала в легкие побольше воздуха, и сказала:
— Это всего лишь съезд…
— Да? — с сомнением уточнил Милн, снижая скорость.
Остановившись на обочине, он заглушил машину и повернулся к Эл.
— На этом съезде будет Мосли[ Освальд Мосли — основатель британского союза фашистов.].
— И Диана Митфорд[ Любовница Мосли.], — добавила Эл, когда Эдвард удивленно приподнял бровь. — Я слышала в модном доме.
Они молча посмотрели на друг друга, прекрасно понимая, о чем идет речь.
— Нам нужно быть осторожными, Эл.
Эшби мягко улыбнулась, глядя в обеспокоенное лицо Милна.
— Ты всегда это говоришь. И мы всегда осторожны, — Элис мягко улыбнулась, стараясь разрядить обстановку, но Милн напряженно продолжил:
— После возвращения из Нюрнберга от меня ожидают доклад. И я почти уверен, что за нами будут следить.
— Почему ты так решил? Ты что-то заметил?
— Остер вызвал меня, и говорил слишком открыто, — Милн повернул ключ в замке зажигания и перевел «Мерседес» на первую передачу, — Нацистам, говорящим откровенно, не доверяют даже их коллеги по гестапо. Поэтому, когда мы будем в Нюрнберге, я буду держать тебя за руку.
Они въехали в город рано утром, пятого сентября. И если бы не улицы, кишащие огромными яркими полотнищами свастики и черной формой бесчисленных эсесовцев, Нюрнберг можно было бы счесть еще сонным, — на часах было только начало шестого.
Не проехав и десяти метров, «Мерседес» остановился. Черный эсесовец подошел к водителю и вскинул руку вверх. Ответив ожидаемым образом, Кельнер вытащил из внутреннего кармана пиджака документы, и протянул их форменному человеку, подумав, что он, — такой вышкаленный и усердный, — наверняка говорит все те фразы, которые Харри много раз слышал до этого от поклонников фюрера: слова о том, как это важно, — хорошо выполнить данный тебе приказ. Впрочем, в этом не было ничего удивительного, ведь новый рейх, величие которого планировалось растянуть ни много, ни мало на тысячу лет, был выстроен на принципах «оскорбленной германской гордости», военной муштры и тотальной дисциплины. Мутные глаза уставились сначала на Харри, потом на Агну.
— Что вы делаете в Нюрнберге?
— Я прибыл на съезд, по поручению руководства компании «Фарбен».
— А она? — эсесовец выдвинул нижнюю челюсть вперед, очевидно этим движением желая указать на Агну.
— Моя супруга, сопровождает меня.
— Женщинам не положено быть на съезде! — отчеканила нижняя челюсть эсесовца, возвращаясь на привычное место.
— А как же жительницы Нюрнберга? Им тоже отказано в удовольствии услышать и увидеть фюрера? — спросила Агна, наклоняя голову и с улыбкой глядя на черную форму.
Глаза эсесовца сверкнули.
— Проезжайте!
Негромко хмыкнув, Агна посмотрела в окно на «Гранд-отель», мимо которого они проезжали. Им нужно было найти номер в Нюрнберге на те пять дней, что продлится съезд, но пока они только следовали от одной гостиницы до другой, раз за разом выслушивая фразы о том, что «свободных номеров нет». Элис улыбнулась, глядя на монументальное здание главного городского отеля, все комнаты в котором тоже были заняты.
Свободный номер нашелся в маленькой гостинице недалеко от центра города. Администратор Hotel am Josephplatz, построенного в 1675 году, с радостью взяла с очаровательной семейной пары тройную плату, которая обязана была соответствовать рейтингу Нюрнберга, что в дни партийного съезда вырастал до небес. Так, небольшой город, расположенный в федеральной земле Бавария, в одночасье стал самым известным и желанным среди всех немецких городов.
Хозяйка проводила пару до двери их номера, и, изломав тонкие губы в ехидной усмешке, ушла. После бессонной ночи, проведенной в дороге, «роскошная кровать с балдахином», преимущества которой Кельнерам расписала все та же услужливая дама, — подкрепив свои слова первой за этот день однозначной ухмылкой, — показалась Элис самым желанным, что только может существовать на свете.
Удобно устроившись на кровати, она наблюдала за Милном, дотошно осматривающим номер, а Эдвард, казалось, был абсолютно поглощен осмотром комнаты и ванной, — это было первым и постоянным пунктом в каком-то невидимом, одному ему известном списке дел, который он выполнял всегда, вне зависимости от своего состояния, настроения, времени суток или погоды за окном. «Осмотр номера на предмет прослушки», — так он это называл.
Стоило Харри и Агне выйти из отеля, как почти сразу же они оказались затянуты огромной толпой в общий, бурный водоворот, состоявший из взрослых и детей, мужчин и женщин, молодых и старых, — словом, всех, кто населяет любой город мира. Отличие заключалось лишь в том, что этот город в их сознании никогда не был, и не мог быть похожим на любой другой город мира. Это был Нюрнберг, — город, избранный фюрером, любимый город Грубера. Люди помнили об этом, гордились этим, и передавали друг другу одни и те же, давно уже всем известные, фразу по бесконечному кругу. Толпа кричала, пересказывая обрывки фраз, брошенные от одного ее конца к другому. Похожие на оголтелых тощих птенцов, которые ждут, когда мама принесет и разложит в их раскрытые клювы извивающихся жирных червей, люди без конца спрашивали, когда же они увидят вождя?
Было около полудня, солнце распекало многочисленные головы страждущих своими знойными, неотвязными лучами, а его все не было. Люди толпились на тротуарах, толкали друг друга локтями, в надежде занять лучшее место в первом ряду, и, одуревшие от шума и душного зноя, огрызались по сторонам грубостью и бранью.
От жары и скученности тел многим становилось плохо. Женщины обмахивались далеким подобием вееров, роль которых выполняли то какие-то буклеты, то бумажки, судорожно зажатые в руках, мужчины, кое-как отовоевав пространство, вытягивали из карманов носовые платки, облегченно утирая ими пот, бесцветными ломаными линиями бегущий по их лицам, лысым и бритым головам, затылкам и вискам.
Крепко сжав руку Агны, Харри медленно шел вперед вместе с толпой, внимательно отслеживая движение людской массы. По своему опыту, который он вывез из Марокко, Кельнер знал, что с толпой лучше не связываться, а все-таки связавшись, держаться ближе к краю, к «выходу» из нее, — на случай паники, бунта или неосторожно брошенного кем-то слова, которое может, как огонь — фитиль, спалить к чертям всю мнимую согласованность людей.
…Они были на тротуаре, в тесном втором ряду, когда «Мерседес» с открытым верхом, в котором Грубер стоял с задранной вверх рукой и с натянутой на лицо потной улыбкой, медленно проехал мимо. Приближение вождя, — как давление по барометру, — можно было точно определить по искаженным лицам людей: чем больше приближался их лидер, тем безумнее в своем слепом ажиотаже крутились по сторонам глаза, цеплялись друга за друга скрюченные, — а в следующий миг уже судорожно выпрямленные, — руки, и кричали сдавленные безотчетным восторгом, глотки. В глазах рябило от множества тел, тесно и нелепо скученных под палящим солнцем, скрюченных восторгом избранности.
Агна дышала с большим трудом. Подняв голову так высоко, как могла, она хватала ртом раскаленный воздух, и не чувствовала облегчения. Вот женщина из первого ряда, которая стоит прямо перед ней, прокричав что-то, бросает под колеса «Мерседеса», в котором едет Грубер, букет цветов. Быстрые черные эсесовцы скручивают ей руки, но увидев на брусчатке всего лишь чахлый букет, а не подозреваемую ими бомбу, теряют к фрау всякий интерес, и грубо вталкивают ее на прежнее место, перед Агной.
…Пробыв в толпе весь день, Агна и Харри медленно тянутся в сторону отеля Deutscher Hof, в котором остановился Грубер. Теперь главные празднества, — в виде речи вождя, ночного шествия под свет многочисленных факелов и живой музыки, — разворачиваются на небольшой площади перед отелем. Вождь, освещенный неровными огнями, высунулся в окно. Его слова, нервные, завывающие и припадочные, вызывают восторг толпы. Вокруг ночь, и от пламени факелов, дрожащих на ветру, она кажется еще темнее. Лица окружающих людей почти не видны. Как и днем, Харри держит Агну за руку, и иногда она сжимает его ладонь в бессловесной беседе.
Повернув голову вправо, за каким-то неясным движением, она застывает на месте. Это длится, должно быть, всего несколько секунд, но она уверена, знает, — лицо, мелькнувшее сейчас в толпе, принадлежит ее брату. Стив здесь! Агна тянет за руку Харри, жарко шепчет на ухо несколько фраз, но в общем безумии происходящего он мало понимает услышанное. Теперь она и сама сомневается в ясности того, что видела. Может быть, это только тень? Или кто-то похожий на Стива? Сердце сжалось и застучало громче, отдаваясь эхом в ушах. Да, наверное, она ошиблась.
Вот под окном, в котором трясутся руки и сальные волосы фюрера, блестит фраза, выдавленная на стене гостиницы круглыми металлическими кнопками: «Heil Hruber!».
Вся площадь перед отелем загружена людьми. Ночь и темнота приносят прохладу, но от множества человеческих тел как будто все еще несет дневным нестерпимым зноем. Оркестр бравурно рассекает ночь музыкой. Она звучит слишком громко, не давая толпе отдохнуть, помолчать, подумать или помыслить о чем-то ином, кроме того, что ей показывают. Недалеко от Кельнеров, в отсветах чадящих факелов, блестит каска дирижера. Она трясется, съезжает с его потной головы то вправо, то влево, несуразная и нелепая, как и статуя торговца, который держит в каждой руке по утке.
И если бы Элис не была так измучена длинным, навязчивым днем, она наверняка бы заметила, как все это нелепо. Потому что она всегда это замечает. И улыбнувшись, говорит об этом Эдварду. Он улыбается в ответ, а потом, в тишине и темноте спальни они много смеются над серьезностью лиц и поз, черными мундирами и спесью избранных, целуют и любят друг друга ночь напролет. Это помогает им дышать, жить и не сходить с ума.
* * *
…Многие люди идут до поля Цеппелина пешком. Гиринг, Гиллер, коротышка Гиббельс — все они рядом со фюрером, ревущим над стекающимся с разных сторон города, народом. Позже нацисты введут для обозначения людей термин «биологический материал», и станут применять его и в отношении «превосходных» эсесовцев, и тех, кого они начнут массово уничтожать.
Это наш второй день в Нюрнберге. Ты идешь рядом со мной, уставшая и жаркая от палящего солнца. Я замедляю шаг, чтобы тебе было легче, но это мало помогает. Твоя ладонь мокрая, с нее капают крупные капли пота, и я беру тебя за руку иначе, переплетая пальцы. Так надежнее. Сердце, избитое сумасшедшим ритмом, задыхается от жары. Мы продолжаем идти почти строем, в большой толпе, похожие на обезумевших фанатиков. Мы слушаем лай Грубера, стоя на поле Цеппелина. Над головой раскинуто бескрайнее, безумное в своей красоте, бирюзовое небо.
Именно на этом месте в следующем году, по проекту главного архитектора рейха, Альберта Шпеера, начнут строить трибуны для размещения «высшего руководства партии». Забравшись на специальное возвышение, Груберу станет еще удобнее сеять чернь в головах своих поклонников. А если запал иссякнет, и из вождя он вдруг превратится в смертного, то всегда сможет справить нужду в туалете, расположенном прямо за его спиной.
Практично.
Надежно.
По-немецки.
…Через много лет, когда война уже отгремит, ты увидишь в газете заметку. Не выдержав, начнешь читать вслух, дрожащим от горечи голосом: воспоминания немки о том, как ежегодные съезды партии в Нюрнберге, которые Грубер провозгласил «самым германским из всех городов», были для нее «самым главным и долгожданным праздником, таким же, как Рождество». Ты прочтешь это и заплачешь, закрывая лицо руками… за одну из них я держу тебя сейчас крепко-крепко.
Речь фюрера гремит долго, и солнце проявляет настоящую милость, уходя за крыши домов. Мы молчим, усталые и голодные, обессиленные не столько зноем, сколько дурманом трибунных речей. Я так сосредоточенно наблюдаю за происходящим, что не сразу чувствую, как мужчина в форме подходит ко мне и передает сообщение.
Меня ждут на закрытой встрече высших чинов партии с промышленниками. В этот раз моя роль усложняется, — на собрании я — один из представителей «Фарбен», а значит, если мне предоставят слово, я напомню друзьям партии, что с каждым годом, начиная с 1924-го, общие вложения американских и английских спонсоров нацистской партии становятся все внушительнее, переваливая за десятки миллиардов марок. Или сотни миллионов долларов, что, по сути, одно и то же.
Потом я расскажу, как «Фарбениндустри» снабжает рейхсвер взрывчатыми веществами, смазочными маслами и синтетическим горючим. И это только начало. Не удивительно, что по прошествии нескольких лет «Фарбен» дошла до разработки и чрезвычайно «успешного» применения «Циклона-Б» в концентрационных лагерях: разработки «чего-то похожего» ведутся уже сейчас, когда о явной войне, кроме кучки безумных кретинов, не знает еще никто. Все версальские договоренности давно нарушены, Германия готовится к новой мировой войне, спонсорами которой по своей доброй воле стали первые страны мира. И Великобритания, Эл, наша с тобой родина, тоже оказывает ей в этом громадную поддержку. Я наклоняюсь ближе, прошу тебя никуда не уходить, занудно напоминаю об осторожности, и обещаю скоро вернуться. Ты отвечаешь мне уставшим взглядом и наклоняешь голову в знак согласия. Шагая за мундиром, я оглядываюсь назад, но в плотной толпе уже не могу тебя различить.
…В «высоком» окружении время ползет и тянется. Крупп, прозванный «пушечным королем», радуется новым многомиллионным займам банка Сиднея Уорбурга, который уже имел честь встретиться с фюрером и его финансовым экспертом Хейдтом, директором банка Тиссена. Все идет как нельзя лучше, перевооружение третьего рейха набирает новые, мощные обороты, и, поздравив друг друга с этим замечательным фактом, мы, наконец-то, расходимся.
* * *
…Стоило Груберу закончить свою речь, как толпа понеслась к трибуне. Я видела, как многие плакали. Не только женщины, но и мужчины. Я всеми силами пытаюсь не поддаваться тому, что все мы слышим из уст нацистов, — круглосуточно, ежедневно, постоянно. Но иногда я с ужасом думаю, что, может быть, этот невидимый яд разъедает и мою душу?.. Людская масса сносит меня с места, тащит вперед. Ты еще не вернулся, но я стараюсь не паниковать, только теперь отчетливо понимая, что ты имел ввиду, когда говорил, что толпа может быть опасна.
Моя рука вытянута вперед и вставлена, словно трость, между двумя телами, трясущимися впереди меня. Попытки выбраться из центра толпы ничего не дают, я по-прежнему безвольно трясусь, следуя вперед.
Вот кто-то тянет меня. Словно морской волной, меня выносит вперед, только не к ногам рыбака со старой сетью в руках, а к группе людей.
Безотчетный, глубинный страх, скручивающий мое тело всякий раз, когда я встречаю Гиринга, мгновенно просыпается. Я еще не вижу, но уже чувствую его присутствие. Вот он, — в нескольких шагах от меня, смеется в компании друзей. Его змеиные глаза отдают хищным блеском, когда он замечает Агну Кельнер.
Пытаясь проглотить ком, застрявший в горле, я со страхом оглядываю окружающих его людей, и замечаю тебя. В первые секунды это кажется сном, который, наконец-то, сбылся. Все становится неважным, кажется, я не слышу даже обволакивающий голос Гиринга.
Ты все такой же: чуть выше Эдварда, легкий и громкий. Я не чувствую, как бьется мое сердце. Я только смотрю на тебя до боли в глазах, и не знаю, что говорить и что — делать. Муштра, ставшая моей привычкой за время, проведенное нами в Берлине, даёт о себе знать: я выпрямляюсь, смиряя движение, выражения лица и глаз. За каждым из нас наблюдают, и я вынуждена вести себя так, словно ничего не произошло и не происходит сейчас. Словно не было всего этого времени, и я не теряла, не искала и не отчаивалась найти тебя. Словно не было разведки, перевёрнутого германского мира и бесконечной тоски о тебе, — тоски с липкими вопросами, на которые я так и не нашла ответы: где ты?
Что случилось? Правда ли то, что о тебе говорят? Почему ты не писал мне? Почему ты молчишь?..
Сотни и сотни раз я спрашивала себя об этом, но не находила ответа, и сейчас я здесь — в стране, из которой нельзя уехать, не вызвав подозрения. В стране, власть которой следит и находит тех, кто ее не признает. Безумно хочется к тебе: пробежать то немногое расстояние, что разделяет нас, и обнять тебя крепко-крепко, прокричать, что это ты! Ты здесь, ты нашелся, Стив... Ты смотришь на меня, не отводя глаз. Пожимаешь руки рядом стоящим, но взгляд твой прикован к моему лицу. Не знаешь, что делать: улыбнуться, назвать по имени или оставаться серьезным? Мысль о моем имени действует как сигнальная вспышка, — что мне, Агне Кельнер, делать, если сейчас ты назовешь меня «Элис»?.. Я вскидываю руку вверх, и сознание прожигает стыд.
Невероятно, нелепо, невозможно, чтобы мы с тобой наконец-то встретились, и — так, вынужденные играть в абсурдную, ужасную игру. Меня называют Агной Кельнер, и твои брови поднимаются вверх. Но как бы сильно ты ни был удивлен, ты молчишь о моем настоящем имени, хотя вопрос едва не срывается с твоих губ. Пожимая мою руку чуть дольше обычного, ты сжимаешь кончики пальцев, как всегда делал в нашем детстве, желая приободрить меня. Я чуть-чуть улыбаюсь в ответ: явная радость, как и явная грусть здесь вызывают вопросы, ответы на которые выбивает гестапо, а это, как сам понимаешь…
Окружающий разговор, может быть, от моего внезапного присутствия, быстро сворачивается, подобный закрытому на замок сундуку. Изображая любезный интерес, ты вызываешься проводить меня, «чтобы с фройляйн ничего не случилось». Я мысленно поправляю тебя, — это обращение ко мне уже не относится, и впервые за все время нашей встречи, я вспоминаю, что об этой перемене в моей жизни ты тоже пока ничего не знаешь. Как и не знаешь о том, кто мой муж.
Восторг и нетерпение душат меня, я едва удерживаю себя на месте, мысленно умоляя, чтобы вся эта официозная чушь поскорее завершилась, и мы смогли бы поговорить наедине.
Мы идем с тобой к выходу с поля. Вокруг нас толпы людей, но от радости кажется, что у меня выросли крылья, и теперь я почти бегу, быстро иду впереди тебя, тяну тебя за руку. Несмотря на разницу в росте и силе, мне это неплохо удается, я не вижу твоего лица, но знаю наверняка, что ты улыбаешься.
Вытянув тебя с поля, я шагаю дальше, замечаю небольшой проход между домами, и тяну тебя туда. Может быть, это не самое удачное место для разговора, но времени нет, мне некогда ждать. Прислонившись спиной к кирпичной стене дома, я первые секунды молчу, и не могу унять улыбку, которая становится то тише, то громче. Но стоило тебе сказать «Ли́са», как я бросаюсь к тебе, обнимаю тебя изо всех сил.
Слезы бегут по щекам, сначала я смахиваю капли рукой, но потом их становится так много, что я перестаю заботиться о том, как выгляжу. Слезы пропитывают твою рубашку и пальто. Легкое, бежевое, оно тебе очень идет.
По привычке, взятой в модном доме, я провожу рукой по отвороту, наслаждаясь текстурой ткани. Ты смотришь на меня сверху вниз, улыбаешься и обнимаешь. Прижавшись к твоей груди, я слышу густой ритм твоего сердца. Наконец, неуклюже вытерев слезы, я заваливаю тебя вопросами: где ты был и почему не писал? Где ты живешь и откуда приехал? Навещал ли ты тетю? И правда ли… правда ли то, что о тебе болтают? Та история с компаньоном папы?.. Сейчас мне странно, что тогда я упустила самый главный вопрос: как ты оказался сегодня в Нюрнберге, в окружении нацистов? Но он не приходит мне на ум, я тороплюсь, волнуюсь, и отдаленно помню, что Эдвард уже может искать меня… Эдвард!
— Стив, ты еще не знаешь главного!
Ты аккуратно снимаешь мою руку со своего плеча и отпускаешь ее.
— Ли́са, мне нужно идти, мало времени. Поговорим потом, ладно?
— «Потом»?! Но когда?! Я не видела тебя так долго, ничего о тебе не знала, думала, что ты… что ты умер! А ты говоришь «потом»?
Ты долго смотришь на меня и молчишь. Наконец, произносишь:
— Хорошо. Ресторан «Гранд-отеля», сегодня, в восемь.
Я киваю и улыбаюсь.
— До встречи, Элисон.
— До встречи… Стив.
Ты уходишь, но пройдя несколько шагов, останавливаешься, и, оглянувшись на меня, задумчиво спрашиваешь:
— Кстати, а что ты сделала со своими акциями? Продала?
Я отрицательно качаю головой:
— Нет, нет! Они мои, они у меня! Это же компания папы, я не могу…
— Ладно, тогда до встречи.
Ты уходишь, а я долго смотрю тебе вслед, и ухожу только тогда, когда ты скрываешься из виду. Уже спокойнее, я возвращаюсь на поле Цеппелина. Оно почти безлюдно, и я сразу замечаю Эда. Остановившись в центре и прикрыв глаза ребром ладони, они оглядывается по сторонам. Заметив меня, машет рукой и спешит навстречу. Я тоже бегу к нему, и не слышу его первых фраз. Он проводит руками по моим плечам, улыбается и снова, — как и все эти дни в Нюрнберге, — берет меня за руку. Как и тебя, от нетерпения я тяну его за руку, выбегая вперед. Он что-то говорит, смеётся и нарочно замедляет мой шаг, притягивая меня к себе. Я тороплюсь, — не хочу начинать наш разговор на ходу, и радуюсь, что до «Мерседеса» остаётся совсем чуть-чуть.
Когда мы подходим к машине, Эд нарочито медленно открывает для меня дверь, веселясь моему нетерпению, от которого я едва не танцую на месте.
И когда он, наконец, садиться за руль и заводит мотор, я говорю ему, что нашла тебя!
* * *
— Стив здесь? — Эдвард с сомнением посмотрел на Элисон. — Ты уверена?
— Да! Как ты можешь мне не верить?! Я говорила с ним, видела его так же близко, как сейчас вижу тебя. Мы договорились встретиться сегодня в ресторане «Гранд-отеля», в восемь. Ты не рад?
Эдвард долго молчал, как будто сверяясь с чем-то, а потом сказал:
— Я верю, но… не знаю, Агна. Тебе не кажется это странным?
Он перевел взгляд сначала на сосредоточенный профиль Элис, по которому без всяких слов было понятно, что в появлении Стива она не видит ничего необычного, а потом на вид за стеклом. Поле Цеппелина совершенно опустело, и больше не производило того всепоглощающего впечатления, которое возникло у Эдварда в первые минуты груберовской речи. С неба накрапывал уютный мелкий дождь, и звук падающих капель напоминал помехи и шуршание, какие бывают, когда ставишь иголку граммофона на пластинку. Еще секунда, треск блестящего диска стихнет, и вокруг зазвучит, разливаясь, музыка… Отстучав на рулевом колесе мотив, Милн повернулся к Элис.
— Что он еще сказал? Может, что-то необычное?
— «Необычное»? Ты серьезно?
— Ну, или…
— Не смей! — Элис резко повернулась к Эдварду, и теперь он четко видел ее лицо. — Не смей, слышишь?! Я… — дыхание сбилось, вынуждая Эл на миг остановиться. — Я искала его, я думала, что он умер! Потом я думала, что он — убийца, я… так его ждала!
И сейчас ты, — она с возмущением посмотрела на Милна, — пытаешься сказать мне, что в его появлении есть что-то странное?!
В глазах Эл задрожали слезы. Одним резким движением она смахнула их с лица.
— Агна, подумай сама: он появился здесь, в Нюрнберге, на съезде, в окружении первых нацистов… это, по-твоему, не удивительно?
Эдвард посмотрел на Элис, и при виде ее слез, его внимательный, жесткий взгляд стал мягче. Он продолжил, но уже тише:
— Ты только что сказала, что он вел себя как обычно, и не выглядел шокированным, стоя рядом с Гирингом. Значит, он знаком с ним? Значит…
— Нет-нет-нет! — Элис закрыла руками уши, отказываясь слушать Милна. — Это нельзя, понимаешь? Это невозможно! Ты даже не спросил, как он, и все ли с ним в порядке! В чем ты обвиняешь его?!
Элис замерла, ожидая ответа, и в упор глядя на Милна.
— Ни в чем, Агна. Я лишь пытаюсь понять, что происходит. Потому что… — Эдвард набрал в легкие побольше воздуха, и произнес на выдохе, —… мы ничего не знаем о Стиве.
— Но он твой друг! Ты сам говорил, что он — твой друг!
— Да. Был. Но я ничего не знаю о нем уже десять лет, Агна! Десять! Где он был? Чем занимался? Зачем он здесь, да еще и в том кругу, в который, как ты знаешь не хуже меня, проникнуть просто так невозможно? А Мосли? Мосли здесь, Агна! Глава британского союза фашистов — здесь, и Стив — здесь! Это тебя не удивляет?
С силой стукнув по рулю, Эдвард отвернулся, рассматривая невидящим взглядом дождевые капли, бегущие вниз по стеклу. Повисла долгая тишина.
—…Ты думаешь, он — такой, как они, да?
Голос Эл сорвался и стих. Она резко покачала головой, и прошептала:
— Ты просто завидуешь ему.
— Что? — пораженно протянул Милн, снова поворачиваясь к ней. — Завидую? Я?
— Да, ты!
Элис выпрямила спину, и села на край сидения, сложив руки на коленях.
— Завидуешь, что он свободен, и ему не надо сверяться с глупыми шифровками, составленными по прихоти идиота-начальника! Ему не надо прятаться, ему не надо жить чужой жизнью! Он может уехать отсюда, когда захочет, а ты останешься здесь и будешь бояться дальше!
Эдвард в упор посмотрел на Элисон, и глухо, с расстановкой, спросил:
— И чего же, по-твоему, я боюсь?
— Своего прошлого! Настолько, что ничего не говоришь! Тебе интересно, чем он занимался? — Элис высоко подняла голову. — А чем занимался ты? Или ты лучше него? Герой? Кто ты такой, чтобы судить моего брата и обвинять его в связи с нацистами?
Эдвард громко сглотнул, тряхнул головой, провел рукой по белым волосам, и, вытащив из внутреннего кармана пиджака фляжку, открутил крышку, жадно припадая к горлышку. Протяжные, тяжелые глотки заполнили своим звуком гнетущую тишину.
— Да, конечно, самое время выпить!
Элис поморщилась, глядя на Милна. Выпив все до последней капли, Эдвард внимательно посмотрел на Эл, и глаза его заблестели. Он медленно опустил фляжку, наклонился вплотную к Эшби и прошептал:
— Я занимался войной, Агна Кельнер. Мне было восемнадцать, — совсем, как тебе, когда мы приехали сюда. Я был в Марокко, убивал местных. Я не рубил им головы, Элисон Эшби, и не фотографировался с ними на камеру, как другие, но я их убивал. Много!.. Эдвард приподнял лицо Элис за подбородок, и, несмотря на ее сопротивление, повернул к себе.
— Тела тех, с кем я воевал в одном окопе, гнили на жарком солнце, Эл. Однажды я попал в окружение. Рифы, — марокканцы — были повсюду.
Кружили вокруг нас, как стервятники, хотя сами тоже были полудохлыми. Они защищались, защищали свою землю от нас. Я тогда пробыл трое суток без воды и почти сдох. Помнишь, ты спрашивала однажды ночью, занимаясь со мной любовью, что это за следы у меня на груди? Спрашивала?
Голос Милна стал мягким и вкрадчивым, и Элис, глядя на него огромными от изумления глазами, только молча кивнула.
— Я сам расцарапал свою чертову кожу, когда подыхал на песке. Поэтому…— Эдвард с улыбкой похлопал себя по карману, в котором была фляжка,— я пью, Эл. Воду.
Глаза Милна заблестели еще сильнее, и он тихо, жутко рассмеялся.
— Желаете еще чего-нибудь, мадам?
Вздрогнув, Элис со страхом посмотрела на Эдварда, и отбросила его руку от своего лица.
— Не приходи сегодня в ресторан.
Со стороны Эдварда послышался тихий, страшный смех.
— Хочешь убежать со Стивом? Думаешь, он возьмет тебя с собой?
— Да, хочу! И да, возьмет!
— Посмотрим, как вы уедете вместе, если даже сейчас он бросил тебя здесь, и не подумал спросить, как ты, и нужна ли тебе помощь.
— Эд…
— А вот про акции он помнит.
Не глядя на взволнованное лицо Эл, Милн завел автомобиль, и тихо пропел:
— Tu m'oublieras bien vite et pourtant
Mon cœur est tout chaviré en te quittant!
Je peux te dire qu'avec ton sourire
Tu m'as pris l'âme…(1)
* * *
Эдвард переоделся и уехал из отеля, в котором они остановились, около шести вечера. После разговора в машине, Эл и Эд больше не сказали друг другу ни слова.
Элис, которая в это время только начала готовиться к встрече со Стивом, вдруг поняла, что она действительно едет в «Гранд-отель» одна. Раздражение на Эдварда за то, что он отказался ее понять, и острая боль, возникшая в сердце в тот момент, когда он говорил о Марокко, не оставляли ее в покое, и она никак не могла успокоиться. Закрыв глаза, Элис сделала глубокий вдох, стараясь привести мысли в порядок. Но перед глазами снова и снова возникало лицо Эдварда, искажённое горечью и болью.
«Мне было восемнадцать… я убивал их, много! Я подыхал на песке, я сам расцарапал свою чертову кожу!». Она очень хорошо знала эти шрамы на груди Эда. Но на ее вопросы о них он никогда прежде не отвечал, — только молчал, курил или переводил разговор на другую тему. И вот, теперь она знает… Элис села на кровать, свесив руки вниз, как плети. Зачем она сказала, что уедет со Стивом? Он ведь даже об этом не говорил. И что теперь делать? Выезд из Германии стал сложным, почти невозможным. И Элис прекрасно знала, что даже за эмигрантами, покинувшими страну, — вне зависимости от давности отъезда, — гестапо ведёт постоянную слежку. Она чувствовала, что Эдвард прав. И понимала, что никуда не уедет, не сможет бросить его. Эл посмотрела на себя в зеркало. Разве она может? После всего? Боль снова стянулась в груди в один тяжелый ком.
Нет! Не может. Но как быть со Стивом?.. Он наверняка спросит ее об Агне Кельнер. И что она скажет? «Я пошла в разведку, чтобы найти тебя. Кстати, я замужем за твоим другом»? Какая глупость! Поглощенная своими мыслями и переживаниями, Элис, казалось, совершенно забыла о встрече. Снова и снова она прокручивала в голове все возможные варианты, но так и не находила ответы. Что теперь делать? Она так переживала из-за Стива, так мечтала его найти, и совсем не подумала о том, что будет после того, как она его найдет! Элис горько усмехнулась, скользя взглядом по комнате.
Время шло, маленькие позолоченные часы пробили половину восьмого, и она вздрогнула от их звенящего боя, мгновенно вываливаясь из омута тревожных мыслей. Быстро натянув чёрное платье с высоким воротом, Эл бросила взгляд в зеркало, и выбежала на улицу, дробно постукивая каблуками туфель.
На ее удачу, одно из такси, стоявших возле отеля, было свободно, и водитель, с ухмылкой взглянув на взволнованную фрау, согласился отвезти ее по нужному адресу, выставив при этом двойную цену.
...Элис вбежала в ресторан и остановилась, чтобы перевести дыхание. Осмотрев беглым, острым взглядом посетителей, она заметила Стива за угловым столиком, и почти побежала к нему.
— Стив?
Стивен Эшби вздрогнул и резко повернулся, едва не ударив ее рукой. Эл удивленно посмотрела на брата, но промолчала.
— С тобой все хорошо? — спросила она, усаживаясь на стул.
— Более чем! — брат посмотрел на нее и рассмеялся. — Боже мой, да ты хорошенькая! Стив вплотную приблизил свое лицо к лицу сестры.
— Прости, ошибся! Ты красивая, сестра, очень!
— Спасибо… — с сомнением протянула Эл, глядя на него. — Что это?
Она поднесла салфетку к лицу Стива и смахнула остатки белого порошка с его верхней губы.
— Ему понравится, ему понравится!... Кстати, как ты? А наши акции? Давно здесь, в Германии, в Нюрнберге? Красиво здесь, правда?
Стив сыпал вопросами, поправляя то волосы, то ворот черной, наглухо застегнутой у горла рубашки. Его светло-карие глаза светились неестественным блеском. Ловко подхватив столовый нож, он поднес его к своей руке, и медленно провел по коже острым лезвием.
Выступившая кровь вызвала у него восторг, и он посмотрел на Элис.
— Правда красиво?
При виде раны Эл застыла на месте, не зная, что ей делать, и медленно выпрямилась, украдкой оглядывая зал.
— Стив, что происходит? Тебе нужна помощь?
Девушка положила руку ему на плечо, и вскрикнула от резкой боли, когда он с силой сжал ее выше локтя.
— Да, помощь нужна, Элисон! Нужна!.. Стой!
Стивен безумно посмотрел на нее.
— Ты же здесь не Элисон, правда? Ты… кто ты? А-а-а… как тебя назвал Херманн-Герман?.. Как?
Боль в руке становилась все сильнее, — Стив выворачивал ее, но выглядел так, как будто ничего не происходит. Элис, — как можно спокойнее, стараясь не привлекать ненужного внимания, — прошептала:
— Не з-здесь… Стив, мне больно!
— Точно, да! Да, ты права!
Стивен резко оттолкнул Элис, поднялся со стула, и пошел вперед, не оглядываясь на сестру. Казалось, Эшби и вовсе про нее забыл, но стоило им пересечь холл отеля и выйти через заднюю дверь в темный, пустой переулок, как он сказал:
— Прости, Лиса, прости! Сам не знаю, что на меня нашло! Я так долго тебя не видел, столько произошло…
— Что с тобой?
Элис старалась говорить спокойно, но никак не могла унять дрожь. Во всем происходящем было что-то скверное, но она никак не могла понять, что именно.
— Мне нужны деньги, Элисон! — Эшби с отчаяньем посмотрел на сестру и вцепился руками в свои волосы. — Много, много денег!
— Всего лишь, Стив? — облегченно выдохнула Элис, подтверждая улыбкой, что это ерунда.
— Много денег! Иначе…
Внутренний голос умолял Элис не подходить к брату, но она все-таки прошла несколько шагов, и осторожно обняла его.
— Я дам тебе деньги, только объясни, что случилось?
Вместо ответа Стив опустил глаза, рассматривая бледное лицо сестры, и поцеловал ее в губы. Сбитая с толку, она не сразу смогла оттолкнуть его от себя, но когда это получилось, Элис размахнулась, оставляя на щеке Эшби тяжелую, звонкую пощечину.
Он рассмеялся и, схватив ее, крепко обнял.
— О да… ты ему понравишься! Освальд любит темперамент, Элисон. Его сексуальные пристрастия несколько специфичны, но…
Он развернул ее спиной к себе, зажимая голову Элис локтем. Из ее горла вылетели сдавленные хрипы. Обезумевшие зеленые глаза Эл дико осматривались по сторонам в поисках помощи.
—…Это ничего, ты привыкнешь. Он даже трахает своих сестер, Элисон! Потому что все можно! Но… — Стив резко перешел на шепот, — Британия — прежде всего![ Лозунг британского союза фашистов.] Не надейся, что ради тебя он забудет самое главное, — свой долг!
— Ты… ты… не мой б-ра-а-а..т! — голос Эл, сбившись на хрип, был едва слышен.
— А давай спросим у Эдварда Милна?
Все также крепко удерживая Элис, Стив достал пистолет, взвел курок, приставил его к виску сёстры и сказал в темноту переулка:
— Эдвард-Эдвард, вы-хо-ди! Я вижу тебя, мой лучший друг! Довольно прятаться, пора нам встретиться!
Послышался неясный шорох, и в круг мутного уличного света выступил Эдвард. Он шел очень медленно, едва слышно, сжав «Вальтер» в правой руке. Прищурив глаза, Милн попытался сосредоточиться на фигуре Стива, но не удержался и посмотрел на Элис, встречаясь взглядом с огромными зелеными глазами, неотрывно следящими за ним.
— Браво, Харри Кельнер! Пришел снова спасать свою Агну?
Стив затрясся от смеха, безумно глядя на него.
— Дружище, ты видел? Я ее поцеловал! Кто бы мог подумать, что моя сестра станет такой красоткой, правда? Помнишь ее веснушки? Все лицо было в них, просто…
Эшби издал отвратительный горловой звук, и сплюнул на землю.
В секундной тишине стало слышно, как плачет Элис.
— Нет-нет-нет, не плачь, сестренка! Ну, что такое?
Стив посмотрел на Элис, поправляя ее выбившиеся из прически волосы.
— Ты правда думала, я ничего не знаю? Думала, «Стив пропал!» и — все? Нет, я жив, я ждал подходящего момента, и мне нужны твои деньги.
— Я о-о-о-от…
— Конечно отдашь! Только сначала я заберу тебя с собой, чтобы ты переписала свою долю папашиных акций на меня. Это много денег, Эл, очень много! Тебе они ни к чему, а нам они очень нужны. Не можем же мы вечно просить деньги у Муссолини! Да и надоело ездить каждый год в Италию.
— Стив, — позвал Эдвард, — отпусти Элис.
— А «что мне за это будет», друг? Помнишь такую детскую игру?
Эдвард кивнул.
— Деньги.
— Хорошо, договорились!
Ни Элис, ни Эдвард не поверили в это, но Стив действительно ее отпустил, толкнув вперед. Эл упала на колени перед Эдвардом. Милн посмотрел на нее, перевел взгляд на Стива, застывшего в нелепой позе, — со взведенным пистолетом в руке. Эдвард наклонился к Эл, помогая ей подняться, и крепко удерживая под руку. Она быстро взглянула на него, растягивая разбитые губы в подобии улыбки, от которой Милну стало не по себе: кровь смешалась со слюной, и когда Эл попыталась улыбнуться, на зубах показалась розовая пена. Ее сильно повело в сторону, и она удержалась на ногах только благодаря Эдварду.
— Про… прости…
Он хотел что-то ответить, но его прервал крик Стива.
— А знаете, я ошибся! — Стивен посмотрел на них. — Элисон, иди сюда, я рано тебя отпустил!
Эшби уставился на сестру, уверенный, что она вернется к нему.
— Иди к черту, Стив! Я никуда с тобой не пойду!
— Может быть, Лиса, но… мне нужны деньги. Вернись сюда!
Голос Стива зазвучал истерично, он топнул ногой. — Сюда!
— Стив, успокойся, — повысив голос, сказал Эдвард.
Эшби засмеялся, наклоняясь вперед.
— Вы очень смешные, разведчики «Ми-6»! Так уверены в себе, так… но что я вам скажу? А, вот! Мне, — пистолет в руках Стива начал переходить с Элис на Эдварда, и обратно, — нужны деньги! Лиса! Ты идешь со мной, иначе…
Дуло зауэра, сжатого дрожащей рукой Стивена, сдвинулось, прицеливаясь к груди Милна.
— А ты, «Кельнер», положи пистолет на землю.
Милн сделал так, как сказал Эшби. Вальтер стукнулся о брусчатку, и Эдвард выпрямился, глядя на Стива, и пытаясь увести Эл за свою спину.
— Не надо!
Элис дернулась вперед, и вырвавшись из рук Эдварда, шагнула к брату.
— Умница!
Эшби улыбнулся и положил руку, в которой был зажат пистолет, на плечи сестры. Они прошли пару шагов, когда Эл оглянулась на Эдварда. Его пистолет по-прежнему лежал на земле, — зауер в любой момент мог ранить Элис, и Милн с диким отчаянием смотрел на нее. Он наклонился, чтобы поднять вальтер, но Эшби, проследивший за взглядом Эл, усмехнулся. В его глазах зажглась какая-то мысль.
— А знаешь… — зашептал он, поворачиваясь лицом к Эдварду, и поворачивая вслед за собой Эл, — … я все-таки убью его, он перестал мне нравиться.
Стив убрал руку с плеч Элис, и снова навел пистолет на Милна. Времени не осталось. Даже самое короткое слово не остановит пулю. И значит, время терять нельзя. Элис толкнула руку Стива и побежала к Эдварду. Схватив Милна за запястье, она развернулась и закрыла его собой. Пуля зауэра прошила воздух в миллиметре от предплечья Милна, оцарапывая щеку Эл. На втором выстреле пистолет дал осечку, но Элис хватило пары секунд замешательства Стива для того, чтобы поднять вальтер быстрее Эдварда, и выстрелить в брата. Пуля вошла в грудь Эшби. Он покачался, неуверенно переступил ногами, и медленно осел на землю. Из правого угла рта густой строчкой медленно потекла кровь. Эдвард и Элис ошеломленно смотрели друг на друга. За исключением разбитых губ Эл, и царапины на ее щеке, с ними все было в порядке. А вот Стивену Эшби повезло меньше: он умирал, повалившись на холодную землю «главного немецкого города».
Эдвард присел рядом с ним, пытаясь проверить пульс. А Элис, прижав ладони к искажённому лицу, опустилась на колени рядом с братом. Ее плечи затряслись от беззвучных рыданий. Собрав последние силы, Стив посмотрел на нее, и прохрипел:
— Мы по… бедим…
После этих слов он сделал ещё один вдох, и умер, остановив взгляд замерших, только что живых глаз, на чёрном небе, раскинутым надо всем миром.
Эл упала на его грудь и заплакала. Боль, скрутив ее, вырвала из груди страшный, отчаянный вой.
— Пойдем…
Эдвард обнял ее за плечи.
— Нет, нельзя… я… по-хо… по-хо...
Белая голова отрицательно закачалась, похожая на метроном.
— Мы не можем его похоронить, Эл. Нужно оставить его здесь.
Она посмотрела в сторону Милна. От слез его фигура снова, — как тогда, в первую их ночь после приезда в Берлин, — стала ужасно размытой.
— Он замерзнет… у-у-уже холодно ночью…
Эл больше не могла говорить, но продолжала сидеть рядом с братом, осматривая пулевое ранение, а потом, — если поднять взгляд — лицо. Замершее, мертвое, уже холодное. Она наклонилась ближе, чтобы поцеловать Стивена в щеку, но ее губы сжались, затряслись, и девушка смогла только провести рукой по его темным волосам и отвороту пальто, которым она любовалась сегодня утром. Судорога снова скрутила Эл, превращая ее тело в комок. Она сжалась на земле, рядом со Стивом, и закрыла лицо руками. Больше ждать было нельзя, их могли увидеть в любой момент. Эдвард поднял свой вальтер с земли, убрал пистолет в кобуру, и, снова наклонившись над Эл, взял ее на руки. Она уже не сопротивлялась, и не останавливала его. Руки Элис, которые Эдвард завел за свою шею, прежде чем оторвать ее от холодной земли, безвольно скользнули вниз, ссыпаясь, подобно сломанным веткам, между ними. Она тяжело дышала, раскрыв разбитые губы, а частые, недолгие судороги по-прежнему скручивали ее тело.
…Милн шел по аллее Нюрнберга, в конце которой был припаркован «Мерседес», когда Эл, сжав ткань его рубашки в комок, с силой потянула вниз, приближая его голову к своей. Он оглянулся по сторонам, но этим поздним вечером в парке уже никого не было. Тогда, подойдя к скамье, Эдвард аккуратно сел, бережно удерживая Элис на руках.
Она скорее почувствовала, нежели поняла, что он остановился. Сжавшись, Элис судорожно обняла Эдварда, спрятав руки под его пиджак. Тепло его кожи, согревающее ее через тонкую ткань рубашки, действовало успокаивающе. На несколько минут Эл затихла, прижавшись ухом к груди Эдварда. Его сердце, которое сначала стучало быстро и дробно, замедлилось. Пульс стал размереннее и тише. Элис долго не размыкала рук, а Эдвард не смел пошевелиться, — только обнимал ее за спину и плечи, слушая, как медленно, очень медленно стихают обороты судорог в ее теле. Без них прошло целых пять минут, когда Элис резко села, посмотрела перед собой во тьму, и монотонно сказала:
— Я убила своего брата.
Она перевела взгляд на Милна, и долго смотрела в его заостренное от волнений, лицо. Затем нежно провела пальцами по щеке. Судорожный глубокий выдох вырвался из его груди. Элис серьезно посмотрела на Эдварда и спросила:
— Пойдем?
Милн неуверенно кивнул, внимательно наблюдая за ней.
…Забрав из отеля Нюрнберга те немногие вещи, которые у них были, Харри и Агна выехали в Берлин. Самые темные ночные часы они провели в дороге. Никто из них не спал, никто не сказал ни слова. На рассвете они остановились у своего дома в Груневальд, и долго сидели в машине, в лучах восходящего солнца. Оно щедро посыпало золотом все, к чему прикасалось. Оно видело все, и все знало. Мудрое и наивное, вечное и золотое, оно освещало мир с истока времен. Оно светило и сейчас, — далеким и длинным лучом, — двум дальним, маленьким людям, медленно бредущим к дому с синей крышей. Одному из них предстояло собраться заново, а другому — помочь собраться тому, кого он любил. Сердце одного было сломано, сердце другого — уже однажды собрано заново. И если первый из них не молился ни о чем, то второй впервые за очень долгое время, прошедшее с того дня, когда он просил невидимого бога помочь Элисон Эшби, недавно ставшей сиротой, обратился с горячей молитвой к небу. Он просил о помощи, и о том, чтобы у них хватило сил.
1) Вы забудете меня в ближайшее время,
Мое сердце перевернулось, оставив вас!
Я могу вам сказать с улыбкой,
Что вы взяли мою душу… Строчки из песни «Париж, я люблю тебя!» в исполнении Мориса Шевалье.






|
Anna Schneiderавтор
|
|
|
h_charrington
Показать полностью
Часть 1. Здравствуйте! Если узнавая историю отношений Ханны и Харри, я еще порой испытывала к ней сочувствие, то поступок Ханны в предыдущей главе, когда она прилюдно начала бить Эл по ее бездетности, напрочь перечеркнул всякое мало-мальски доброе (?) чувство к ней. Знаете, у меня никогда не было очарования Ханной. Даже тогда, когда я была в начале работы над текстом, и было несколько вариантов для нее, и иногда я сама не понимала: а куда ее заведет? Многие, читая, отмечают именно тот момент сочувствия: вот же, Ханна протянула платок. Да. Но... так много этих "но" и до, и после платка! И внутренне у меня это ощущение преграды не проходило в отношении Ланг. Потому что она не просто ревнует (с кем не бывало?), она готова уничтожить Агну. Все вывернуть, все извратить, изгадить, подменить. Она надрывно орет Харри о том, что любит его, но это не так. Может, в ее понимании это и "любовь"... но истинная любовь, даже не получая ответа и сгорая в безумстве и горечи, не допустит зла в отношении того, кого любят. И той, "другой", которую, в этом случае, любит сам Кельнер. Вот эта душевная низость, развращенность и распущенность, грязь, выросшая на крови и пропаганде с трибун о "расе господ"... Это так омерзительно. Это останавливает меня от всякого сочувствия к Ханне. Хотя, да, — она подала платок. И тем ужаснее то, что сделалось (по ее собственному допущению, в первую очередь) с ее же душой. Она способна чувствовать. И чувствовать глубоко. И, думаю, была способна на любовь. А вышло это все вот такой мерзостью. Это уже далеко за границами ревности и зависти. Это мнение о том, что Ханне все можно. И она, чем дальше, тем больше это видно, может не остановиться ни перед чем. Собственно, о Кельнере, которого, по ее словам, она так любит, Ланг думает меньше всего. И эта беспринципная вседозволенность, как черта времени, очень пугает. Сама выбрала встать на колени, приветствуя то ли идола-фюрера, то ли идола-возлюбленного, которым обоим, как оказалось, нет до нее дела. А она и себя в грязи изваляла, и своего жениха, и там, где она надеялась выказать почтение и раболепное служение, попросту вскрылся позор и вся ее низость. Но Эл верно говорит после приступа смеха: страшно. Страшно это все. Вот мы видели ужасы Хрустальной ночи, а что в это время происходит с "благонадежными" гражданами? Они сами себя изваляли в грязи. Во всех тех случаях, когда они позволяют себе судить о представителях других наций как о второсортных, когда превозносят свою "арийскую" расу, когда морщат носы, что беспорядки заставили их изменить маршрут до работы, когда сетуют, что не могут больше закупать ткани по выгодной цене, когда утопают в роскоши, награбленной у тысяч обездоленных людей и выбирают - изо дня в день - не замечать кошмара вокруг. Поэтому фигура Ханны в финале свадьбы вся исполнена символизма. В Ханне, очевидно, собраны все те немки, которые "понятия не имели, что происходит", ну как же, и искренне радовались переменам в жизни. Но при этом нам вовремя напоминают, что Ханна, между прочим так, работает в концлагере. Она даже не может в полной мере быть той, которая "ничего не видит, ничего не слышит". Она никак не "жертва режима", а его прямое орудие. Как вы правы! Я согласна с Элис: это безумно страшно. Наблюдать все это, быть внутри такого "общества". А сколько копий сломано о тезисы "как немцы, такая просвещенная нация, дошли до такого"? Вопрос открыт. У нас И СЕЙЧАС нет ответа. Поразительно и то, что война, вроде как, окончилась, а никто ни за что не ответил. Меня беспредельно изумляет то, что эти твари рукопожатны в мире! Я просто не нахожу для этого слов. И они нам говорят о культуре? Знаем мы вашу культуру с примесью "Циклона-Б". Это не перестает меня поражать. И все эти фразы про "не знали", "нас использовали"... такая ересь! Кого они хотят обмануть? Рекомендуют себя немецким качество и "порядком"? Ну так и в лагерях был порядок: печи работали, "люди" ходили на работу, зондеркоманды исправно, каждый день, исполняли свои "обязанности"... Я в такой растерянности. Это как дверь в ад. Начинаешь думать об этом, и не можешь ни понять, ни осмыслить. Ну как такое было возможно? И, что не менее важно, как "потом" все стало внешне опять нормально, без лагерей? Я не думала над тем, является ли Ханна каким-то собирательным образом. Она так рвалась в текст, она не ушла даже тогда, когда я думала, что история будет с ней прощаться. Она смогла вытянуть до конца. И никакая она, конечно, не жертва. Она тварь. Красивая на лицо, абсолютно безжалостная ко всему человеческому. Не только к Агне, как к "сопернице", но к самому средоточию морали и человечности. И я даже думать не хочу о том, что Ханну сделало такой. Да, ее жизнь счастливой не назовешь. Но она сама, как и каждый из ее единомышленников, свернула на эту дорогу. И таким — память, чтобы помнить, и вечный, вечный позор и презрение. И сейчас я думаю еще и о том, что, имей она власть над Харри, она бы и перед прямым издевательством над ним не остановилась. Сломать душу человека, низвести его до состоянию твари, — это ее сторона. Ни о какой любви речи здесь нет. Но мысли о том, как "люди" могли жить и "не знать", меня не оставляют. Невозможно было не знать. Но "не знать" было удобно. Или они просто, тупо, выбрали то, на что им указали. И завыли только тогда, когда германские города стали рушится под ударами с воздуха. А бравый Геринг со своим "Люфтваффе" ничего не смог сделать. Они были уверены в своей силе, в своей победе (как будто кто-то на них нападал) и просто встали на сторону "сильного". А потом, к маю 1945-го завыли. И стояли в очереди за супом, который им раздавали на полевых кухнях наши, советские люди, наши солдаты. 1 |
|
|
Anna Schneiderавтор
|
|
|
h_charrington
Показать полностью
Часть 2. Надрывная надежда Эл и Эда найти Кайлу, Дану и Мариуса рвала сердце. Рассудок отметает всякий шанс, что даже если они живы, то их можно найти, но дело в том, что если прекратить поиски, это будет ведь как предательство. Надо искать, потому что так велит совесть. Надо не опускать рук, потому что иначе никак. Иначе чем они будут отличаться от тех, чья жизнь вошла в свою колею, как будто и не было ночных погромов, убийств и насилий? Да. Искать негде, и, кажется, бесполезно. А не искать — еще страшнее. Потому что это может значить ровно то, о чем писала Эл в своих "записках" к Стиву, в самом начале: она, Элис, стала как они. А это — все. Крышка гроба. Без преувеличений и пафоса. И дальше идти некуда. Вот это — самое страшное. Не смерть в войне, от руки нациста, а это предательство и переход на их сторону. Неужели это правда Кайла? Вряд ли Элис бы настолько размечталась, да еще в такой тревожный момент, под глазом Зофта, чтобы нафантазирвоать себе воплощение мечты. Кайла жива... а что ее ребенок? А муж?.. Дай Бог, их встрече ничто не помешает! Не люблю забегать вперед, но да, это правда Кайла. И я безумно рада, что линии этих, таких важных в "Черном солнце" героев, не оборвались в погромах. Агне в этих главах приходилось худо, но с каким достоинством она выстояла! И перед шакальими укусами Ханны, и перед тигриными ухватами Зофта. Им даже известно про Стивена... вот это страшно. Потому что проблема не в том, как упорно Эл и Эду удастся держать лицо на их вопросы что с подвохом, что в лоб, а в том, что в Третьем Рейхе не работает призумция невиновности, и что им стоит забрать их в Гестапо и сделать все, что захотят, просто "ради проверки"? Разве Зофту и тем, кто за ним стоит, так уж нужно чистосердечное признание Эл, что она убила Стивена, чтобы обвинить ее в этом? Но пока он медлит и даже вроде сбит с толку ее выдержкой. Как она посмотрела на него! КАк она держалась! Неимоверно горжусь ею. И Эдом, который успел найти важные бумаги. Спасибо вам! Да, от той юной, в начале истории, Эли и Агны многое осталось. Осталась такая важная доброта и трепетность, неуспокоенность сердца. А вместе с тем появилась и сила, которая теперь позволяет Эл выдерживать и такие встречи: с Ханной, с Зофтом. И хотя закалка эта стоила Эл очень и очень дорога, эта ее стойкость чрезвычайно важна. Эл не просто красивая девочка, в которую когда-то с первого взгляда влюбился Эд. Она теперь та, кто способен не просто держать удар, но и отвечать противнику. Она не подведет Эдварда. Такой Эл он может доверять, и доверяет, всецело. И это уже не столько именно про любовь, сколько про такую громадную близость и единение, когда ничего не нужно объяснять тому, кого любишь, — и так все ясно. Он и сам все понимает, по одному только взгляду или молчанию. Конечно, Зофту ничего не стоит забрать Агну и Харри в гестапо. Ему и повод для того почти не нужен. Но штука в том, что Зофт сам озабочен соблюдением приличий. Он, все же, думая о том, что Харри накоротке с Гирингом, опасается действовать прямо. Но очень старается. Эдвард, как воробей стреляный, в таких моментах вызывает уверенность. И азарт от него тоже никуда не отходит. И даже когда за него бывает страшно, все равно не покидает уверенность: ну нет, и сейчас выберется. Такие эпизоды напоминают нам, что их задача не просто выжить в Берлине в 30е годы, но и всеми силами помочь если не предотвратить, то разгадать грядущую войну и сделать все возможное, чтобы ее жертв стало как можно меньше. Что могут два маленьких человека, затерянных в самом жерле мясорубки? А все же даже если два человека спасут еще двух человек или хотя бы одного, разве это можно назвать "малым"? В масштабах всего мира и мировой войны спасение даже "только" одного, конечно, "немного". И, может, смехотворно. Но не для этого одного человека. Не для беременной женщины, которая абсолютно потрясена и напугана всем происходящим, и не знает, где Дану. И не для мальчика, которого нацисты считают не более, чем грязью. Спасибо! 1 |
|
|
h_charrington Онлайн
|
|
|
Знаете, у меня никогда не было очарования Ханной. Даже тогда, когда я была в начале работы над текстом, и было несколько вариантов для нее, и иногда я сама не понимала: а куда ее заведет? Многие, читая, отмечают именно тот момент сочувствия: вот же, Ханна протянула платок. Да. Но... так много этих "но" и до, и после платка! Да, до очарования образом там далеко, и "сочувствие", которое она проявляет, можно сравнить с тем, как в карикатурных фильмах карикатурные злодеи показаны страстными любителями кошечек или собачек. Какие-то поверхностные душевные порывы не чужды и психопатам, и попросту мерзавцам, и, думаю, в сцене, где Ханна подходит к Эл с этим платком, там у Ханны больше какого-то глубинного страха перед тем, чего она никогда не сможет понять, чем реально вот сочувствия. И тот самый страх столкновения с чем-то большим, что есть в тебе, мог бы ее отрезвить, заставить пойти иной дорогой... Но нет. Не вышло. Минутная вспышка почти что благоговейного ужаса снова затоптана животной ревностью и тупой страстью. Может, в ее понимании это и "любовь"... но истинная любовь, даже не получая ответа и сгорая в безумстве и горечи, не допустит зла в отношении того, кого любят. О да, конечно. Я в каком-то из отзывов делилась соображениями о том, что у Ханны могло просто не быть понимания, что такое настоящая любовь, и та страсть, похоть и собственническое чувство могут быть ею приняты за то, что она "любит", а поскольку эта звериная жажда не находит удовлетворения, то, значит, еще и "страдает", и ей как "жертве" позволены любые средства для достижения ее "великих" целей. Ну да, ну да... Честно скажу, я отнюдь не сторонник того, чтобы объяснять все-все особенности поведения и мировоззрения человека исключительно травмами, пережитыми в детстве. Нам дана волшебная способность изменяться. Учиться на своих ошибках. Переживать опыт и взрослеть, что в 5 лет, что в 50. Поэтому просто сказать, что у Ханны не было перед глазами примера "истинной любви", и списать на такую вот "необразованность" всю ее чудовищную гнильцу, никак невозможно, на мой взгляд. Ведь даже если и так, та самая "истинная любовь" сподвигла бы ее к изменениям. Она бы видела Харри Кельнера как отдельного человека, личность, достойную счастья - такого, какое он обретет и будет беречь, она бы отпустила его. И точно не пыталась бы навредить Эл. Однако ее линия из раза в раз приводит ее на те же грабли наступать, и вот в тех двух главах, которые я успела еще прочитать, Эду и вправду пришлось уже почти к шоковой терапии прибегнуть, чтоб ее хоть как-то встряхнуть. Казалось бы, по сравнению с мировым масштабом бедствия, с которым имеют дело Эд и Эл, какая-то там истеричная ревнивая бывшая любовница просто мелюзга, вошь. Но какая же она назойливая, и сколько уже крови подпила! А сколько копий сломано о тезисы "как немцы, такая просвещенная нация, дошли до такого"? Вопрос открыт. У нас И СЕЙЧАС нет ответа. Поразительно и то, что война, вроде как, окончилась, а никто ни за что не ответил. Меня беспредельно изумляет то, что эти твари рукопожатны в мире! Я просто не нахожу для этого слов. И они нам говорят о культуре? Знаем мы вашу культуру с примесью "Циклона-Б". Это не перестает меня поражать. И все эти фразы про "не знали", "нас использовали"... такая ересь! Кого они хотят обмануть? Рекомендуют себя немецким качество и "порядком"? Ну так и в лагерях был порядок: печи работали, "люди" ходили на работу, зондеркоманды исправно, каждый день, исполняли свои "обязанности"... Я в такой растерянности. Это как дверь в ад. Начинаешь думать об этом, и не можешь ни понять, ни осмыслить. Ну как такое было возможно? И, что не менее важно, как "потом" все стало внешне опять нормально, без лагерей? Признаюсь, сколько я ни пыталась найти ответ на этот вопрос, ничто меня до конца не удовлетворяет, кроме мнения, что люди, по природе куда легче склонные ко злу, чем к добру, получая возможность творить зло и не нести за это ответственность, будут это делать с большой охотой, потому что видимых выгод больше, чем если держаться (еще и рискуя положением и даже жизнью) за совесть и моральные принципы. Полагаю, в моменте у многих просто не возникал вопрос "а правильно ли это?", они видели перспективы и выгоды - даже в убийстве 36 000 евреев - и шли на это, вовремя позволяя себя закрывать глаза и морщить носы. Тут часто гооворят о бедственном положении Германии после 1МВ. Помню, нам учительница истории рассказывала, что инвалиды, вернувшись с войны, совершали самоубийства, чтобы их вдовам и сиротам выплачивали пособия большего порядка, нежели по инвалидности кормильца. Но что, интересно, во Франции, половину которой истребила Германия в 1МВ, в России, которую мало что в 1МВ использовали как пушечное мясо, так добили напрочь революцией и Гражданской войной, не было отчаяния и бедственного положения? Но как-то не докатились до "окончательного решения еврейского вопроса", восстанавливая свои экономики. Как-то не дошли до полнейшей бесчеловечности, пробивая себе "дорогу в будущее". Да, и меня еще всегда поражало, как много раздуто причитаний вокруг послевоенной судьбы Германии. Ах, их делили на зоны оккупации, ах, им построили Берлинскую стену!.. Какое "варварство" по сравнению с тем, что Германия творила со странами и народами, которых как катком сметала во время 2МВ... Ах, бедная Германия, платила непосильные репарации. А сколько она награбила и уничтожила богатств тех страх, на которых напала в 1МВ? Поэтому... для меня это сводится к природе зла. Ненасытной, пугающей воронке, которая засасывает все глубже и глубже, давая мнимую эйфорию от чувства вседозволенности, сытости и удовлетворенного самолюбия. Читала "Доктора Фаустуса" Манна. Там в целом приводится вот к такой метафизической проблеме добра и зла. Сделка с дьяволом, бессмертная душа (совесть, мораль, ценности) в обмен на временные привилегии, достаток и славу. Там гг - гениальный композитор, Фауст 20 века, и в нем вот отражается судьба Германии. Но, знаете, меня еще напрягало всегда вот это превозношение образованности и культурности немцев. Ах, они там все поголовно играют на пианино и читают философов. Не проводила собственных исследований, спорить не буду, но и не буду держаться за это утверждение как за что-то, что может быть исползовано хоть каким-то боком как, прости Господи, "смягчение" их вины. Сволочь - она сволочь и есть. Вне зависимости от того, играет она на пианино или нет. Казалось, что феномен еврейских оркестров, которые играли на скрипках, пока других заключенных умерщвляли в газовых камерах, должен наоборот свидетельствовать о полнейшей, окончательной извращенности и вырождении этой "великой немецкой нации". Но до сих пор находятся те, кто говорит, какой у них тонкий вкус. Или еще пример слепоты и глухоты к историческому опыту: в школе одноклассница как-то пришла в ожерелье со свастикой. И когда мы к ней подошли с намерением разложить по понятиям, она на голубом глазу утверждала, что "это древний языческий символ солнышка, чего пристали, быдлота". Символ-то древний, но забывать, или даже отрицать, что он был раз и навсегда запятнан кровью миллионов?.. Я даже не знаю, как это комментировать. 1 |
|
|
h_charrington Онлайн
|
|
|
[отзыв к главам 3.12-3.13]
Показать полностью
Здравствуйте! Спасибо, что подарили нам это чудо воссоединения с Кайлой. Что оставили ее в живых, что сохранили ее малыша. Когда столько боли, и история идет к финалу, не ожидаешь уже и проблеска света (разве что вспышки ракеты, которая взорвет все к чертям), однако такой вот дар напоминает нам о том, как в жизни ценно подлинное чудо. И оно случается. Быть может, в реальной жизни даже чаще, чем в искусстве. Да, Кайла пережила тяжелейшее потрясение, Дану либо погиб, либо все равно что приговорен к смерти, оказавшись в концлагере. Да, даже в этих обстоятельствах открывается возможность еще одного чуда, и еще, и еще, но узнаем ли мы о нем - неизвестно. И пока уже сама Кайла может взять на себя подвиг надежды и ожидания встречи, молитвы и веры, чтобы не впасть в глубочайшее отчаяние хотя бы ради малыша. Ему ведь тоже очень страшно, и какое мужество нужно матери, чтобы не поддаться внешим страхам и оградить от них ребенка... А он... пинается. Растет. Господи, как трогательно - особенно вот такой яркой вспышкой жизни вопреки всему посреди всей этой мглы. И тут же рядом - несчастная Эл... Я ей очень и очень сочувствую. Ей самой себя страшно: как, спрашивает она себя, я могу искренне помогать Кайле, если сам факт, что она ходит с ребенком под сердцем, а я этого лишена, вызывает во мне приступ боли, и зависти, и горя? И рука одернулась, и снова пришло страдание. Там, где надо радоваться за другого, поддерживать, верить в лучшее, все вдруг, как по щелчку пальцев, застилает собственная, кровная боль, и больше ничего не остается. Весь мир потух, и осталась одна Эл, окаменевшая на кровати, один на один со своим неизбывным горем. И даже Эду она не в силах его поверить. Интересно, что сама просит от него откровенности, но уже в который раз не делится с ним своими переживаниями. Она сильная и гордая, и, конечно, опасается ранить его своими переживаниями или обременить, или, хуже, подтолкнуть к решительным действиям (как когда он ходил угрожал Гирингу), которые могут повредить ему. И... еще ведь, как удивительно точно отражена печальна правда жизни: стоит хоть чуточку всковырнуть давнюю, непроболевшую до конца обиду, как она тут же восстает пламенным драконом. Ну вот, казалось бы, давно уже исчерпан вопрос верности Эда, его отношения к Ханне. Но стоит ему только упомянуть, что схватил Ханну за руку, как у Эл все отключается. Она уже не вдумывается в разницу между "схватил" и "взял". Она уже не слышит, что он схватил ее, чтобы уберечь Эл. Мир погас и осталась картинка: Эд и Ханна вместе, а она, Эл, одна. Крах. Почти безумная, иррациональная ревность, боль, желание рвать и метать под наносным смиренным молчанием. Эд видит, что он не может просто так успокоить Эл. Словами до нее не достучишься. Когда болит сердце, разумные увещевания только больше бесят и доводят до крайности. Единственное, что работает в этот момент - это взять (или уж схватить) как можно крепче, прижать к груди и говорить о любви. О том, что Эл - единственная, о том, что без нее жизнь не мила. Она так хочет это услышать, и, пусть это выглядит глупым, но такая уж правда о нас - нам важно это слышать. Поступки, дела - безусловно, в этом вся суть, но какое волшебство творит одно только слово любви... Эд учится произносить это слово. И не одно. Он любит - и в этих главах обнаруживает еще одну грань любви. Способность принимать и облегчать чужую боль. Он ненавидит свою слабость, ненавидит свои раны, он умеет с ними жить - но не знает, кем бы он был без них. Для него они - уродство, которое нужно скрыать от посторонних глаз. И тут он видит, как Эл умеет утешать. Как она умеет быть стойкой в чужом горе, как умеет вобрать его в себя как свое и не сойти с ума. Какая сила духа! Момент, когда Эд смотрит на Кайлу, и на его лице отражается боль, невероятно сильный. В жизни, которую ведет Эд, уение не показывать своих чувств считается достоинством, силой, но как ему самому от этого тяжело! И вот момент, когда он задумался "об Эдварде Милне", был таким значимым... и знаковым. Все это время он был озабочен такими вещами как не провалить миссию, защитить Эл, попробовать хоть немного сделать ее счастливой... А теперь он задумался будто впервые, а может ли быть счастлив он? Конечно, "счастье" - слишком громное и приторное слово для Эда и Эл, которые живут на острие ножа. Но он задумалсь об облегчении, об утешении. Об исцелении и покое. Как это дорого, когда такой закрытый и наполовину окаменевший человек может хотя бы мысль допустить о том, что его жизнь (или отношение к ней) может измениться... Пусть даже перед лицом смерти. А когда еще? "Приключение" с Ханной, как я сказала, было уже сродни шоковой терапии. Клин клином, так сказать. А ну-ка иди, если такая честна и правоверная, а ну-ка выкладывай все свои подозрения! Но там, где все построено на страхе, уже нет места честности и справедливости. И страх Ханны показывает, что и по ней, видимо, ездили. И ее, может, на скамью клали... Вопрос только, какими средставами она нашла взаимопонимание со следствием. Вопрос риторический. И пережитое, видимо, никак не помешало ей и дальше работать в концлагере (а может, ее туда после знакомства с гестапо и закинуло), носить белое пальто и пытаться растоптать чужие жизни. Жестокость порождает жестокость. И не перестаю "умиляться", как каждый раз она кричит о том, чтобы Харри был осторожен, а потом делает все, чтобы навредить ему и его жене. Сколько раз понадобится Ханне перебегать дорогу Кельнерам, чтобы грабли ей уже лоб расшибли?.. Да, очень классный момент с обменом шпильками Эда и Зофта. "Не ожидал увидеть вас здесь". А Зофт в общем-то хорошо держит мину при плохой игре, его разоблачили, а он и ухом не повел, мол, "так надо", или "я знаю, что вы знали, что я знаю, что вы знаете". Интересный он противник, учитыая, что он пытается соблюдать правила игры. Это не похотливый эсесовец и не чиновник, пользующийся своим положением, и не ревнивая стерва. Мне кажется, ему самому доставляет удовольствие изощренное этот интеллектуальный поединок с супругами Кельнер. И он хочет сам их подловить, расколоть, не силовыми методами, а чтобы как в шахматной партии кто-то совершил бы ошибку. Наконец, визит Агны к заказчице выдался действительно тошнотворным. Вот оно - говорить с возмущением о погромах только потому, что они вышли слишком уж громкими и затратными! Говорить спокойно о гибели 36 тысяч людей, переживая о финансовых издержках. И это уже не Ханна, это "достопочтенная дама", которая уж точно родилась и выросла не после 1МВ, когда бедненькие немцы так "страдали", а в самый расцвет Германской Империи, ее "культуры" и "благонравности". Вот вам и благонравность. Как "радуют" и господа англосаксы. Центр отмахивается от посланий своих шпионов, а официальный представитель комитета, который занят не много не мало спасением детей чопорно говорит: "Вас это не касается, ваше время истекло". Мне кажется, даже Гиббельс так резко не давал Эдварду поворот от ворот. Омерзительно и низко. Но британцы же уверены, что Чемберлен "привез им мир". И спасаем только тех евреев, которые не слишком похожи на евреев. Чтоб, прости Господи, "глаз не мозолили" английским аристократикам. Какое же позорище.... Если про Францию Кейтель сказал, подписывая капитуляцию, "и они у нас выиграли?", то про Англию ему следовало бы сказать: "Разве они вместе с нами не проиграли?.." Столько ведь подыгрывали... И занятно, что под словом "восток" Эд и Эл даже не помышляют об СССР. Видимо, настолько невероятным был все-таки план Гитлера воевать против самой большой в мире страны, что в головах не укладывалась такая возможность в принципе. На этот счет есть разные точки зрения, но говорят, что и Сталин не верил донесениям наших агентов, что Германия планирует воевать на два фронта и наступать на СССР. По крайней мере, начинать наступление в разгар лета, когда до осеннего бездорожья рукой подать. Но Гитлер был уже слишком самонадеян. Блицкриг, ну да, ну да... Спасибо большое! п.с. Поняла, что в прошлом отзыве не упомянула сцену с милым нашем Белым Лунем. Очень ценен его взгляд со стороны как на Эда, так и на трагедию с Эл. Честно, когда он выдал этот монолог о том, как Эл попала в больницу, и как он пытался, но не мог спасти их ребенка, довел меня до слез. При минимальных описаниях переживаний и чувств героя, один этот монолог передает всю боль старого врача, который всю жизнь видит чужие страдания и лишь малую часть их способен облегчить. Вечный разрыв между тем, к чему призван, и тем, что действительно может сделать, и не потому, что мало старается (он всего себя отдает своему служению), но потому что такова жизнь, такова судьба, таково несовершенство науки и хрупкость человека. Но трезвое понимание, что врач не всесилен, даже самый опытный, не дает нашему Луню отрешиться от чужого горя и просто развести руками. Прошло уже пять лет, а он помнит Эл, помнит ее боль и причитается к ней своей болью, ибо в том, как он говорит о ней, такой надрыв... и горечь. И, думаю, для Эда эта вспышка откровенности стала утешением. Даже большим, чем он мог бы признать на первых порах. Знать, что по твоему горю плачет искренне еще один человек - утешение, очень большое утешение. п.п.с. Спасиб за упоминание Гейдриха, сейчас нашла время и постаралась подробнее узнать о том, что это за человек. Чтение вашей истории как всегда располагает к самообразованию. 1 |
|
|
Anna Schneiderавтор
|
|
|
h_charrington
Показать полностью
Здравствуйте! там у Ханны больше какого-то глубинного страха перед тем, чего она никогда не сможет понять, чем реально вот сочувствия. И тот самый страх столкновения с чем-то большим, что есть в тебе, мог бы ее отрезвить, заставить пойти иной дорогой... Но нет. Не вышло. Минутная вспышка почти что благоговейного ужаса снова затоптана животной ревностью и тупой страстью. Согласна с вами, именно такой там страх. Страх перед неведомым, тем, что гораздо больше слов. И Ханна, верная себе, не удерживается от вопроса о Харри. Все ли с ним в порядке? Думаю, этот жест с платком был в чем-то искренним, но он, как вы и сказали, не повел Ханну дальше. Точнее, не вернул ее обратно. И все покатилось дальше, под гору. Я в каком-то из отзывов делилась соображениями о том, что у Ханны могло просто не быть понимания, что такое настоящая любовь, и та страсть, похоть и собственническое чувство могут быть ею приняты за то, что она "любит", а поскольку эта звериная жажда не находит удовлетворения, то, значит, еще и "страдает", и ей как "жертве" позволены любые средства для достижения ее "великих" целей. И при этом Ланг очень высокого мнения о себе. Но если отставить в сторону ее красивую внешность, такую правильную по тем временам, то что останется? Горечь? Ярость? Злость, ставшая озлобленностью? Повторю, она, как и всякий другой человек, могла пойти иным путем. Но выбор ее, как и выбор другого, всегда, конечно, свободен. И ее самомнение о себе, что примечательно, основано тоже, в общем-то, только на собственной внешности. В этом смысле яркий момент — тот, где Кельнер подвозит ее до дома, а она всю дорогу уязвлена тем, что он реагирует на нее сухо, не так, как она к тому привыкла. И если круг ее собственных интересов и ценностей узок настолько, то стоит ли удивляться тому, что она всё судит лишь внешне? Сама не обладая почти никаким душевным содержанием. И на основе своих нынешних "страданий", она, видимо, решает стать судьей и решать: кого миловать, а кому — голова с плеч. Все ее истерики и метания утомляют. Будь иное время, не такое опасное, Харри сказал бы ей гораздо более открыто гораздо больше "хороших" слов. Но время не то. С ней ему тоже приходится сдерживать себя. Честно скажу, я отнюдь не сторонник того, чтобы объяснять все-все особенности поведения и мировоззрения человека исключительно травмами, пережитыми в детстве. Нам дана волшебная способность изменяться. Учиться на своих ошибках. Переживать опыт и взрослеть, что в 5 лет, что в 50. Поэтому просто сказать, что у Ханны не было перед глазами примера "истинной любви", и списать на такую вот "необразованность" всю ее чудовищную гнильцу, никак невозможно, на мой взгляд. Ведь даже если и так, та самая "истинная любовь" сподвигла бы ее к изменениям. Я не задумывалась так четко о том, чем объяснить поведение человека. Но тема с детскими травмами кажется очень узкой и заезженной. Сколько можно? Нам и Гитлера впихивают в рамочки несчастного, непонятого художника. Вот прими его тогда в венское училище, вот было бы всё хорошо... А если нет? Все? От одной неудачи, пусть и болезненной, сломался и пошел всех жечь и ломать? Как же это уродливо и отвратительно. Только твари способны на такую лютую месть, истинные твари. И не надо никаких объяснений — нет их, не существует в таких случаях. Неважно, был ли у Ханны счастливый опыт любви или нет, а действует она ровно так же. Мстит, гадит, и в этой своей пакости не хочет видеть никаких границ. Дай такой волю, и была бы еще плюс одна Ильза Кох. Есть люди, которые, к примеру, не познают в своей жизни счастливую любовь. Не знаю, почему так, но бывает. И что, теперь всем мстить? Кто виноват в твоей боли? Никто. Может, и ты не во всем виноват, и есть еще какие-то иные факторы, но винить других, "мстить" им, — это гадость и низость. Но какая же она назойливая, и сколько уже крови подпила! Да, очень много сил и души уходит на нее, к сожалению. И поразительнее только то, что до сих пор, даже после почти визита в гестапо, она не успокаивается. Совершенно сошла с ума, я думаю. И не хочет остановки. Признаюсь, сколько я ни пыталась найти ответ на этот вопрос, ничто меня до конца не удовлетворяет, кроме мнения, что люди, по природе куда легче склонные ко злу, чем к добру, получая возможность творить зло и не нести за это ответственность, будут это делать с большой охотой, потому что видимых выгод больше, чем если держаться (еще и рискуя положением и даже жизнью) за совесть и моральные принципы. Полагаю, в моменте у многих просто не возникал вопрос "а правильно ли это?", они видели перспективы и выгоды - даже в убийстве 36 000 евреев - и шли на это, вовремя позволяя себя закрывать глаза и морщить носы. Тут часто гооворят о бедственном положении Германии после 1МВ. Помню, нам учительница истории рассказывала, что инвалиды, вернувшись с войны, совершали самоубийства, чтобы их вдовам и сиротам выплачивали пособия большего порядка, нежели по инвалидности кормильца. Но что, интересно, во Франции, половину которой истребила Германия в 1МВ, в России, которую мало что в 1МВ использовали как пушечное мясо, так добили напрочь революцией и Гражданской войной, не было отчаяния и бедственного положения? Но как-то не докатились до "окончательного решения еврейского вопроса", восстанавливая свои экономики. Как-то не дошли до полнейшей бесчеловечности, пробивая себе "дорогу в будущее". Да, и для меня этот вопрос открыт. А может, при наступлении нацизма, для таких, "более склонных" ко злу, и выбора не было? То есть и вопроса не стояло: плохо или хорошо? Выгодно, — вот и ответ. Сколько было уверено в победе "германского гения", в "расчистке новых территорий"... Гитлер и Ко орали с трибун о том, что "ничего не бойтесь, всю ответственность я возьму на себя!", — уверенные в том, что всё им не просто сойдет с рук, а зачтется как праведная цель в очищении пространства. Странно обо всем этом говорить, когда у самой (то есть у меня:) немецкая фамилия. Но всю эту "риторику" ненавижу люто. Просто какая-то внутренняя ненависть просыпается. Согласна с вами в ваших размышлениях о немцах. Меня умиляет еще и то, что они нам на полном серьезе заявляли, что зачем это мы к ним пришли? А Геринг вообще в своих речах дошел до того, что какие-то советские люди (недолюди, конечно же, по их размышлению культурных людей) не имеют права (!) судить их, немцев и национал-социалистов. То есть настолько все человеческое было выхолощено в этих уродах. То есть убивать людей миллионами, грабить их, насиловать — они, "великие" и "культурные" имеют право, а судить их не может никто. На такое даже не знаю, что ответить. Жалею, что Геринг сумел сам убиться. Хотелось бы, чтобы его, как большинство его единомышленников на том первом суде, вздернули. Веревка бы только оборвалась: толстый был непомерно. Но ничего, подвязали бы снова. Мне хочется верить, что мы никогда не дойдем до таких "окончательных решений". Меня, со временем, стало поражать другое: как обескровлен, как разрушен был СССР войной. И как быстро восстановлен! Параллельно с этим шла насмерть гонка по разработке ядерного оружия. А в 1961 г. не кто-нибудь, а мы — первые в космосе. Всего через 16 лет по окончании такой войны... Раньше я смотрела на снимки моделей в платьях Диор, прилетевших в Москву в то время, с сочувствием к нашим женщинам, одетым в самые простые платья. А теперь хочется сказать: идите на ... со своими платьями, в свою Францию. Где бы они все были, если бы не СССР? Но страх в том, что им там, на той стороне, нравилось. И ничего не казалось страшным. А что такого? Спасибо за отзыв! 1 |
|
|
Anna Schneiderавтор
|
|
|
h_charrington
Показать полностью
Часть 1. Здравствуйте! Спасибо, что подарили нам это чудо воссоединения с Кайлой. Что оставили ее в живых, что сохранили ее малыша. Когда столько боли, и история идет к финалу, не ожидаешь уже и проблеска света (разве что вспышки ракеты, которая взорвет все к чертям), однако такой вот дар напоминает нам о том, как в жизни ценно подлинное чудо. И оно случается. Я просто не могла лишиться Кайлы. Пусть она не главная, но очень важная героиня. То же касается и ее ребенка. Даже если все это, может, выглядит неправдоподобно, — плевать. Вокруг и так слишком много смертей и пожаров. Но Кайла будет жить. В конце концов, правдоподобие самой жизни иногда очень "хромает": есть в нашей истории воины, прошедшие через 17 концлагерей, и не сломленные этим ужасом. Господи, как трогательно - особенно вот такой яркой вспышкой жизни вопреки всему посреди всей этой мглы. И тут же рядом - несчастная Эл... Я ей очень и очень сочувствую. Ей самой себя страшно: как, спрашивает она себя, я могу искренне помогать Кайле, если сам факт, что она ходит с ребенком под сердцем, а я этого лишена, вызывает во мне приступ боли, и зависти, и горя? И рука одернулась, и снова пришло страдание. Это то же отчасти, что испытывает Росаура: личное (как всегда, но в такие времена это особенно) очень переплетено с "внешним". И хотя опасность — везде и всюду, вокруг Эл и Эда, личное отменить невозможно. Потому что оно и есть ты. И даже понимая, что мир уже слетает в темноту, забыть свое не можешь. И заглушить такую боль окончательно вряд ли возможно. Даже если потом будут другие дети, этот, не рожденный малыш, останется самим собой, тем же самым малышом, что умер. И тут же поднимается неусыпно другая волна: следить за собой, соблюдать осторожность, — все то, что уже вшито под кожу у Элис, и у Эдварда. И хорошо, что в такой момент рядом с Эл была Кайла. Даже если она что-то и подозревает (хотя я не думаю), то в любом случае никому не выдаст ни Агну, ни Харри. Интересно, что сама просит от него откровенности, но уже в который раз не делится с ним своими переживаниями. Она сильная и гордая, и, конечно, опасается ранить его своими переживаниями или обременить, или, хуже, подтолкнуть к решительным действиям (как когда он ходил угрожал Гирингу), которые могут повредить ему. И... еще ведь, как удивительно точно отражена печальна правда жизни: стоит хоть чуточку всковырнуть давнюю, непроболевшую до конца обиду, как она тут же восстает пламенным драконом. Ну вот, казалось бы, давно уже исчерпан вопрос верности Эда, его отношения к Ханне. Но стоит ему только упомянуть, что схватил Ханну за руку, как у Эл все отключается. Она уже не вдумывается в разницу между "схватил" и "взял". Она уже не слышит, что он схватил ее, чтобы уберечь Эл. Да, интересный перевертыш: просьба об откровенности и уже, в самом деле (как в случае с примеркой платья Ханной и "упреком" Агны в бездетности), не первая — с одной стороны, причем со стороны Элис, которая раньше, сама по себе была гораздо откровеннее, и Эд даже гордился своим умением легко "читать" ее лицо и эмоции, и нежелание рассказать Милну о том, что ее саму беспокоит. Но, думаю, Эдвард из проницательности, плюс-минус все знает. Конечно, это не скытность Эл, равная отстранению, а нежелание увеличивать и так то горькое и страшное, что есть. Только вот, конечно, от молчания ей легче не станет. Да и с кем еще ей всё делить, как не с Милном? Громадная радость (если уместно употребить это слово в данном контексте) в том, что они вместе не только как влюбленные, они вместе и на одной стороне и в жизни, и в миропонимании, в том деле разведке, о которой даже любимому не скажешь, нельзя. А понять это другой, сам не бывавший по эту сторону разведки, не сможет. К тому же, Элис уже не та девочка, прибежавшая в страхе в комнату Милна в первую ночь в Берлине. И думаю, теперь Эд не всегда может похвалить себя за умение "читать" Эл. Ну а что касается Ханны... тут все то же: та рана, как потеря ребенка, в какой-то степени всегда будет открытой. Это признали в том примирении после вечера с танцем и Софи, оба: и Эд, и Эл. Да и глупо было бы делать вид, что этого не было. Кто-то, конечно, выбирает и такой ход, но смысл? Глухой, постоянный стук-напоминание и саму память — не отменить, как ни старайся. Честность гораздо лучше в такой ситуации. Эд видит, что он не может просто так успокоить Эл. Словами до нее не достучишься. Когда болит сердце, разумные увещевания только больше бесят и доводят до крайности. Единственное, что работает в этот момент - это взять (или уж схватить) как можно крепче, прижать к груди и говорить о любви. О том, что Эл - единственная, о том, что без нее жизнь не мила. Она так хочет это услышать, и, пусть это выглядит глупым, но такая уж правда о нас - нам важно это слышать. Поступки, дела - безусловно, в этом вся суть, но какое волшебство творит одно только слово любви... Слова, правда, здесь не работают. Ну что он скажет? Все то же: то было ошибкой, а все, что у нас — и было, и есть одно настоящее? Эл это умом знает, она это слышала от Эдварда не раз, и, думаю, верит ему. Но боль, острую и сердечную, все это не отменяется Потому что рана всегда будет открыта. А доверие уже было основательно нарушено, и в той темноте они уже оба были. А скатиться в темное нам, не таким уж и уверенным в себе, всегда гораздо быстрее и проще, чем удерживаться в луче света. Поэтому выход один — быть рядом и ждать, когда стихнет приступ боли. И снова врачевать рану. Ну а слова... да, так вот удивительно они действуют на нас. Все всё знают про "смотри на дела и действия", но слова способны как исцелить, так и погубить. Притом, что это не просто слова, это — истинная правда для них двоих. В форме слова. Он ненавидит свою слабость, ненавидит свои раны, он умеет с ними жить - но не знает, кем бы он был без них. Для него они - уродство, которое нужно скрыать от посторонних глаз. И тут он видит, как Эл умеет утешать. Знаете, я думаю, Эд не ненавидит свои раны. Он их принимает. Да, возможно, он хотел бы, чтобы ни их, ни того опыта, что они ему принесли с собой, у него не было. Но без них он не был бы таким, каким мы его знаем. А может, сложись его жизнь более благополучно, он вырос бы рафинированным болваном? А потом, как Стив, решил бы, что и ему "все можно"? А что? Деньги, положение есть. Бороться "за место под солнцем" не нужно. Вообще ничего не нужно, — безбедное существование обеспечено на всю жизнь капиталом от родителей. Я не знаю, где эта золотая середина между правильным неравнодушием сердца и души и абсолютным равнодушием ко всему, возникшим из-за привычки к достатку. Мы так часто привыкли считать, что любви много не бывает. Но я смотрю на ту же дочь Делона и меня берет ужас, отвращение. Ей не на что жаловаться в своей жизни. Она, в отличие от своего отца, не знала бед или нужды. Отец ее обожал. А выросло на этом обожании чудовище. Монстр, приложивший руку к тому, что последние годы его жизни, судя по всему, были полны и горечи, и боли. И при этом, кажется, абсолютное непонимание того, кем был ее отец. Да, для нее он, прежде всего, папа. И потом "Ален Делон". Но такая душевная тупость... это так страшно. Безумно. Боль свою Эд скрывает из соображений того, что знание о ней никому не сделает лучше. Но и сам он, под ее гнетом, как мы видим, уже не выдерживает. Все это глубоко личное, опять же, совсем "не к месту", когда такая обстановка вокруг. Но сама мысль о том, что он, после всех этих лет абсолютного молчания, может быть принят и понят, а не отвергнут... Я думаю, для него это не меньше, чем потрясение. И я очень рада, что такая мысль пришла к нему, не оставила его в покое, а растревожила. Во имя дальнейшей жизни и любви, как бы странно это ни звучало на пороге войны. 1 |
|
|
Anna Schneiderавтор
|
|
|
h_charrington
Показать полностью
Часть 2. "Приключение" с Ханной, как я сказала, было уже сродни шоковой терапии. Клин клином, так сказать. А ну-ка иди, если такая честна и правоверная, а ну-ка выкладывай все свои подозрения! Но там, где все построено на страхе, уже нет места честности и справедливости. И страх Ханны показывает, что и по ней, видимо, ездили. И ее, может, на скамью клали... Вопрос только, какими средставами она нашла взаимопонимание со следствием. Вопрос риторический. Да, вопрос более, чем риторический. Тот, на который ответ не важен и не интересен. Именно потому, что всей своей сутью Ханна вызывает, может быть, сожаление (как человек, свернувший не туда), но не сочувствие. Я знала, что она как-то использует тот случай с подменой чемоданов. Это была бы не Ланг, упусти она такой повод задеть и зацепить. Но до того, как описала эту встречу Харри и Ханны под аркой, не знала, как именно. И, опять же, радуюсь наблюдательности Милна, заточенной годами разведки. Ведь он мог ее и не заметить. Да, очень классный момент с обменом шпильками Эда и Зофта. "Не ожидал увидеть вас здесь". А Зофт в общем-то хорошо держит мину при плохой игре, его разоблачили, а он и ухом не повел, мол, "так надо", или "я знаю, что вы знали, что я знаю, что вы знаете". Интересный он противник, учитыая, что он пытается соблюдать правила игры. Это не похотливый эсесовец и не чиновник, пользующийся своим положением, и не ревнивая стерва. Мне кажется, ему самому доставляет удовольствие изощренное этот интеллектуальный поединок с супругами Кельнер. И он хочет сам их подловить, расколоть, не силовыми методами, а чтобы как в шахматной партии кто-то совершил бы ошибку. Все верно, — Зофт не так прост, как хочет казаться. Это не обезумевший то ли от вспышки влюбленности в начале, то ли похоти, Биттрих. Это не новенький эсесовец, вчера взятый из "Гитлерюгенд", и пугающийся собственной тени. Это даже не Хайде, слишком взбешенный по эмоциям, чтобы всерьез противостоять Харри. Это именно противник. Умный. Потому что те твари во многих случаях были умными. И да, Зофт жаждет победы. Но еще — отменной игры. А она предполагает все эти словесные "не ожидания". Наконец, визит Агны к заказчице выдался действительно тошнотворным. Меня до сих пор это очень интересует: а как себя вели тогда немцы? Простые немцы, рядовые немцы? Все нравилось, ничего не волновало? Это тоже, во многом, вопрос без ответа. Тем более, что после нашей Победы они быстренько переквалифицировались в сплошь тайное сопротивление, которое с 1933 по 1945 было всегда резко против Гитлера. Ну-ну, знаем. Центр отмахивается от посланий своих шпионов, а официальный представитель комитета, который занят не много не мало спасением детей чопорно говорит: "Вас это не касается, ваше время истекло". Мне кажется, даже Гиббельс так резко не давал Эдварду поворот от ворот. Омерзительно и низко. Тут, в случае с новым героем, с Фоули, я могу только посоветовать подождать. Очень мне интересно узнать ваше мнение о нем после всех событий. Ну а Центр — на то Центр. Оттуда, с Форрин-офис в Лондоне, видно лучше обстановку в Германии. Вон, даже Милна, в делах почти всегда предельно выдержанного, довели до кипения. И спасаем только тех евреев, которые не слишком похожи на евреев. Чтоб, прости Господи, "глаз не мозолили" английским аристократикам. Какое же позорище.... Да. Я когда читала реальные данные об этой программе "Киндертранспорт", поверить не могла этому. Но очевидцы, которых просили рассказать о ней, подтверждали слова друг друга: дети внешне должны были внешне походить на евреев. Еще — здоровыми, придежными в поведении и учебе. Не инвалидами какими-нибудь, конечно же, ну что вы! И в этом — расчет, а не настоящая помощь. Причем, семьи могли отправить по этой программе только одного ребенка из семьи. А семьи тогда, как правило, были многодетными. И понятно, что ожидало оставшихся в Германии. И занятно, что под словом "восток" Эд и Эл даже не помышляют об СССР. Видимо, настолько невероятным был все-таки план Гитлера воевать против самой большой в мире страны, что в головах не укладывалась такая возможность в принципе. Я думаю, и война Гитлера против Англии и Франции тогда еще тоже могли выглядеть невероятным. Как? Как это возможно? А между тем "блицкриг" настолько отбил Гитлеру даже его больные мозги, что эту кальку он приложил и на СССР, с его громадными территориями. Как сказал Геринг: у нас было очень много информации о состоянии СССР перед войной. Численность населения, подготовка, запасы, ресурсы... одного мы не учли и не могли знать: советского солдата, который так яростно сражался за свою землю. Так, что и смерть не останавливала. На этот счет есть разные точки зрения, но говорят, что и Сталин не верил донесениям наших агентов, что Германия планирует воевать на два фронта и наступать на СССР. По крайней мере, начинать наступление в разгар лета, когда до осеннего бездорожья рукой подать. Да, многие говорят, что Сталин не верил. И донесениям многих разведчиков, и даже тому, что, конечно же, не просто так ранее был заключен пакто Молотова-Риббентропа. Не верил он и донесениям Зорге. А уж Зорге — какой разведчик! Могли его вытащить из тюрьмы, а вытаскивать не стали. Он тоже, кстати, называл точную дату: 22 июня 1941. А Сталин думал, что он двойной агент. А Зорге умер в тюрьме, но своих не сдал. Поняла, что в прошлом отзыве не упомянула сцену с милым нашем Белым Лунем. Очень ценен его взгляд со стороны как на Эда, так и на трагедию с Эл. Честно, когда он выдал этот монолог о том, как Эл попала в больницу, и как он пытался, но не мог спасти их ребенка, довел меня до слез. Спасибо вам за такое неравнодушие! Я тоже очень люблю этот горький момент. Это сочувствие старого человека, опытнейшего врача. Чего и кого он, действительно, не видел в своей жизни? А Эл, эту девочку, запомнил. И столько сострадания к ней, к Эдварду. К чужой жизни, которая столкнулась с таким непоправимым горем. На таком сердце и на таком умении сопереживать, и держится, думаю, во многом, наш мир. А Гейдрих, кстати, — из тех самых очень "культурных" нацистов, о которых вы писали в недавнем отзыве. И скрипка, и фортепиано... Образцовый на всю сотню. А вместе с тем, — не человек, а чудовище. Спасибо вам! 1 |
|
|
h_charrington Онлайн
|
|
|
отзыв на главы 3.14-3.15, 1 часть
Показать полностью
Здравствуйте! Вот, я снова плачу. Вообще я очень ценю моменты, когда искусство вызывает во мне такую реакцию. Это настоящие переживания, они как ничто показывают, как искусство проникает в жизнь и обнажает самые сокровенные и красивые, осмысленные и значимые её моменты. Над чем я плакала в этот раз? Во-первых, конечно же, сцена встречи Мариуса и Эл. Вначале я была обескуражена, как это, он ее не узнает, а еще так озлоблен, что готов растерзать своих спасителей!.. Но что еще можно было требовать от человека, на глазах которого убили мать? И не просто не дают ему прожить горе, а вокруг во всеуслышанье объявляют, что "ничего такого" не было... какая гнусность, какая ложь... Мальчику 12 лет, он не способен думать о целесообразности, безопасности, благоразумии... И, может, он честнее и искреннее всех собравшихся. Это взрослые могут запирать сердце на замок, зашивать рот суровой ниткой, и в страшном мире Берлина конца 30-х, где все говорят шепотом, а лучше - вообще молчат, нам просто необходим был этот крик разгневанного, обездоленного ребенка. Именно уже подросшего, в котором потеря вызовет не только горе, но и гнев. Который будет уже понимать прекрасно, что происходит, без тонкостей и политики, но в самой что ни на есть правде жизни: там звери. Здесь люди. Да, он натерпелся страха, но гнев выжег страх, гнев оказался сильнее шока, и ребенок, эта чистая душа, уже способен испытывать такую лютую ненависть, что иным бы поучиться у него. Потому что ни о каком "примирении" и уж тем более "принятии" зверства речи быть не может. И когда сейчас я порой слышу о попытках говорить о преступлениях нацистов "помягче", у меня волосы дыбом встают. Как видим, в те времена взрослые, осознанные, зрелые люди вообще не смели назвать это "преступлениями", по крайней мере вслух (и самое страшное, что многие ведь и вправду не считали происходящее таковыми?...), так пусть остаётся этот гневный крик ребенка, который ненавидит. И тем сильнее впечатление, когда он наконец-то из-за кровавой пелены перед глазами сумел различить и узнать перед собою Эл. Свою фею-крестную... Конечно, он по-рыцарски, по-юношески влюблен. И я думаю, это прекрасно для него - быть влюбленным в такую женщину, как Элисон Эшби. Эта влюбленность преподымет его над гневом и болью. Поможет отделить зерна от плевел, набраться стойкости, воли, превратит его из гранаты, которая готова была взорваться в любую секунду от малейшего неосторожного жеста, в борца. Который будет неутомим, но не растратит себя попусту. И Эл - вовсе не та фея, которая заманит этого маленького рыцаря в свой волшебный Бугор, где потеряется счет времени, и все былое покажется дурным сном. Нет. Наоборот, она научит помнить, ценить, поможет, чтобы боль, которая сейчас может довести до саморазрушения, стала болью, которая, как ни странно, придает сил и напоминает о смысле, что к чему. Как у Высоцкого, "если в жарком бою испытал, что почем", и там продолжение про нужные книги, которые прочитал в детстве. Думаю, равноценно будет сказать про нужных людей, которые тебя поддержали, направили и утешили. Потому что Мариус, как всякий переживший потерю человек, нуждается в утешении. но не приторно-сладком, а в трезвящем. И Эл иное дать и не может. Она видит своими глазами весь ужас происходящего, она все прекрасно понимает, она переживает свою боль, свой страх, она ведет свою борьбу. И те чудесные мгновения, о которых говорит в финале этой главы Эд, они возможны между Мариусом и Эл именно потому, что там не будет притворства, попыток "сгладить углы", отвлечься на что-то несущественное, затереть и забыть(ся). Это не значит, что в их общении они будут обмусоливать новости или говорить лозунгами сопротивления, но там будет честность и чистый взгляд на мир, даже если разговор будет идти о самых отвлеченных вещах. Да и вообще, мне кажется, когда между людьми _правда_, там не может быть "отвлеченного" и "несущественного". ...к слову, Мариус и книги нужные читает. Конечно же, рискует. И с точки зрения взрослого, который болеет душой за жизнь мальчика, мне, как и Эду, хочется посетовать, что вот, он неосмотрителен, зазря подвергает себя опасности, рискует... Но не могу не понять Эл, которая говорит о Ремарке под полой пальто Мариуса с гордостью. И конфликт, который на протяжении главы охладил отношения Эда и Эл касательно всей ситуации, тоже очень понятен. Эл вся - сердце, она чувствует, что вот сейчас - самые что ни на есть мгновения жизни, и ее мечта стать матерью вот так внезапно осуществилась. Конечно, она видит в Мариусе сына. С самого начала видела. Это невероятно трогательно не в слезливо-сентиментальном смысле, а опять же в своей правде, в том, что это - кусочек счастья для несчастной Эл, и это надежда и возможность приподняться после потерь для Мариуса, это тот опыт, который жизненно необходим им обоим. Второй раз меня пробило, когда Эд вновь вспоминал об аварии своих родителей. Теперь его мысли были сконцентрированы вокруг отца. И эти говорящие без всяких слов подробности... Как он аккуратно уложил его руку... Как ему пришло осознание, что на горячая, потому что на самом деле уже остыла, но ее нагрело солнце... И страх, и ужас, и боль, и оцепенение, которое приносит потеря, и то таинственное действие любви, которое выражается в горе. Шокировал эпизод с Эрихом, вот же подонок, мало из него Эд сделал отбивную? Кстати, вспоминаю, что я была уверена тогда на боксерском поединке, что Эд его именно что насмерть избил (и, кажется, сам Эд так решил поначалу). Сейчас допускаю, что Эд (и я) подумал так, потому что пережил внутри ту ненависть и остервенелую ярость, которая и доводит человека до возможности совершить убийство. Внутри переступлена какая-то грань, и это пугает. Не успела я задуматься, испытываю ли облегчение, что Эд все-таки не убил Эриха, как эта скотина (пардон, но мерзавец же) вваливается в сюжет и самым варварским образом ведет Эда на пытки... просто потому что может. Просто потому что он не Зофт, который удовлетворился бы ответами Эда и отступил до поры, а потому что сделал именно то, чего Зофт себе не позволяет: выбесило его, что Эд явно умнее, находчивее и проворнее, и просто использовал право сильного. То бишь, наделенного властью и не обремененного больной рукой. Наверное, самое шокирующее в этой сцене именно то, что Эд почти что уже вышел сухим из воды благодаря своим умным ответам и прекрасной выдержке, но суровая реальность показала, что ты можешь быть хоть семи пядей во лбу (и это оценят Зофт или Гиббельс), а такие дуболомы, как Эрих, только больше выбесятся и потащат тебя в подвал, просто потому что могут. И, конечно, долгая партия с Зофтом может привести к последствиям попросту необратимым и гораздо более страшным, чем сеанс избиения за десять метров от собственного рабочего места, однако вот это отсутствие всяких правил, беспринципность, звериная жестокость и тупая сила... Это страшно. Страшно, страшно... 1 |
|
|
h_charrington Онлайн
|
|
|
отзыв на главы 3.13-3.15, 2 часть
Показать полностью
Интересен был отрывок от лица Зофта, как всегда, мурашки по коже пробегают, когда благодаря мастерству автора как бы влезаешь в шкуру зверя. Так было с Биттрихом, с насильником в Хрустальную ночь, теперь вот - очередной хищник. Умный, самовлюбленный, уверенный, что он идет на жертву ради "искусства контрразведки", просиживая часы в неудобной машине. И раздумывает над тем, как бы прижать беззащитную девушку, заставив ее пройти через ужас, боль и унижение, лишь бы "найти доказательства". Ну да, он-то "играет по правилам". Жуть. Зато какая красивая и эффектная сцена погони! Как Эд выложился на все сто! Такое опасное и красивое сочетание предельного риска и максимального контроля... Да, я вторила словам Эл: "Никогда не видела тебя таким..." Вспомнила сцену, где Руфус катает Росауру на метле)) Обстоятельства у них, конечно, куда как благоприятнее, здесь-то у Эда ни толики "лихачества ради лихачества". Он спасает их жизни, но в то же время играет с огнем. Он дает нам увидеть на пару мгновений, в каком адском напряжении он живет каждодневно, и этот порыв, от него веет такой жизненной силой, жаждой, скоростью... Вспоминаю о том, как Эд увлекся гонками вскоре после смерти родителей, чтобы на грани жизни и смерти ловить этот адреналин и чувствовать себя живым. Мне кажется, это была главная потребность у него и сейчас. Постоянно играть роль, быть на пределе контроля, оберегать Эл, оставаться сильным, невозмутимым, несокрушимым... Вот так красиво и пугающе прорвалось это напряжение. Знакомство с Кете вселяет веру в сильных, несломленных людей, которых изрядно пинала судьба, но они не сдались. В ее положении она может подвергнуться насилию, преследованию, быть заключенной в тюрьму, лагерь, а то и вовсе быть расстерелянной, в любой момент, но она упорно и неутомимо делает свое дело. Да, отношение к Фоули потихоньку меняется, по крайней мере, рекомендация его как друга Кете многого стоит, и факт, что он разведчик, обуславливает его поведение уже не столько трусостью и черствостью, сколько предусмотрительностью и осторожностью. Однако встреча с феей, конечно, заставила и улыбнуться, и удивиться. Ну, Эд прав, ничего не попишешь: все мужчины теряют голову от Агны Кельнер, он по себе знает))) И то, как этот с иголочки одетый, запакованный в твидовый костюмчик британец вдруг потерял дар речи, способность мыслить трезво и связывать слова последовательно, было даже забавно, вот только, увы, чары Агны не привели к нужному результату: вместо того, чтобы пасть перед ней на колени и спешить выполнить любой каприз, Фоули отказал ей и весьма жестко, отказал в присутствии своей подруги Кете. Быть может, подумал, что его пытаются перевербовать?...)))) Да, эта линия однозначно цепляет и интригует. Но... не могу не подчеркнуть, какой щемящий осадок оставляет последняя фраза Эда, что таких вот мгновений у Эла и Мариуса, а там и у них, уже, может и не будет. Конец 38 года. Через полгода уже начнется Вторая мировая война. А до конца истории (каждый раз с тоской смотрю на оглавление) осталось всего три главы... И мне и хочется, и колется листать страницы дальше. Слишком страшно за героев - раньше, хоть с ними и происходили самые ужасные вещи, а все-таки объем книги располагал к надежде, что они как-нибудь выберутся. Но теперь... неужели вот-вот будет подведена черта?.. Спасибо вам огромное! 1 |
|
|
Anna Schneiderавтор
|
|
|
1 часть ответа.
Показать полностью
h_charrington Здравствуйте! Вот, я снова плачу. Вообще я очень ценю моменты, когда искусство вызывает во мне такую реакцию. Это настоящие переживания, они как ничто показывают, как искусство проникает в жизнь и обнажает самые сокровенные и красивые, осмысленные и значимые её моменты. Спасибо за такие чудесные слова. Эти главы писались в диком цейтноте: не знаю, что или кто меня торопил. Но писать все эти главы, заключительные, спокойно и медленно, я просто не могла. И если получилось передать в тексте хотя бы часть настоящего, то я очень-очень рада. Над чем я плакала в этот раз? Во-первых, конечно же, сцена встречи Мариуса и Эл. Вначале я была обескуражена, как это, он ее не узнает, а еще так озлоблен, что готов растерзать своих спасителей!.. Но что еще можно было требовать от человека, на глазах которого убили мать? И не просто не дают ему прожить горе, а вокруг во всеуслышанье объявляют, что "ничего такого" не было... какая гнусность, какая ложь... Мальчику 12 лет, он не способен думать о целесообразности, безопасности, благоразумии... И, может, он честнее и искреннее всех собравшихся. Это взрослые могут запирать сердце на замок, зашивать рот суровой ниткой, и в страшном мире Берлина конца 30-х, где все говорят шепотом, а лучше - вообще молчат, нам просто необходим был этот крик разгневанного, обездоленного ребенка. Я сама была удивлена встречей с Мариусом. Таким Мариусом, и удивлена такой встречей. И, в то же время, а как могло быть иначе? Он видел то, что никому, тем более ребенку (еще) не пожелаешь. И всему этому гневу, всей этой боли в том Берлине не то что нет, а, по заветам нацистов, не должно быть места. И что делать? Как выразить эту дикую боль? Вот и остаются безрассудные, конечно, с точки зрения взрослых, забеги по городу с ножом. Но и сами взрослые недалеки от своей грани. Когда грань стирается, некоторые взрослые идут к веревке или к воде. Я не думаю, что Кете, Эл или Эд не честны здесь. Они, как никто, все понимают. Все, на самом деле. И, если бы могли, они бы тоже кричали от ужаса. Но нужно, необходимо ради жизни смирить себя. Иначе из этого ада и Мариус не выберется. Эд, как никто, понимает боль Мариуса. К тому же, он и Эл переживают боль от утраты своего малыша. У Кете много своих ран, ее жизнь тоже не благополучна. Но ради спасения нужно перестать кричать. И действовать. Иначе все они умрут от горя, если задумаются о нем и остановятся на месте. Конечно, это и больно, и невыразимо, и страшно. Но дорога ведет только вперед. И когда сейчас я порой слышу о попытках говорить о преступлениях нацистов "помягче", у меня волосы дыбом встают. Я сначала хотела пересказать своими словами. Но лучше дам прямую цитату (Борис Полевой, "В конце концов"): "Вот подвал — опять трупы, сложенные аккуратными штабелями, как на заводских складах размещают сырье. Да это и есть сырье, уже рассортированное по степени жирности. Вот отдельно в углу отсеченные головы. Это отходы. Они негодны для мыловарения, а может быть, нацистская наука отстала от потребностей жизни и еще не нашла метода промышленного использования человеческих голов. А вот расчлененные человеческие тела, заложенные в чаны, — их не успели доварить в щелочи". Это даже невозможно ни осмыслить, ни комментировать. И это — только часть сделанного нацистами. И об этом "помягче"?.. И тем сильнее впечатление, когда он наконец-то из-за кровавой пелены перед глазами сумел различить и узнать перед собою Эл. Свою фею-крестную... Конечно, он по-рыцарски, по-юношески влюблен. И я думаю, это прекрасно для него - быть влюбленным в такую женщину, как Элисон Эшби. Да, вы правы. Любовь с людьми способна творить чудеса. И здесь такое чудо Мариусу необходимо. Чтобы не сойти с ума. Потому что Мариус, как всякий переживший потерю человек, нуждается в утешении. но не приторно-сладком, а в трезвящем. И Эл иное дать и не может. Она видит своими глазами весь ужас происходящего, она все прекрасно понимает, она переживает свою боль, свой страх, она ведет свою борьбу. И те чудесные мгновения, о которых говорит в финале этой главы Эд, они возможны между Мариусом и Эл именно потому, что там не будет притворства, попыток "сгладить углы", отвлечься на что-то несущественное, затереть и забыть(ся). Это не значит, что в их общении они будут обмусоливать новости или говорить лозунгами сопротивления, но там будет честность и чистый взгляд на мир, даже если разговор будет идти о самых отвлеченных вещах. Впереди очень важный разговор Эл и Мариуса. И он именно такой, как вы предполагаете. А те слова Эдварда вызывают во мне острую боль. Потому что известно, что и сколько за ними стоит. И конфликт, который на протяжении главы охладил отношения Эда и Эл касательно всей ситуации, тоже очень понятен. Эл вся - сердце, она чувствует, что вот сейчас - самые что ни на есть мгновения жизни, и ее мечта стать матерью вот так внезапно осуществилась. Конечно, она видит в Мариусе сына. С самого начала видела. Это невероятно трогательно не в слезливо-сентиментальном смысле, а опять же в своей правде, в том, что это - кусочек счастья для несчастной Эл, и это надежда и возможность приподняться после потерь для Мариуса, это тот опыт, который жизненно необходим им обоим. Иначе и здесь быть не могло. Эл — именно раскрытое сердце. И ничто не может заставить ее действовать иначе. Да, я тут сама говорю про "делать", "собраться". Но когда на плечах столько всего, то иногда это становится совсем невыносимой тяжестью. Ценно и радостно для меня то, что Эл и Эд теперь, даже будучи в непонимании, иначе ведут себя. Оба. Переживают не меньше, но внешне ведут себя иначе. И за всем этим — громадное понимание боли другого, сочувствие, несогласие с ним и любовь. Второй раз меня пробило, когда Эд вновь вспоминал об аварии своих родителей. Теперь его мысли были сконцентрированы вокруг отца. И эти говорящие без всяких слов подробности... Как он аккуратно уложил его руку... Как ему пришло осознание, что на горячая, потому что на самом деле уже остыла, но ее нагрело солнце... И страх, и ужас, и боль, и оцепенение, которое приносит потеря, и то таинственное действие любви, которое выражается в горе. Спасибо, что так сочувствуете Эдварду. Мне безумно больно за него. И я очень горжусь им. Тем, как он смог, — пусть неровно (а ровно не будет уже никогда) — собрать себя напополам с этой утратой. Не люблю мелодраматическиих сцен, с криками "на разрыв аорты". Но в таких движениях, как здесь, деталях, взглядах, касаниях руки, мыслях — гораздо больше правды. Они, в то же время, очень точно характеризуют Эда. И воспоминания эти накрывают Милна все чаще. Значит, и его прочность подтачивается. Шокировал эпизод с Эрихом, вот же подонок, мало из него Эд сделал отбивную? Кстати, вспоминаю, что я была уверена тогда на боксерском поединке, что Эд его именно что насмерть избил (и, кажется, сам Эд так решил поначалу). Сейчас допускаю, что Эд (и я) подумал так, потому что пережил внутри ту ненависть и остервенелую ярость, которая и доводит человека до возможности совершить убийство. Внутри переступлена какая-то грань, и это пугает. Не успела я задуматься, испытываю ли облегчение, что Эд все-таки не убил Эриха, как эта скотина (пардон, но мерзавец же) вваливается в сюжет и самым варварским образом ведет Эда на пытки... просто потому что может. Просто потому что он не Зофт, который удовлетворился бы ответами Эда и отступил до поры, а потому что сделал именно то, чего Зофт себе не позволяет: выбесило его, что Эд явно умнее, находчивее и проворнее, и просто использовал право сильного. А вот там Эрих — во всей своей красе. Конечно, нет разницы (только внешняя) между ним и Зофтом. И, кстати, говоря о Зофте, скажу, что он еще себя "проявит". Так, как Эриху не снилось и не думалось. Я думаю, в конце поединка Милна ослепило его эмоциональное состояние, мысли об Элис, и знание, что он убивал, и — много. Именно поэтому в конце боксерского раунда у него нет никакой радости от победы, с которой его поздравляли буквально на каждом шагу. Да, — это Хайде, и он враг. Но и в отношении к нему Милн не испытывает жажды убийства. Ну, а Эрих, как видим, ни в чем себя не сдерживает. Тем больше, что знает за собой именно все то, что так бесит его в Харри — ум, утонченность, выдержку, настоящую силу. Поэтому Хайде делает то, что в его власти. Может увести на допрос. И уводит. И, конечно, долгая партия с Зофтом может привести к последствиям попросту необратимым и гораздо более страшным, чем сеанс избиения за десять метров от собственного рабочего места, однако вот это отсутствие всяких правил, беспринципность, звериная жестокость и тупая сила... Это страшно. Страшно, страшно... Нам все еще необычно отсутствие морали и правил. И пока это так, мы остаемся людьми. А вот это "могу" Эриха стоит именно на том, что в его власти допросить Кельнера. Неважно, виновен он или нет. Само чувство власти и безнаказанности (хоть забей до смерти) таких мразей пьянит. И да, это страшно. |
|
|
Anna Schneiderавтор
|
|
|
h_charrington 2 часть.
Показать полностью
Интересен был отрывок от лица Зофта, как всегда, мурашки по коже пробегают, когда благодаря мастерству автора как бы влезаешь в шкуру зверя. Так было с Биттрихом, с насильником в Хрустальную ночь, теперь вот - очередной хищник. Умный, самовлюбленный, уверенный, что он идет на жертву ради "искусства контрразведки", просиживая часы в неудобной машине. Спасибо за комплимент тексту. Меня же искренне не перестает изумлять вот это непробиваемая уверенность и вера нацистов в то, что они заняты правым делом, и что все, сделанное ими — во имя истины и торжества справедливости. Вот как они смогли так откалибровать свои мозги, все извратить в сути своей? Зато какая красивая и эффектная сцена погони! Как Эд выложился на все сто! Такое опасное и красивое сочетание предельного риска и максимального контроля... Да, я вторила словам Эл: "Никогда не видела тебя таким..." Вспомнила сцену, где Руфус катает Росауру на метле)) Обстоятельства у них, конечно, куда как благоприятнее, здесь-то у Эда ни толики "лихачества ради лихачества". Он спасает их жизни, но в то же время играет с огнем. Он дает нам увидеть на пару мгновений, в каком адском напряжении он живет каждодневно, и этот порыв, от него веет такой жизненной силой, жаждой, скоростью... Вспоминаю о том, как Эд увлекся гонками вскоре после смерти родителей, чтобы на грани жизни и смерти ловить этот адреналин и чувствовать себя живым. Мне кажется, это была главная потребность у него и сейчас. Постоянно играть роль, быть на пределе контроля, оберегать Эл, оставаться сильным, невозмутимым, несокрушимым... Вот так красиво и пугающе прорвалось это напряжение. Взрослый мальчишка тоже нашел способ отпустить накопившееся напряжение:) Есть в Милне этот неутихающий азарт, даже в окружающих обстоятельствах. И эту его остроту, этот кураж, любовь к риску и смелость на грани отчаянности и опасности, я очень в нем люблю. В этом тоже — та самая жажда жизни, о которой вы упомянули. В общем, девочки любуются такими мальчиками:) И в такие моменты — особенно. Улыбнулась той сцене с Руфусом и Росаурой:)) Кому метла, а кому автомобиль. Транспорт роздан согласно времени действия. И я тоже думаю, что чисто по-мужски для Эдварда это важно: выдерживать всё, стараться еще больше. Не только ради себя, но ради любимой Эл. Быть мужчиной и оставаться им, оставаться сильным, быть именно тем, к кому Эл может прибежать ночью, перепуганная от собственных волнений, или сказать: "объясни мне, я, кажется, совсем запуталась". А он улыбнется и объяснит. Знакомство с Кете вселяет веру в сильных, несломленных людей, которых изрядно пинала судьба, но они не сдались. В ее положении она может подвергнуться насилию, преследованию, быть заключенной в тюрьму, лагерь, а то и вовсе быть расстерелянной, в любой момент, но она упорно и неутомимо делает свое дело. Кете Розенхайм — это реальная личность. И место ее работы, и детали ее биографии, все — от реальной Кете. Она в самом деле занималась программой "Киндертранспорт", она помогла огромному количеству людей. И не уезжала из Берлина до самой последней, крайней минуты. Сопровождала детей в поездках, и могла бы выехать сама. Но возвращалась, и помогала снова и снова. Только когда ей уже совсем грозила смертельная опасность, она выехала из Берлина вместе со своей мамой. На таких чудесных людях и держится наш мир. Однако встреча с феей, конечно, заставила и улыбнуться, и удивиться. Ну, Эд прав, ничего не попишешь: все мужчины теряют голову от Агны Кельнер, он по себе знает))) И то, как этот с иголочки одетый, запакованный в твидовый костюмчик британец вдруг потерял дар речи, способность мыслить трезво и связывать слова последовательно, было даже забавно, вот только, увы, чары Агны не привели к нужному результату: вместо того, чтобы пасть перед ней на колени и спешить выполнить любой каприз, Фоули отказал ей и весьма жестко, отказал в присутствии своей подруги Кете. Быть может, подумал, что его пытаются перевербовать?...)))) Да, эта линия однозначно цепляет и интригует. Хотелось хотя бы где-то, хоть капельку иронии и улыбки. И тут, — бац! — Фрэнк:)) Его, кстати, чувства к Агне доведут до отчаяния, и он предпримет свой рискованный поступок. Но... не могу не подчеркнуть, какой щемящий осадок оставляет последняя фраза Эда, что таких вот мгновений у Эла и Мариуса, а там и у них, уже, может и не будет. Конец 38 года. Через полгода уже начнется Вторая мировая война. А до конца истории (каждый раз с тоской смотрю на оглавление) осталось всего три главы... И мне и хочется, и колется листать страницы дальше. Слишком страшно за героев - раньше, хоть с ними и происходили самые ужасные вещи, а все-таки объем книги располагал к надежде, что они как-нибудь выберутся. Но теперь... неужели вот-вот будет подведена черта?.. Мне безумно больно было заканчивать историю моих ребят. Я очень остро и долго все это переживала. Но, работая над этими главами, знала: они — завершающие. Я вам очень благодарна за такое искреннее, неравнодушное прочтение истории. Очень не хочется расставаться с таким собеседником и читателем, как вы. Могу предложить в качестве нового текста (если, конечно, вы захотите читать) "Хрупкие дети Земли". Космоса там совсем немного, и только в первой главе. А истории о людях, по сути, все те же: со своими взлетами и падениями, со своим светом и со своей любовью. И, конечно, незаурядный главный герой, с ярко-голубыми глазами:) Спасибо за отзыв! |
|
|
h_charrington Онлайн
|
|
|
Здравствуйте!
Показать полностью
Давно прочитала главу, но не сразу нашла время, чтобы написать отзыв. Тем более ощущения были очень тягостными от первой части, где идет мучительное погружение в самые жуткие воспоминания Эда... Честно, в какой-то момент натурализм и звериное удовольствие, которое получал риф от пыток Эда достигли такой грани, что читать стало почти невыносимо - в хорошем смысле слова, поскольку эффект оглушительный получился. Это ни в коем случае не воспринимается как "чернуха ради чернухи", это вновь мучительный, я полагаю, и для автора, и для читателя эксперимент - взглянуть на происходящее глазами палача, а не жертвы, и мы, лишенные сочувствия к герою, глазами которого смотрим на мир, должны в подробностях впитывать каждую секунду его злодеяния. Мы уже проходили это с Биттрихом, с Ханной, с бандитом из переулка, с Зофтом, и вот - безымянный риф. Которого, несмотря на жуть сцены, можно понять (не оправдать, но понять... до тех пор, пока он не переходит грань человечности и не становится сущим зверем. Потому что одно дело - защищать свою землю и уничтожать врага, а другое - вот это хищническое, садистское извращенное удовольствие от причинения мук другому живому существу). война, которая ведется в отрыве от понятий долга, чести и моральных законов, всегда будет войной зверей. Долгие годы, века, земля рифов была разменной монетой "цивилизованных" людей. Которые и в середине 20 века фотографируются с головами рифов. И считают себя проводниками Культуры именно что с Большой Буквы. Ох, тема колониализма и "бремени белого человека" - очень болезненная и приводящая меня в возмущение, по сути-то недалеко ушедшая от истории нацизма. Мне кажется очень важным, что в вашей книге линия Эда проходит в нацистский Берлин именно через войну с рифами, хотя в Европе тех лет тут и там творились зверства, вполне себе предвещавшие ад 2МВ. Но мне особенно кажется ценным, что Эд, скажем так, побывал по обе стороны баррикад. Он выступил (почти невольно) на стороне поработителей, захватчиков, которые пришли в чужую землю как хозяева, хотя не имели на это никакого иного права, кроме варварского права сильного. Конкретно Эд, быть может, не совершал военных преступлений, но, как на любой войне, он убивал, только вопрос, ради чего и ради кого. Просто потому что приказали, потому что направили. Солдату не пристало задумываться, за что он убивает врагов, правда?.. или благодаря опыту 20 века этот вопрос все же выходит за рамки риторического? Конечно, читая о мучениях Эда, попросту нечеловеческих (признаюсь, некоторые моменты я просто не смогла прочитать, зная, что у меня бывает непредсказуемая реакция на натуралистические описания ранений - прости, Эд! Вот видишь, я, например, не смогла полностью испить твою чашу...), невероятно ему сочувствуешь, но больше задаешься в конце концов вопросом: почему, почему люди становятся как звери? Почему причиняют друг другу столько боли, страданий, почему в них (да что уж там, в нас) столько вражды и ненависти? Где предел, "доколе"? Такое ощущение, что предела нет. И боль терзает Эда всерьёз, как будто всё это было не то что вчера, а вот прямо сейчас, пока он спал в объятьях Элис. Страх, боль и ненависть вырывают его из призрачного покоя, отнимают у него и без того сосчитанные уже минуты нежности и радости. Бедный Эд, бедная Элис! Сердце ее привело к нему, она почувствовала, что он не справляется, что он ослаб, что ему больно и тяжело. Но вот правда, как в такое "впустить" другого человека? Даже не то что пустить... рассказать-то можно. Можно описать. Даже такими вот страшными, жестокими словами. Вопрос скорее, а поможет ли, если другой человек будет об этом знать? Насколько это безотказный способ, когда мы поверяем душу другому? Очень велик риск столкнуться с непониманием, преувлеличенной жалостью или любой другой реакцией, которая, ну вдруг, сделает только хуже? Быть может, и не всегда обязательно душу наизнанку выворачивать, бередить раны? Просто тот, другой, должен смириться, привыкнуть и с пониманием отнестись к этим состояниям, болям, страхам своего избранника. Не торопить, не сетовать, не закрывать глаза. И... не думать, что это когда-нибудь пройдет. У меня в черновиках Росаура говорит Руфусу: это пройдет. А он отвечает: лучше жить так, как будто не пройдет. И мне видится в этом не пессимизм или упадничество, а трезвый взгляд и мужество. Если у человека отрублена рука, он не живет с мыслью, что она когда-нибудь снова вырастет. Он приноравливается быть одноруким. Не называя себя "здоровым", кстати. Эта честность, которой, мне кажется, в наше время очень старательно избегая, на каждую проблему придумывая кучу других названий, лишь бы не называть проблему проблемой, что в итоге это сводится не к решению ее, а наоборот, к усугублению. Мне кажется, мы на протяжении всей истории еще не видели Эда настолько слабым. Говорю это безо всякого, Боже упаси, разочарования или укора, он непрестанно заслуживает восхищение, что вообще держится и взваливает все на себя, но его неизменная улыбка, с которой он выходил из страшных переделок и словесных дуэлей с самим Гиббельсом, создавала иллюзию, что его стальные нервы и железная выдержка не могут быть сломлены вообще. Но они истончаются. И здоровье подводит. И это так больно читать и видеть, когда молодой, сильный, красивый человек в своем возрасте уже растратил себя, уже не может с той же легкостью, как и в 20 лет, выйти из кризиса, побороть болезнь, бессонницу, нервозность и тд. Это очень трагично и жизненно, когда человек оглядывается сам на себя и вдруг видит, что он уже "не тот, что раньше". Как ни прискорбно, это касается всех нас. И в мирное время, и в более опасное. Такая неумолимость времени и жизни. В случае Эда и Элис помноженная на беспощадность обстоятельств. Омерзительные попытки Зофта унизить и вывести из себя Эда и Эл вызывают чувство отвращения. Хотелось сказать ему, ну что ж, и ты, "злодееще", оказался червем калибра Ханны, который только и может придумать, чтобы давить беззащитной женщине на ее самое очевидно больное место, и ухмыляться? Этот подлый прием, низкий и грязный, обличает и в высокоумном Зофте и в глупой Ханне людей, которые понятия не имеют, что такое любовь. Им кажется, что спустя пять лет брака Эл и Эд вдруг с их насмешек возьмут и разбегуться? Разули бы хоть чуток глаза свои, увидели бы, что Эд за Эл горой, уж сколько раз их пытались рассорить, развести, но даже измена их брак не расколола, чего ж они... Глупые, мерзкие твари. Простите, иначе язык не поворачивается помягче сказать. Не заслуживают такие чудища мягкости и снисхождения. А Эл и Эд... держитесь, ребята. Держитесь. На фоне пережитого эти гадкие поддевки - как укусы комара слону, но, увы, если укус произведен в больное место, он все равно будет ощутимым. Для Эл бездетность - причем не врожденная, а приобретенная по вине людей и самого времени - это незаживающая рана. Никак этого не исправить. И я просто говорю: слава Богу, сейчас у нас все-таки хоть немного сменился менталитет. Сейчас человек, который попробует осуждать вслух женщину за бездетность, вызовет только осуждение окружающих (я надеюсь), а женщина не будет (надеюсь) испытывать стыд или чувство вины! Боль - да, но это будет ее выбор, а не давление общественности. Ох, как же это гнусно. Эл, мое сочувствие всецело с тобой. Знаете, мне приснилось после этой главы вскоре, что я читаю следующую, и она оканчивается тем, что Эл и Эд на каком-то званом вечере, и вдруг в дом врывается отряд солдат. Всем понятно, что дорога отсюда теперь одна.. И... Эд достает гранату, говорит Эл, что любит ее, и на его улыбке заканчивается глава. И я боюсь открыть следующую, потому что не знаю, что нас там ждет. Вдруг - Эпилог и пара строк? Или мучительное описание последних минут? Вот и сейчас смотрю на две (!!!) оставшиеся главы. Не могу оторваться от этой истории (разве приходится прерываться из-за насущных дел), но как думаю, что там, на следующей странице, сразу так страшно и горько... Потому что ощущение, что жизни Эда и Эл могут оборваться в любую, вот в совершенно любую секунду, очень острое. Особенно после того, как оба они признали, что не хотят обживаться в новом доме... Но еще хуже - думать о том, а вдруг кому-то придется пережить другого, и как это вообще будет возможно для них, как их великая любовь это стерпит? Хотя, что, разве Кайла и Дану не любили друг друга, разве война не обрекала любимых на то, чтобы расстаться навсегда? Это настолько общая трагедия, рядовая, можно сказать, но я просто не могу вместить эту боль, думать, что с этим в те страшные времена столкнулся, считай, каждый.... 1 |
|
|
Anna Schneiderавтор
|
|
|
h_charrington
Показать полностью
Здравствуйте! Часть 1. Тем более ощущения были очень тягостными от первой части, где идет мучительное погружение в самые жуткие воспоминания Эда... Честно, в какой-то момент натурализм и звериное удовольствие, которое получал риф от пыток Эда достигли такой грани, что читать стало почти невыносимо - в хорошем смысле слова, поскольку эффект оглушительный получился. Это ни в коем случае не воспринимается как "чернуха ради чернухи", это вновь мучительный, я полагаю, и для автора, и для читателя эксперимент - взглянуть на происходящее глазами палача, а не жертвы, и мы, лишенные сочувствия к герою, глазами которого смотрим на мир, должны в подробностях впитывать каждую секунду его злодеяния. Я понимаю. Писать подобные моменты очень тяжело. Да, как автор я в момент написания знала, — Эд выжил, выбрался и из той "передряги". Но все же это очень страшно. И дело как раз в том, как рифу нравилось управлять той ситуацией. Я тоже могу понять враждебность к противнику, до определенного момента. Но здесь, как вы верно заметили, мы видим иное: удовольствие от расправы, с которой рифа никто не торопил, и торопить не мог. Это наслаждение болью другого. Пытка физической болью. Да, Милн тоже убивал на той войне и потом, он пришел, как и другие французы с испанцами, как сторона силы, с расчетом на выигрыш. Только вот выигрыш в таких битвах, — всегда за теми, кто управляет такими солдатиками. Как у Высоцкого: Будут и стихи, и математика, Почести, долги, неравный бой. Нынче ж оловянные солдатики Здесь, на старой карте, встали в строй. Вот и там, в Фесе или в Марокко, они — такие же солдатики. Я не оправдываю Эда, мне в этой ситуации важно было, как автору, решить иное: показать, как появились те шрамы, что у него остались. Не знаю, возникают ли у читаталей вопросы об этом по мере чтения текста, но мне, как автору, было важно дать ответ и на эту ситуацию. И та война, в самом деле, очень сильно повлияла на него. В общем, мы видим, что это событие — из ряда тех, что всегда с ним. И как Эл (если проводить параллель между ними и тем, что с ними происходило в их 18-19 лет) навсегда запомнит домогательства Гиббельса, случившиеся в самое первое ее время в Берлине, так и Эд будет дальше нести в себе след той войны. Мне кажется очень важным, что в вашей книге линия Эда проходит в нацистский Берлин именно через войну с рифами, хотя в Европе тех лет тут и там творились зверства, вполне себе предвещавшие ад 2МВ. Но мне особенно кажется ценным, что Эд, скажем так, побывал по обе стороны баррикад. Он выступил (почти невольно) на стороне поработителей, захватчиков, которые пришли в чужую землю как хозяева, хотя не имели на это никакого иного права, кроме варварского права сильного. Конкретно Эд, быть может, не совершал военных преступлений, но, как на любой войне, он убивал, только вопрос, ради чего и ради кого. Думаю, и тогда, и позже, повзрослев, оказавшись в Берлине, Эд понимает: та война, как и всякая другая колониальная, — на обогащение. Ему, мальчишке, как и испанским нищим мальчишкам, которых гнали на войну, с той битвы "ничего": умерли? И ладно. А за счет того, что Милн, как вы сказали, побывал по обе стороны баррикад, я уверена: никакого удовольствия от убийства рифов он не испытывал. Ни тогда, ни позже. И он — такая же разменная монета. Я пишу это, и понимаю, что если бы не Эд, столь близкий мне герой, я написала бы иначе. Потому что для меня всегда это вопрос: вольный или невольный ты участник войны? Я не особо верю в прозрение или раскаяние пленных, и сегодняшних, со стороны ВСУ, в том числе. Я не хочу их слушать. Но здесь, в случае Милна, для меня все иначе. И все же, такой злости, зверства, что показывает риф, в нем нет. Я ни разу не замечала в нем удовольствия или наслаждения от боли другого, даже противника. Даже если это Хайде, к примеру. И, хотя, по крайней мере, во Второй Мировой ясно, что чему противостоит (для Эда тоже ясно), выходит, что та, рифская война — очередная "просто война". А Франция и сегодня мучительно не хочет отпускать свои колонии. Которые сегодня уже типа и не колонии. Конечно, читая о мучениях Эда, попросту нечеловеческих (признаюсь, некоторые моменты я просто не смогла прочитать, зная, что у меня бывает непредсказуемая реакция на натуралистические описания ранений - прости, Эд! Вот видишь, я, например, не смогла полностью испить твою чашу...), невероятно ему сочувствуешь, но больше задаешься в конце концов вопросом: почему, почему люди становятся как звери? Почему причиняют друг другу столько боли, страданий, почему в них (да что уж там, в нас) столько вражды и ненависти? Где предел, "доколе"? Такое ощущение, что предела нет. Я тоже не поклонник таких описаний. Но лично мне, как автору, было нужно и важно это прописать. Быть со своим героем не только в минуты радости или шутки, но и в такие. Особенно в такие. И задача автора здесь — выдержать и записать. У читателя есть право отойти в сторону, пропустить, если тяжело, а у автора — нет. У него есть вместо этого обязанность пройти со своим героем все пути. Всё увидеть, всё договорить. У меня всё последнее время ощущение такое же: пределов нет. Даже если читать новости быстро. Читаешь и думаешь: как это возможно? И ответа нет. И боль терзает Эда всерьёз, как будто всё это было не то что вчера, а вот прямо сейчас, пока он спал в объятьях Элис. Страх, боль и ненависть вырывают его из призрачного покоя, отнимают у него и без того сосчитанные уже минуты нежности и радости. Бедный Эд, бедная Элис! Сердце ее привело к нему, она почувствовала, что он не справляется, что он ослаб, что ему больно и тяжело. Но вот правда, как в такое "впустить" другого человека? Даже не то что пустить... рассказать-то можно. Можно описать. Даже такими вот страшными, жестокими словами. Вопрос скорее, а поможет ли, если другой человек будет об этом знать? Насколько это безотказный способ, когда мы поверяем душу другому? Очень велик риск столкнуться с непониманием, преувлеличенной жалостью или любой другой реакцией, которая, ну вдруг, сделает только хуже? Быть может, и не всегда обязательно душу наизнанку выворачивать, бередить раны? Просто тот, другой, должен смириться, привыкнуть и с пониманием отнестись к этим состояниям, болям, страхам своего избранника. Не торопить, не сетовать, не закрывать глаза. И... не думать, что это когда-нибудь пройдет. У меня в черновиках Росаура говорит Руфусу: это пройдет. А он отвечает: лучше жить так, как будто не пройдет. Да, я тоже думаю, что для Эда нет временного расстояния между его страшным "прошлым" и тем днем, который для него — сегодняшний. Всё это поразительно об одном, по сути. В Элис, опять же, уже почти ничего не осталось от той юной девочки, только приехавшей в Берлин. А если осталось, то это глубоко спрятано. И теперь она выдерживает такие происшествия. Если раньше Эд все больше помогал ей, а она пряталась за него в поисках защиты, пожимая руку украдкой, то теперь она спасает его. Таков долг. Любви, долг человека. Долг той, что знает всё лучше всех, и обязана, — скрепив свои страдания и страхи, — помочь и превозмочь. Да, Эдвард — сильный. Но иногда даже самому сильному нужна помощь. Я думаю, что о войне Эд никогда не скажет Эл. Не потому, что она не поймет. "Благодаря" Берлину она многое сможет понять и без слов. Но как это объяснить, какими словами выразить? Эда во многом поддерживает именно любовь Элис в настоящем. А то его прошлое, стань оно известно Эл, отяготит их двоих. Лучше его оставить там, где оно уже есть, — в прошедшем времени. В ответе Руфуса мне видится очень много Руфуса и истинной правды. Я согласна с ним. И с вами. Сегодня мы, как будто, все пытаемся сказать себе и другим: как бы чего не вышло. Не говорить прямо. Не говорить серьезно. Не пугать. "Давайте не будем о грустном". Можно, конечно. Только где в этом правда? И настоящее? Или мы всегда будем стоять за этот удобный инфантилизм? Из серии "на Украине нацизма нет". Нет, что вы. Просто так поклонники Гитлера с флажками, да в ночных шествиях ходили. Но вы не бойтесь, это совсем не опасно. Мне кажется, мы на протяжении всей истории еще не видели Эда настолько слабым. Говорю это безо всякого, Боже упаси, разочарования или укора, он непрестанно заслуживает восхищение, что вообще держится и взваливает все на себя, но его неизменная улыбка, с которой он выходил из страшных переделок и словесных дуэлей с самим Гиббельсом, создавала иллюзию, что его стальные нервы и железная выдержка не могут быть сломлены вообще. Но они истончаются. И здоровье подводит. И это так больно читать и видеть, когда молодой, сильный, красивый человек в своем возрасте уже растратил себя, уже не может с той же легкостью, как и в 20 лет, выйти из кризиса, побороть болезнь, бессонницу, нервозность и тд. Это очень трагично и жизненно, когда человек оглядывается сам на себя и вдруг видит, что он уже "не тот, что раньше". Как ни прискорбно, это касается всех нас. И в мирное время, и в более опасное. Такая неумолимость времени и жизни. В случае Эда и Элис помноженная на беспощадность обстоятельств. Да, здесь он слаб от усталости, устал от взятой на себя тяжести. И взято все это по причине того, что кроме него — никто. А он, как и все, — просто человек. Который и без того не дает себе ни минуты покоя, который взрастил в себе это долженствование гораздо выше собственных нужд или желаний. Это и накопительный эффект. Чувствовалась, к моменту написания этой главы, громаднейшая усталость от всего. Иногда я даже не знала, как мы из этого выйдем. И выйдем ли. А страшнее становится именно от того, что и такие сильные, как Милн — устают. И за собой, конечно, все эти перемены от времени примечаешь. Но сдаваться все равно нельзя. Даже если не видно пути. 1 |
|
|
Anna Schneiderавтор
|
|
|
Часть 2.
Показать полностью
Омерзительные попытки Зофта унизить и вывести из себя Эда и Эл вызывают чувство отвращения. Хотелось сказать ему, ну что ж, и ты, "злодееще", оказался червем калибра Ханны, который только и может придумать, чтобы давить беззащитной женщине на ее самое очевидно больное место, и ухмыляться? Этот подлый прием, низкий и грязный, обличает и в высокоумном Зофте и в глупой Ханне людей, которые понятия не имеют, что такое любовь. Им кажется, что спустя пять лет брака Эл и Эд вдруг с их насмешек возьмут и разбегуться? Разули бы хоть чуток глаза свои, увидели бы, что Эд за Эл горой, уж сколько раз их пытались рассорить, развести, но даже измена их брак не расколола, чего ж они... Глупые, мерзкие твари. Простите, иначе язык не поворачивается помягче сказать. Ничего:) Я про Ханну и не так еще думала. Про Зофта нет, потому что как-то предпочитала не тратить на него сил. Просто сесть, написать и увидеть, как с ним будет в конце истории. Зофт, в силу своего ума, конечно, не похож на Хайде, которого ненависть и жажда мести уже накрывает. Зофт выглядит этаким "достойным противником", но, как видно, ничего он не гнушается. Да и зачем, если все эти "приемы" так для него естественны, привычны? Уколы Ханны на счет бездетности Эл, еще можно хоть как-то списать на ее эмоциональную жестокость и тупость, и зависть, и дикую ревность. Но тут... "мужчина"... Не нашел, как и безумная Ланг, ничего лучше этих мер? Про любовь в отношении Зофта и Ханны и таких, как они, даже говорить не приходится. Это просто что-то несовместимое. Внешне — люди. А внутри ничего нет. Одни директивы да настройки нацизма. И вместе с тем, я очень рада той потрясающей, настоящей близости, что установилась между Элис и Эдвардом. Это то, чего я им всегда желала. Но в иные, очень острые и страшные моменты, совсем не была уверена, что они смогут дойти до такого сближения. Потому что, к примеру, после измены Эда, у меня не была уверенности и в том, что они смогут быть вместе. Так, как того требует разведка (если говорить об их общем деле; а чувств Элис и Эдварда тогда и касаться было страшно). А Эл и Эд... держитесь, ребята. Держитесь. На фоне пережитого эти гадкие поддевки - как укусы комара слону, но, увы, если укус произведен в больное место, он все равно будет ощутимым. Для Эл бездетность - причем не врожденная, а приобретенная по вине людей и самого времени - это незаживающая рана. Никак этого не исправить. И я просто говорю: слава Богу, сейчас у нас все-таки хоть немного сменился менталитет. Сейчас человек, который попробует осуждать вслух женщину за бездетность, вызовет только осуждение окружающих (я надеюсь), а женщина не будет (надеюсь) испытывать стыд или чувство вины! Боль - да, но это будет ее выбор, а не давление общественности. Ох, как же это гнусно. Эл, мое сочувствие всецело с тобой. Спасибо большое. Они держатся. Конечно, слова, какими бы сильными ребята ни были, доходят в какой-то степени до цели. Но... нужно именно держаться. Непозволительно, как бы больно ни было, перед лицом настоящих угроз, тратиться на Зофта. Он этого и добивается, конечно. Я думаю, что менталитет наш, на деле, в смысле бездетности, сменился именно "немного". Но хорошо, что возможностей, свободы у женщин стало больше. Знаете, мне приснилось после этой главы вскоре, что я читаю следующую, и она оканчивается тем, что Эл и Эд на каком-то званом вечере, и вдруг в дом врывается отряд солдат. Всем понятно, что дорога отсюда теперь одна.. И... Эд достает гранату, говорит Эл, что любит ее, и на его улыбке заканчивается глава. И я боюсь открыть следующую, потому что не знаю, что нас там ждет. Вдруг - Эпилог и пара строк? Или мучительное описание последних минут? Вот и сейчас смотрю на две (!!!) оставшиеся главы. Не могу оторваться от этой истории (разве приходится прерываться из-за насущных дел), но как думаю, что там, на следующей странице, сразу так страшно и горько... Потому что ощущение, что жизни Эда и Эл могут оборваться в любую, вот в совершенно любую секунду, очень острое. Особенно после того, как оба они признали, что не хотят обживаться в новом доме... вам очень признательна за такое искреннее отношение к героям. Удивительно, что вам приснился сон о них. К сожалению, все идет к завершению. Как бы горько и больно это ни было. И состояние ребят именно такое, как вы сказали: все может окончиться, оборваться в любую минуту. Остается в таких случаях только все та же надежда. Призрачная она или нет. Правда, Скримджер? К сожалению, страданий в том времени столько, что, кажется, не перечесть. И много было любящих до Элис и Эдварда, и много после, кто терял своих. Но они — всё, что у них есть. У Эдварда есть только Эл, у нее — только он. И, я думаю, ни один из них без другого не сможет. По-настоящему. Да, можно сказать про "надо жить, жизнь на этом не заканчивается...", но... если честно. С чего вы взяли, что на смерти любимого человека она, на самом деле, не заканчивается. В этом тоже проглядывает та честность, о которой сказал Руфус. Спасибо вам! 1 |
|
|
h_charrington Онлайн
|
|
|
Отзыв к глае 3.17
Показать полностью
Здравствуйте! Вот знаете, от чего страшно? От того, что осталась одна глава. И если предчувствия Элис верны, и случится что-то плохое, то очевидно, что оно подведет черту под судьбами всех героев. Если бы дальше еще нащупывались страницы, они давали бы надежду, что и сбывшиеся дурные предчувствия еще не означали конец. А здесь... Очень хочу ошибаться. Очень хочу верить, что герои, несомненно заслужившие счастливый финал, его обретут, и не будет никакого упавшего неба в их конкретном случае. Нет, разумеется, небо упадет, когда начнется Вторая мировая война. И слишком многих это небо придавит. И странно, наверное, сравнивать, взешивать, какая смерть страшнее - на поле боя или в концлагере, от голода в осажденном городе или в подвалах гестапо. В этой истории нам были продемонстрированы различные, разнообразнейшие грани ужаса, страха, боли, стыда, вины, ненависти и утраты. Но все-таки грани любви, доверия, икренности, храбрости и человечности куда как удивительне и ярче. В первом случае все сливается в беспросветный мрак и задавливает ледяной тяжестью. Во втором же случае красота и свет раскрываются всё более полно и разнообразно - как в приземленно-бытовых сценах, так и в моментах нравственного подвига. Для меня сильнейшими сценами, остаются всё же не эпизоды насилия, жестокости и страха, а эпизоды примирения между Эдвардом и Элис, воспоминания Эда о его родителях (пусть прочно связанные с их гибелью, но все же эти сцены больше о любви, чем о смерти), воссоединение с Кайлой, потом - с Мариусом, воспоминания Элис и доктора о том, как она попала в больницу, теряя ребенка (опять же, казалось бы, крайне трагическая сцена, но в ней ведь неимоверно много любви)... Да, свет, которым полна эта глава, стал для меня прекрасной неожиданностью. Я ожидала Зофтов из-за каждого угла, я ожидала подлости от Ханны, ожидала жестокости от начальника Эда, ожидала непокорства и ошибки Мариуса, ожидала подности от Фоули, ожидала печальную гибель надежд на спасение Дану (и вообще на его обнаружение). Но из раза в раз то, что уже привычно было видеть черным, оказывалось белым, и это такое чудо!.. Даже стыдно немного за себя, что, как и Элис, в этом пытаешься найти какой-то подвох, сложно даётся вера в хорошее, в то, что всё получилось, каждый раз поправляешь себя и добавляешь это подлое "почти". Наверное, редко мне хотелось, чтобы история не оправдала моих ожиданий (точнее, сомнений и страхов) и подарила мне счастливый финал, который для такого маловера, как я, точно будет незаслуженным)) Помню, похожее переживание незаслуженного счастья со мной случилось, когда я читала самиздатовскую историю про Титаник, и там главными героями были дети, которые подружились во время его плавания, и, несмотря на страшную катастрофу, в конце все-таки спаслись и даже вновь встретились. Чудо? Чудо. И почему мы редко пишем о чудесах? Будто это что-то "недостоверное". Мне кажется, тут важнейшим фактором выстуает личная вера автора и способность читателя довериться истрии. Чудо особенно явно себя проявляет именно в самых безвыходных обстоятельствах. Быть может, действительно хорошие истории и должны учить нас не терять надежды, а не просто бить нас лицом об асфальт страшной реальности. К сожалению, лично у меня писать о чудесах вот вообще никак не получается. Я как-то пять лет переписывала одного своего бегемота, чтобы хоть немного уйти от тотального мрака в финале и дать персонажам хоть маленький шанс, если не на счастливую жизнь, то хотя бы на возрождение души. Вот и с Руфусом и Росаурой у меня никак не получается выплыть на что-то жизнеутверждающее. Но что это я всё о финале, стоит обратиться к событиям главы. Просто хотела сказать, что даже если финал все-таки выбьет почву из-под ног и обрушит небо, свет, который пролился на нас в этой главе, останется в моем сердце. Начну, пожалуй, с Фоули. Я читала о нем и думала, Боже, неужели редчайший человек в этой истории ,который, влюбившись в Агну, не проявил своей животной стороны? Это заслуга его как англичанина или просто как человека с более укорененными ценностями, чем у всех этих нацистских вырожденцев? В общем-то, его влюбленность - это пресловутый "солнечный удар", в ней очень много страсти, которое доводит Фоули до беспомощности, однако воодушевляет его на решительные поступки: да, он все-таки состряпал нужный документ, но вот интересно, если бы не влюбленность в Агну, он бы махнул рукой на судьбу мальчика и беременной Кайлы? И вот это его: "я хотел увидеть вас еще раз, прежде чем..." Как ни крути, мне видится тут эгоизм влюбленности, слепота страсти, и разве это не ставило Агну в унизительное положение? Думаю с содроганием, что будь Фоули чуть больше подлец, с него бы сталось сделать Агне непристойное предложение в обмен на подписанные бумаги. И еще вопрос, вдруг Агна бы на это пошла? Ради Кайлы, ее ребенка и Мариуса? Просто интересно, когда вы планировали историю, вы не рассматривали такой, более "асфальтовый" вариант? И ведь наверняка именно так, подло и грязно чиновники всякого пошиба торговали своими услугами те жестокие годы. И мне стоит сердечно поблагодарить вас, что вы не пошли по этому пути. Вы вновь выбрали показать нам чудо, которое сотворила влюбленность, пусть и не самая "идеальная". Это ведь несравненно лучше, чем если бы возникла ситуация, о которой сходу подумало мое заляпанное всякой грязью сознание, когда появился персонаж Фоули и его реакция на Агну. Отдельно хочу сказать о сцене Эл и Мариуса. Невероятно эмоциональная сцена, в которой и горечь, и любовь, и страдание, и утешение. Мариуса нельзя не понять. Его боль беспредельна. И так ценно, что он выговорился Эл, раскрыл ей свою боль, рассказал об этом страшном эпизоде с гибелью матери... Выплакался. И в то же время Эл. Насколько она мудра и искренна! Она не пытается Мариуса поучать, не пытается ему что-то насаждать. Не боится признаться в собственных страхах и тем самым возложить на него надежду, довериться. Да, Мариус благодаря разговору с Эл теперь чувствует свою ответственность не только за свою жизнь, которая сейчас ему кажется ничего не стоящей, но и за жизни своих благодетелей. Они все повязаны, и Эд, и Эл, и Мариус, и Кайла, и Кете, и Дану, да, кто-то выступает в роли спасителей, а кто-то в роли жертв, но по факту от действий каждого зависит жизнь остальных, здесь нет тех, кто менее важен или более пассивен. Очень ценно, что Мариус это понял. И, конечно, для него это тоже подвиг - отложить месть ради доверия и спокойствия его чудесной феи-крёстной. Момент, когда Эд по факту приказал Ханне сделать все, чтобы освободить Дану, наполнил меня торжеством. Ханна, как ни пыталась взбрыкнуть и диктовать свои условия, в итоге оказалась послушным орудием в руках того, кого столько раз пыталась погубить, что своей любовью, что своей ненавистью. И все из-за чего? Ее низменное преклонение перед чинами. Стоило Эду сказать, кто он теперь, так она заткнулась и на задних лапках побежала выполнять. Конечно, вопрос еще, не предаст ли, не раскачает ли лодку, но в моменте это быа маленькая победа над маленькой гадиной, которая не по своим размерам много крови подпортила. Наконец, воссоединение Кайлы и Дану... Пронзительно и будто за гранью реальности. Вновь чудо, чтобы увидеть которое нужно иметь веру. Даже если это чудо на один день, и завтра все обрушится, оно стоило того, чтобы его дождаться и пережить. Спасибо вам огромное! 1 |
|
|
Anna Schneiderавтор
|
|
|
h_charrington
Показать полностью
Здравствуйте. Очень хочу верить, что герои, несомненно заслужившие счастливый финал, его обретут, и не будет никакого упавшего неба в их конкретном случае. Мне интересно будет узнать ваше мнение после прочтения заключительной главы, но, мне кажется, небо нам всем вместе все-таки удалось удержать. Хотя, конечно, вы правы: дальше — война. В этой истории нам были продемонстрированы различные, разнообразнейшие грани ужаса, страха, боли, стыда, вины, ненависти и утраты. Но все-таки грани любви, доверия, икренности, храбрости и человечности куда как удивительне и ярче. В первом случае все сливается в беспросветный мрак и задавливает ледяной тяжестью. Во втором же случае красота и свет раскрываются всё более полно и разнообразно - как в приземленно-бытовых сценах, так и в моментах нравственного подвига. Для меня сильнейшими сценами, остаются всё же не эпизоды насилия, жестокости и страха, а эпизоды примирения между Эдвардом и Элис, воспоминания Эда о его родителях (пусть прочно связанные с их гибелью, но все же эти сцены больше о любви, чем о смерти), воссоединение с Кайлой, потом - с Мариусом, воспоминания Элис и доктора о том, как она попала в больницу, теряя ребенка (опять же, казалось бы, крайне трагическая сцена, но в ней ведь неимоверно много любви)... Спасибо вам за такое внимание и воспоминание о светлых моментах. Очень счастлива знать, что самое сильное впечатление у вас остается именно от светлых моментов, а не от темных. Да, воспоминания Эдварда о гибели родителей полны боли и страдания, но в том, как он вспоминает о маме (с нежностью и любовью), об отце (с печалью и, может, даже пиететом) говорит о том, что даже такие, безумно тяжелые происшествия, как бы, может быть, удивительно и странно это ни было, дают нам в итоге своеобразную точку опоры. Да, боль. Но и любовь. Эдвард проносит все это в своем сердце. Это тоже, может быть, наряду с огромной любовью к Эл, не позволяет ему очерстветь сердцем, перейти на сторону зла. Недолго думая, как, к примеру, Стивен. Во всех эпизода, что вы вспомнили, наряду с болью есть любовь. И если любовь больше, то я могу только порадоваться, что это так. Да, свет, которым полна эта глава, стал для меня прекрасной неожиданностью. Я ожидала Зофтов из-за каждого угла, я ожидала подлости от Ханны, ожидала жестокости от начальника Эда, ожидала непокорства и ошибки Мариуса, ожидала подности от Фоули, ожидала печальную гибель надежд на спасение Дану (и вообще на его обнаружение). Но из раза в раз то, что уже привычно было видеть черным, оказывалось белым, и это такое чудо!.. Даже стыдно немного за себя, что, как и Элис, в этом пытаешься найти какой-то подвох, сложно даётся вера в хорошее, в то, что всё получилось, каждый раз поправляешь себя и добавляешь это подлое "почти". Наверное, редко мне хотелось, чтобы история не оправдала моих ожиданий (точнее, сомнений и страхов) и подарила мне счастливый финал, который для такого маловера, как я, точно будет незаслуженным)) Я верю и хочу верить дальше, что свет всегда сильнее. Может, это наивно. Но без этого невозможно, если мы хотим жить. А в людях ужасно сильна жажда жизни. И, конечно, можно было бы "подсыпать" зофтов везде и всюду, но есть же, действительно есть и в нашей, и в мировой истории примеры потрясающего мужества, невероятной душевной силы. Они — без фанфар. Просто делают свое дело. Как, во многом, Эд и Эл, чуждие тщеславия и признания, рискующие самой жизнью ради помощи другим. Не потому, что хотят казаться какими-то правильными, а потому, что они действительно неравнодушны. К Мариусу. К Кайле. К Дану. Та война окончила Победой. Великой Победой, стоившей очень много. Об этом нужно помнить. Поэтому, даже если это выглядит наивно (?), Эд находит Дану, а все вместе они противостоят нацизму. И почему мы редко пишем о чудесах? Будто это что-то "недостоверное". Мне кажется, тут важнейшим фактором выстуает личная вера автора и способность читателя довериться истрии. Чудо особенно явно себя проявляет именно в самых безвыходных обстоятельствах. Быть может, действительно хорошие истории и должны учить нас не терять надежды, а не просто бить нас лицом об асфальт страшной реальности. К сожалению, лично у меня писать о чудесах вот вообще никак не получается. Мне очень хочется верить именно в это, в чудо. Мы привыкаем к плохому слишком легко и слишком быстро. А вера и надежда, свет, — требуют куда больших усилий. Я думаю, вы очень правы: хорошие, настоящие истории, в основе своей, учат нас и вере, и надежде. Даже вопреки всему. И даже если все окончится гибелью главного героя, в ней будет то, что преодолеет тьму. Повторю: в той войне победи свет. Нам нужно помнить именно об этом. Может, со временем, и у вас получится написать о чуде? И вот это его: "я хотел увидеть вас еще раз, прежде чем..." Как ни крути, мне видится тут эгоизм влюбленности, слепота страсти, и разве это не ставило Агну в унизительное положение? Думаю с содроганием, что будь Фоули чуть больше подлец, с него бы сталось сделать Агне непристойное предложение в обмен на подписанные бумаги. И еще вопрос, вдруг Агна бы на это пошла? Ради Кайлы, ее ребенка и Мариуса? Просто интересно, когда вы планировали историю, вы не рассматривали такой, более "асфальтовый" вариант? Да, соглашусь: есть в словах Фоули эгоизм. Причем крайний, отчаянный, даже непримиримый. Он знает прекрасно и осознает, что поставлено на карту вместе с его подписью, но позволяет себе эгоизм влюбленного: хочу! И все. С одной стороны ужасно, и совсем его не рекомендует с положительной стороны, а с другой стороны... так понятно. Я совершенно, абсолютно не не думала о непристойности со стороны Фоули. Вот совсем. Потому что этого нисколько не было со стороны самого Фрэнка. Не потому, что он — англичанин и "хороший", а немцы непременно "плохие", а потому что таков сам Фрэнк. Такова суь его влюбленности в Агну. Он влюблен именно так: непонятно, вдруг, нелепом, наивно, "глупо", в обход всей логики и здравого смысла. И именно эта влюбленность не позволяет ему совершить подлость. Это — его мерило, показатель того, каков он. Он не идеален, конечно. Но в Агну он влюблен именно так. И подлости в отношении нее он даже не мыслил. Потому и не знаю, что ответить вам на другой вопрос: сделай Фрэнк однозначное "предложение", пошла бы на него Агна? Пишу: "думаю, да...", и радуюсь, что Эл, чудесной Эл не пришлось ни давать ответ на этот вопрос, ни даже задумываться над ним. Спасибо Фрэнку за его чистую влюбленность, не мыслившей зла. Отдельно хочу сказать о сцене Эл и Мариуса. Невероятно эмоциональная сцена, в которой и горечь, и любовь, и страдание, и утешение. Мариуса нельзя не понять. В Мариусе оказалось море юной, самой горячей мужественности. Конечно, она "замешана" на влюбленности в Агну, но это позволяет ему, даже в его положении, не выглядеть жертвой, и взять на себя, как на мужчину, требуемую долю ответственности. Я очень рада, что он понял и услышал Агну. Не скатился в свою боль, не стал ее растягивать. А собрался и сделал то, что нужно было. Рада и за Эл, потому что она, как вы сказали, смогла в определенной степени довериться ему. Сколько всего ей пришлось вынести... где-то же на этом пути должна быть остановка. И вот, влюбленный, замечательный мальчишка, горячий, как и положено юности, помогает ей, как может. Как она его просит. Момент, когда Эд по факту приказал Ханне сделать все, чтобы освободить Дану, наполнил меня торжеством. Могу сказать, что, в таком случае, мы торжествовали вместе: Эд, я и вы:)) Он же просто лучится этим торжеством, не удерживается оно в нем. Это как и ответ за все, сделанное Ханной, и как ответ всему, чему Эд и Эл противостоят. Люблю очень эту куражность в Милне, просто любуюсь им. Наконец, воссоединение Кайлы и Дану... Пронзительно и будто за гранью реальности. Вновь чудо, чтобы увидеть которое нужно иметь веру. Даже если это чудо на один день, и завтра все обрушится, оно стоило того, чтобы его дождаться и пережить. Автор никак не может и не хочет навредить своим героям. Да, пусть они не главные, но было очень важно сохранить их во всех тех событиях. Очень этого хотелось. Спасибо вам огромное! И вам спасибо:) 1 |
|
|
h_charrington Онлайн
|
|
|
Здравствуйте!
Показать полностью
Думала, буду писать: не верю, не верю, что роман завершён, но вот парадокс - он завершён так красиво, нежно и светло, что слово "конец" в кои-то веки не ассоциируется со свистом гильотины. Завершение истории Эда и Эл это даже не тот покой в светлой грусти, который заслужили Мастер и Маргарита Булгакова, а это самый настоящий праздник жизни, надежды и света, пусть тихий, укромный, но и нельзя сказать, что замкнутый только на них двоих... точнее, троих))) Виновники этого торжества - и Кайла с Дану, и Мариус и крошкой Майей, и Кете с ее матерью. Да, на пороге война, и самые разрушительные бедствия еще впереди, но в финале этой истории лежит прообраз Победы. В финале истории уже есть "мир спасенный, мир вечный, мир живой", который будет помнить о страдании и жертве, о пределах, которые хочет яростно испепелить злоба, и которые все равно возводит добро и справедливость. После прочтения вашего романа мне хочется писать именно такие слова, которые почему-то зачастую считаются набившими оскомину, обесценившимися. Это все клевета; слова "справедливость", "любовь" и "добро" не могут обесцениться. Могут выхолоститься души, которых крутит от одного упоминания этих слов, вот и всё. Ещё бы я добавила к празднующим и родителей Эдварда. Он перестал отгоражить воспоминания о них от своей нынешней жизни, впустил их, символически произнеся их имена, будто призвав стать частью своей новой радости. Боль и любовь, как мы говорили, почти нераздельны, потому что любовь, чтобы преодолеть смерть и горечь, вынуждена с ними соприкасаться, даже, я бы сказала, их покрывать. Это очень тесный контакт, неразрывная связь, в которой вода камень точит. Боли, этого яда, разлито вдоволь по всей нашей жизни. Любовь - единственное противоядие. Любящий набирается мужества соприкоснуться с болью того, кого юбит. Вобрать ее в себя, как губка вбирает кровь с раны. Это тяжело, это настощяий подвиг любви. Сколько раз его совершали Эд и Эл? Сколько раз преодолевали обстоятельства, людей и самих себя, чтобы продолжать спасать друг друга - не только из тяжелых ситуаций, ловушек и угроз для жизни, но и каждодневно... Все сцены, где они ночью спят, и то одному, то другому вдруг плохо, накрывает волна ужаса и паники, а тот, кто рядом, протягивает руку и сторожит сон, наполнены любовью и светом. Это тот малозаметный подвиг, который да, не требует завалить большого страшного дракона (Зофта, Биттриха, Хайде, насильника с улицы), но требует придушить змею паники, неверия и отчаяния, которая приползает во мраке и душит. На протяжении всей истории герои боролись не только с внешним, таким очевидным врагом, но и со своими внутренними демонами. И Эл, и Эд, пусть разлчиные внешне, оба были хрупки и уязвимы, как каждый из нас. Более того, чем ближе к кульминации и финалу, я бы сказала, что с одной стороны, они истончались, не вполне могли оправиться от полученных ран, становились еще более хрупкими, а с другой стороны обретали в себе, точнее, друг в друге стальной стержень, укрепление, поддержку, которая стоит десанта вооруженных до зубов спецназовцев. Они друг для друга стали ангелами-хранителями, вот и все. Когда я читала эту главу, признаюсь, у меня прям сердце сжималось от тревоги. Особенно когда дошло до званого вечера в доме мод мадам Гиббельс. Во-первых, у меня случилось жуткое дежавю, потому что мне ведь это приснилось, когда я еще не добралась до этой главы. Уже что-то мрачное и пророческое. Во-вторых, настолько мощно передано плохое предчувствие Эл, по нарастающей, что я будто с ней под руку вошла в этот адский притон, и каждая смена кадра, сцены, заставяла меня с замиранием сердца приостанавливаться, просто чтобы продышаться. Знаете, такой накал, когда закрываешь рукой страницу книги, чтобы не дай Бог не подглядеть развязку? Мне тут повезло, что я с телефона читала, и могла на экран выводить предложения по мере прочтения, но если бы (ах, если бы!) ваша книга была в бумажном виде, я бы точно ее всю истерзала от тревоги и неумолимого стремления быть вместе с героями в каждом мгновении. Говоря про жуткую сцену схватки с драконом, хочу отметить, как верно тут, на мой взгляд, выведена природа зла. Этот Зофт, который успешно долгое время изображал из себя "не такого как все", слишком умного и слишком далекого от простых человеческих слабостей злодея, здесь рухнул в ту же грязь, что и его предшественники. Банальная похоть, зверская, мерзкая, отвратительная зараза, которая кажется таким выродкам, как он, вернейшим способом самоутверждения. Мне кажется, то, что каждый из череды злодеев в конечном счете пытался изнасиловать Эл, указывает на тот животный, примитивный и безликий корень зла, который никак нельзя отрицать. Кстати, не могу не отметить, что сокращение имени Зофта, Герх, слишком уж похоже на слово грех. Вот он весь, во всем своем срамном "великолепии": в отличие от других похотливых скотин, эта еще возомнила о себе в гордыни невесть что. Мания величия Герха омерзительна, но как смачно показана... Я наблюдала борьбу Эл с ним, просто не дыша. Я так сопереживала ей, мне было так больно за нее, и в то же время я так гордилась ею, когда она до последнего, до последнего сопротивлялась, била его, царапала ему лицо, плевала в него... Сколько в ней мужества, смелости, чистоты! Такие, как Зофт, должны просто обращаться в прах от прикосновения к таким, как Эл. К сожалению, мы не живем целиком и полностью в духовной реальности. А может, к счастью - ведь иначе нельзя было бы испытать ликование, когда Эд спустил курок, и душа этого ублюдка отправилась плавиться в аду. Скажу, что мысленный монолог Эл перед практически неизбежным тронул меня до слёз, и я так благодарна этой истории за то, что я часто плакала. Для меня это огромная ценность, когда произведение искусства пробивает меня на слёзы. Спасибо вам, что добились этого своим творчеством! На Фоули я злилась поначалу... (имею в виду, его поведение на вечере) но потом он сам себя так бичевал, что я успокоилась. Да, он совершил ошибку. Он не уследил за той, которую полюбил. Эл пережила столько ужаса и почти распрощалась с жизнью отчасти и по недосмотру Фрэнка. Однако то потрясение, которое он испытал, когда увидел, что с Эл сотворил дракон, искупает его провал. И как он плакал в машине... Да, в этих слезах нет ничего мужественного, героического, только жалкое, но тот факт, что человек может плакать, глядя на чужое страдание, говорит о его сердце, о том, что оно не окаменело. Фрэнк ошибся, но его преданность была сильнее этой ошибки. И, самое главное, Эл и Эд не затаили на него обиду за это. К тому же, Фрэнк успел совершить свой подвиг, когда поехал покупать паспорт для Дану. Это крошечная деталь, но какая говорящая - что он отдал кольцо, которое напоминало ему о покойной жене. Больше ничего не сказано о Фрэнке, мы о нем ничего не знаем, и когда впервые встретили, я не заподозрила, что он мог быть женат, тем более, что он вдовец. И он об этом ничего не рассказывает, не вспоминает о своей покойной жене, когда влюбляется в Эл. Однако эта подробность открывает нам персонажа совсем с иного ракурса. То, что Эд, к счастью, так и не испытал, Фрэнк пережил. Мы не знаем, как и почему умерла его жена. Но какой бы смерть ни была, это трагедия, это утрата, это боль на всю жизнь, которая тем сильнее, чем сильнее была любовь. А то, что Фрэнк Фоули умеет любить, мы знаем. ..просто ради интереса пошла загуглила имя Фрэнка, потому что мне оно казалось смутно знакомым. Оказалось, что это реальный британский шпион, сотрудник посольства в Берлине, который помогал бежать евреям из Германии... Невероятный опыт - воспринять как живого персонажа романа, а потом узнать, что это и был рельный человек! Это, конечно, камень в огород моей непросвещенности, но как приятно благодаря вашей истории вновь и вновь раздвигать границы познания. И я также стала больше узнавать о программе Киндертраспорт. Спасибо! Линия Кайлы, Дану и Мариуса тоже не давала мне вздохнуть спокойно. Очень эффектно был введен отсчет по дням. Как и Эл, дурные предчувствия сгущались в моей душе, как тучи. Я боялась каждого нового предложения, ведь сколько всего могло бы произойти, что разрушило бы все планы, все надежды! А по сути-то что были бы эти планы без гигантской силы надежды? Судьбы Эл и Эда, вплетенные в мастшабную историю главного бедствия человечества, остались судьбами частными. Нет, они не спасли десятки сотен несчастных. Но на их примере мы увидели, что спасти и четверых - это величайший подвиг, это сила, это мужество, это риск, это готовность отдать свою жизнь за крохотный шанс, что это спасет другого. Так зачем измерять подвиги в количестве, когда это в первую очередь качество души. О таких душах, о таких судьбах, хочется читать, хочется к ним прикасаться. Чудо новой жизни, которое было даровано Эду и Эл тогда, когда они уже и не надеялись, когда уже смирились, тоже вызвало у меня слёзы. Я смогла прожить эту радость с Эл и Эдом, потому что мне она знакома лично. Это несказанное чудо, и вы нашли нужные слова, чтобы запечатлеть его в сердце читателя. Спасибо вам, что финал осчастливен еще и этим событием. В нем и предельный символизм, и предельное правдоподобие. Спасибо. Теперь все-таки скажу: не верится, что история окончена, потому что я сроднилась с ней, с героями, но мне спокойно, потому что я знаю, что у них все хорошо. Она окончена именно так, как мы и надеяться не смеяли, поэтому столько радости и облегчения, и вера в то, что Эл и Эд будут наконец-то счастливы всецело, хотя жизнь, что в мире, что в войне, имеет свои испытания, и боль сопутствует нам до самого конца в тех или иных проявлениях, однако я сполна прочувствовала светлую мощь такого финала. Спасибо, что не омрачили его ничем от слова совсем. Мне кажется, благодаря таким историям, как ваша, известна целительная сила искусства. 1 |
|
|
Anna Schneiderавтор
|
|
|
h_charrington
Показать полностью
Часть 1. Здравствуйте! Думала, буду писать: не верю, не верю, что роман завершён, но вот парадокс - он завершён так красиво, нежно и светло, что слово "конец" в кои-то веки не ассоциируется со свистом гильотины. Я очень хотела счастья для моих ребят. Опять же, по самой простой и великой причине, известной нам: та война окончилась Победой. Да, война принесла громадное горе всему миру, но все же, все же — Победа. Это — главное. Завершение истории Эда и Эл это даже не тот покой в светлой грусти, который заслужили Мастер и Маргарита Булгакова, а это самый настоящий праздник жизни, надежды и света, пусть тихий, укромный, но и нельзя сказать, что замкнутый только на них двоих... точнее, троих))) Виновники этого торжества - и Кайла с Дану, и Мариус и крошкой Майей, и Кете с ее матерью. Да, на пороге война, и самые разрушительные бедствия еще впереди, но в финале этой истории лежит прообраз Победы. В финале истории уже есть "мир спасенный, мир вечный, мир живой", который будет помнить о страдании и жертве, о пределах, которые хочет яростно испепелить злоба, и которые все равно возводит добро и справедливость. А мне лично совершенно не по нраву тот покой, что у Мастера. Не люблю. Не нравится он мне и как герой. Ну да ладно. Конечно, все мы понимаем: война грянет, и скоро. Элис и Эдвард это понимают очень отчетливо. Но сила самой жизни непреложна, неостановима: человеческое сердце вне жизни не стучит, а пока оно живо, всегда есть надежда и вера. У меня есть ответ на вопрос о том, что дальше будет с Элис и Милном. И, может быть, позже я наберусь сил и сяду за продолжение их истории. Но пока — так. Все устали: и они, и автор. На последних главах невозможность, невыносимость Берлина стала такой тяжелой, очевидной, душной, что хотелось только бежать из того смрада, без оглядки. Даже Эдвард, с учетом всей его выдержки, уже истончался. Мне лично безумно дорого, что удалось спасти дорогих Кайлу, Дану, их тогда еще нерожденную девочку, и, конечно, Мариуса. А Кете с ее мамой, к счастью, спаслись и в реальности. И чем больше было положено для Победы, — сил, труда, души, жизни и любви, — тем отчаяннее и сильнее хочется, чтобы никогда мы не забывали о том, какой стала та Победа. Да, мы в полной мере никогда, быть может, не сумеем оценить ее громадность, масштаб. Но к этому нужно стремиться. И, конечно, взаимное счастье Эл и Эда. То, что они станут родителями... не смогло мое сердце не дать им этого счастья (если возможно считать, что автор — хозяин текста:). После прочтения вашего романа мне хочется писать именно такие слова, которые почему-то зачастую считаются набившими оскомину, обесценившимися. Это все клевета; слова "справедливость", "любовь" и "добро" не могут обесцениться. Могут выхолоститься души, которых крутит от одного упоминания этих слов, вот и всё. Спасибо за чудесные слова. Это не они выхолощены. Это мы теперь, — часто, к сожалению, — такие. Очень жаль, что так. Правда. Любовь никогда не перестает. Ещё бы я добавила к празднующим и родителей Эдварда. Он перестал отгоражить воспоминания о них от своей нынешней жизни, впустил их, символически произнеся их имена, будто призвав стать частью своей новой радости. Боль и любовь, как мы говорили, почти нераздельны, потому что любовь, чтобы преодолеть смерть и горечь, вынуждена с ними соприкасаться, даже, я бы сказала, их покрывать. Это очень тесный контакт, неразрывная связь, в которой вода камень точит. Боли, этого яда, разлито вдоволь по всей нашей жизни. Любовь - единственное противоядие. Любящий набирается мужества соприкоснуться с болью того, кого юбит. Вобрать ее в себя, как губка вбирает кровь с раны. Это тяжело, это настощяий подвиг любви. Сколько раз его совершали Эд и Эл? Я уверена, что из того, невидимого нам мира, родители Эда очень, по праву гордяться им. Тем, что их сын, их мальчик сумел выстоять и не сломаться. Сильно раненный, но никогда не сломленный. Все же, с учетом всех потерь, сильный духом и живой, — в громадной степени от любви Эл, за которую ей бесконечная благодарность, — живой сердцем. Но смог. Он преодолел, он выстоял, он не перешел во тьму. Он несет в себе то, чему они, родители, учили его. И это его личная, ничуть не меньшая, чем наша общая, человеческая, победа. Словами не передать, как я рада, что он смог открыть Эл свою боль о родителях. О Рифской войне, уверена, так и не скажет. Но о маме и папе сказал. И, думаю, сердце его стало еще живее, полнее и больше. Он теперь и сам — папа. Спасибо Эл, что вместила его боль в свое сердце. Смогла, сумела, приняла и выдержала. И любви стало больше. Я думаю, это бесценно — искреннее разделение такой боли. В этом — сила любви. Может, любовь настоящая о боль закаляется сильнее. Все сцены, где они ночью спят, и то одному, то другому вдруг плохо, накрывает волна ужаса и паники, а тот, кто рядом, протягивает руку и сторожит сон, наполнены любовью и светом. Это тот малозаметный подвиг, который да, не требует завалить большого страшного дракона (Зофта, Биттриха, Хайде, насильника с улицы), но требует придушить змею паники, неверия и отчаяния, которая приползает во мраке и душит. На протяжении всей истории герои боролись не только с внешним, таким очевидным врагом, но и со своими внутренними демонами. И Эл, и Эд, пусть разлчиные внешне, оба были хрупки и уязвимы, как каждый из нас. Более того, чем ближе к кульминации и финалу, я бы сказала, что с одной стороны, они истончались, не вполне могли оправиться от полученных ран, становились еще более хрупкими, а с другой стороны обретали в себе, точнее, друг в друге стальной стержень, укрепление, поддержку, которая стоит десанта вооруженных до зубов спецназовцев. Они друг для друга стали ангелами-хранителями, вот и все. Иначе они не могли. Просто вот так они любят друга. Учатся этому, в том числе, проходя и через свои ошибки: непонимание, замкнутость, эгоизм, одиночество, горечь. И тем более ценна их близость. Их любовь, как любовь вообще, наверное, единственное, что можно противопоставить войне, всем видам мрака и боли, утраты. Это, как вы и сказали, подвиг. Незаметный, тихий, "на двоих". Но ежедневный, постоянный, иногда очень трудный. Не всегда он может получится из-за нашего эго, но кроме любви, что могло спасти Элис и Эдварда? Эд, при всей его силе — человек. Он не всемогущий. И на него можно было найти "управу". К счастью, этого не произошло. А если сердце — пусто, то и управа будет, может быть не нужна. В той войне противостояние не только физическое, но духовное. Душевное. Изжив намеренно в себе все человеческое, нацисты хотели уничтожить мораль, чувство, правду, любовь. К счастью, не смогли. И не смогут. И, как вы верно заметили, ближе к заключительным главам ребята становились все тоньше. Терпения и сил — все меньше. Даром, что не тревожили друг друга разговорами об этом, но все же видели, понимали, чувствовали. 1 |
|
|
Anna Schneiderавтор
|
|
|
h_charrington
Показать полностью
Часть 2. Когда я читала эту главу, признаюсь, у меня прям сердце сжималось от тревоги. Особенно когда дошло до званого вечера в доме мод мадам Гиббельс. Во-первых, у меня случилось жуткое дежавю, потому что мне ведь это приснилось, когда я еще не добралась до этой главы. Уже что-то мрачное и пророческое. Во-вторых, настолько мощно передано плохое предчувствие Эл, по нарастающей, что я будто с ней под руку вошла в этот адский притон, и каждая смена кадра, сцены, заставяла меня с замиранием сердца приостанавливаться, просто чтобы продышаться. Знаете, такой накал, когда закрываешь рукой страницу книги, чтобы не дай Бог не подглядеть развязку? Мне тут повезло, что я с телефона читала, и могла на экран выводить предложения по мере прочтения, но если бы (ах, если бы!) ваша книга была в бумажном виде, я бы точно ее всю истерзала от тревоги и неумолимого стремления быть вместе с героями в каждом мгновении. Очень хорошо вас понимаю. Я знала, что Зофт поймает Эл. И как я не хотела это писать! Всё та же тревога, а вместе с ней — знание, что в истории будет именно так, несмотря на мое нежелание. И, да... ваш сон. Но нам не пришлось прощаться с ребятами. Про себя могу сказать, что не знаю, как бы я это перенесла. Накал и предчувствие, о которых вы говорите, и меня не отпускали. Я знала, что буду выцарапывать Эл и Эда с того вечера изо всех сил, до последнего. Но все равно было и страшно, и тошно. Говоря про жуткую сцену схватки с драконом, хочу отметить, как верно тут, на мой взгляд, выведена природа зла. Этот Зофт, который успешно долгое время изображал из себя "не такого как все", слишком умного и слишком далекого от простых человеческих слабостей злодея, здесь рухнул в ту же грязь, что и его предшественники. Банальная похоть, зверская, мерзкая, отвратительная зараза, которая кажется таким выродкам, как он, вернейшим способом самоутверждения. Мне кажется, то, что каждый из череды злодеев в конечном счете пытался изнасиловать Эл, указывает на тот животный, примитивный и безликий корень зла, который никак нельзя отрицать. Да, вы правы. Зофт очень хотел быть, выглядеть, производить и запоминаться именно таким-"не таким, как все". Но... в итоге все то же. Та же грязь, та же похоть. Жестокость, наслаждение болью другого и демонстрация власти. У него это просто, в силу личных характеристик и желаний, вышло дольше, "утонченнее", более завуалиованно. Но как он приказал Агне: "Ешьте, я хочу посмотреть!". А потом заметил ей, что здесь никому и в голову не приходит "заботиться о чистоте своих рук". Во всех смыслах. Тогда, в момент написания, даже мне стало жутко. И при всем этом — ни тени сомнения, ни капли человеческого. Все сломано, осталась только жажда наживы. А насчет изнасилований... меня "умиляло", когда я читала про "чистоту крови" и запрет на связь с евреями. А потом — Хрустальная ночь. И массовые изнасилования. Кстати, не могу не отметить, что сокращение имени Зофта, Герх, слишком уж похоже на слово грех. Вот он весь, во всем своем срамном "великолепии": в отличие от других похотливых скотин, эта еще возомнила о себе в гордыни невесть что. Мания величия Герха омерзительна, но как смачно показана... Я наблюдала борьбу Эл с ним, просто не дыша. Я так сопереживала ей, мне было так больно за нее, и в то же время я так гордилась ею, когда она до последнего, до последнего сопротивлялась, била его, царапала ему лицо, плевала в него... Сколько в ней мужества, смелости, чистоты! Такие, как Зофт, должны просто обращаться в прах от прикосновения к таким, как Эл. К сожалению, мы не живем целиком и полностью в духовной реальности. А может, к счастью - ведь иначе нельзя было бы испытать ликование, когда Эд спустил курок, и душа этого ублюдка отправилась плавиться в аду. Скажу, что мысленный монолог Эл перед практически неизбежным тронул меня до слёз, и я так благодарна этой истории за то, что я часто плакала. Для меня это огромная ценность, когда произведение искусства пробивает меня на слёзы. Спасибо вам, что добились этого своим творчеством! Есть у автора слабость к сокращению имен. Тем более, таких пышных и претенциозных, как "Герхард". Зофт сам себя называл "Герхом". Кто мы такие, чтобы упустить подобное созвучие с "грехом"? То, как Эл сражается с ним, как противостоит ему, вызывает у меня, — несмотря на авторство, — те же чувства и эмоции, что у вас. Спасибо вам! Это не самолюбование, а сопереживание истории, маленькой Эл. И дикое желание, чтобы Эдвард пришел уже скорее. И ее монолог внутренний, просто звенящий от безмолвия, отчаянья и того, что она ожидает после него, у меня снова и снова вызывает и боль, и слезы. Я, когда писала, уже просто мысленно молила: "Эдвард, давай скорее!". И когда он пришел, я выдохнула. Потому что дальше писать не могла. Все, предел. Спасибо вам за такое огромное, искреннее сопереживание героям. Спасибо, что не побоялись всей горечи и всего страха, что есть в истории Эл и Эда, и дошли с ними до конца. На Фоули я злилась поначалу... (имею в виду, его поведение на вечере) но потом он сам себя так бичевал, что я успокоилась. Да, он совершил ошибку. Он не уследил за той, которую полюбил. Эл пережила столько ужаса и почти распрощалась с жизнью отчасти и по недосмотру Фрэнка. Однако то потрясение, которое он испытал, когда увидел, что с Эл сотворил дракон, искупает его провал. И как он плакал в машине... Да, в этих слезах нет ничего мужественного, героического, только жалкое, но тот факт, что человек может плакать, глядя на чужое страдание, говорит о его сердце, о том, что оно не окаменело. Фрэнк ошибся, но его преданность была сильнее этой ошибки. И, самое главное, Эл и Эд не затаили на него обиду за это. Я знала, чувствовала с самого первого появления Фрэнка, — он принесет помощь и добро. Несмотря на все его странные внешние поведения, горячечную влюбленность в Агну. Да, ошибся. Это он сознает сам, это сознает Эд. И Фрэнк чувствует вину и перед Эл, и перед Милном. Думаю, Фоули сам и первый казнит себя больше всех. Да, Эд угрожал ему тогда, в моменте. Но Фрэнк не струсил (несмотря на очевидный страх), он очень помог Эдварду. Он остался с Эл (Агной). И то, как он заплакал над ней, говорит о нем больше всего. Мне его очень жаль, я очень ему сочувствую. И очень благодарна за помощь Элис и Эдварду. Эд и не мог затаить на него обиду: он видел, КАК Фоули успел полюить Агну. Несмотря на свою страшную ошибку, он не желал ей зла. Ни за что. А Элис... о слезах Фрэнка над ней она не знает. Этого не знает и Милн. Пусть это останется сокровенным Фрэнка. Уверена, что Эд рассказал Эл о помощи Фоули. И Элис, несмотря на все "неровности" в поведении Фрэнка, благодарна ему. Даже в машине, когда она и Фоули подъехали к дому, где шел праздник, она смутилась от того, что действительно поняла: он горячо ее любит. И не нашлась с ответом. Потому что сердце ее доброе, а не насмешливое и не злое. Что до кольца, которое Фрэнк отдал за паспорт... есть в этом некий "символизм": заложить кольцо, как память об умершей жене, в помощь той, что он полюбил теперь. Поэтому спасибо Фрэнку огромное. 1 |
|
|
Anna Schneiderавтор
|
|
|
Часть 3.
Показать полностью
..просто ради интереса пошла загуглила имя Фрэнка, потому что мне оно казалось смутно знакомым. Оказалось, что это реальный британский шпион, сотрудник посольства в Берлине, который помогал бежать евреям из Германии... Невероятный опыт - воспринять как живого персонажа романа, а потом узнать, что это и был рельный человек! Это, конечно, камень в огород моей непросвещенности, но как приятно благодаря вашей истории вновь и вновь раздвигать границы познания. И я также стала больше узнавать о программе Киндертраспорт. Спасибо! Спасибо вам! Да, Фрэнк, как и Кете — реальные люди. Они спасали, помогали, рисковали своей жизнью. О них я узнала, как раз, когда искала информацию о "Киндертранспорт". И рада, что таким образом, — кратким отображением в тексте, — смогла упомянуть им и передать благодарность за то, что они делали для спасения людей. Линия Кайлы, Дану и Мариуса тоже не давала мне вздохнуть спокойно. Очень эффектно был введен отсчет по дням. Как и Эл, дурные предчувствия сгущались в моей душе, как тучи. Я боялась каждого нового предложения, ведь сколько всего могло бы произойти, что разрушило бы все планы, все надежды! А по сути-то что были бы эти планы без гигантской силы надежды? Судьбы Эл и Эда, вплетенные в мастшабную историю главного бедствия человечества, остались судьбами частными. Нет, они не спасли десятки сотен несчастных. Но на их примере мы увидели, что спасти и четверых - это величайший подвиг, это сила, это мужество, это риск, это готовность отдать свою жизнь за крохотный шанс, что это спасет другого. Так зачем измерять подвиги в количестве, когда это в первую очередь качество души. О таких душах, о таких судьбах, хочется читать, хочется к ним прикасаться. Я очень полюбила и кроткую, добрую Кайлу, и ворчливого, сумрачного, но тоже доброго Дану. Про Мариуса молчу. Люблю таких мальчишек. Горячих сердцем. Порывистых, живых, самых настоящих. Таким, в какой-то мере и по-своему, был сам Эдвард в юности. Произойти, как вы и сказали, могло все, что угодно. Герои ставили на риск. Отчаянно, без оглядки. Другого выхода и шанса не было. Да, Эл и Эд не спасли многих. Они не спасли ни тысяч, ни сотен, ни "даже" десятков. Но они спасли. И я даже не берусь сказать, что понимаю, какая сила нужна для этого. Но без их помощи не было бы Майи. И не было бы в живых Дану. Кстати, сцена спасения Дану из лагеря. То, как молчаливо Милн вывозит его за эти пределы, потом останавливается, снимает наручники... очень мне дорога. Для меня она вся звучит очень пронзительно. Чудо новой жизни, которое было даровано Эду и Эл тогда, когда они уже и не надеялись, когда уже смирились, тоже вызвало у меня слёзы. Я смогла прожить эту радость с Эл и Эдом, потому что мне она знакома лично. Это несказанное чудо, и вы нашли нужные слова, чтобы запечатлеть его в сердце читателя. Спасибо вам, что финал осчастливен еще и этим событием. В нем и предельный символизм, и предельное правдоподобие. Спасибо. Хочется сказать в ответ на ваши слова: рада служить правде. И особенно счастлива, что получилось найти верные слова. Рада счастью Эл и Эда, рада вашему счастью. Теперь все-таки скажу: не верится, что история окончена, потому что я сроднилась с ней, с героями, но мне спокойно, потому что я знаю, что у них все хорошо. Она окончена именно так, как мы и надеяться не смеяли, поэтому столько радости и облегчения, и вера в то, что Эл и Эд будут наконец-то счастливы всецело, хотя жизнь, что в мире, что в войне, имеет свои испытания, и боль сопутствует нам до самого конца в тех или иных проявлениях, однако я сполна прочувствовала светлую мощь такого финала. Спасибо, что не омрачили его ничем от слова совсем. Мне кажется, благодаря таким историям, как ваша, известна целительная сила искусства. Я бы хотела писать еще про моих дорогих, горячо любимых героях. Но пока их история завершена вот так. Повторю, может, будет продолжение. Но для него нужно много сил. Я уверена, что Эл и Эд будут счастливы. Жизнь бывает самой разной. И очень счастливой она тоже бывает. А когда есть взаимная любовь — все по плечу. Другой финал, думаю, написать бы я не смогла. Не с моими ребятами. Спасибо вам за прочтение, внимание, чуткие, проникновенные слова. Спасибо за неравнодушие к истории, любовь к героям. С самой искренней, огромной благодарностью. 1 |
|
| Предыдущая глава |
↓ Содержание ↓
↑ Свернуть ↑
| Следующая глава |