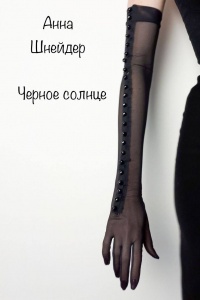





|
↓ Содержание ↓
↑ Свернуть ↑
|
Сигаретный дым, зависший в кабинете, уже успел побледнеть и рассеяться, а ее все не было. Рид Баве шумно опустился в кожаное кресло и тихо крякнул, удобно устраиваясь в нем. Часы пронзительно отбили десять, и по всем гласным и негласным законам разведки, — да и простого человеческого терпения, — ждать дольше было невозможно. Баве уже собрался шумно и глубоко выдохнуть, когда тяжелая дверь кабинета открылась и пропустила женщину.
Взглянув на нее, руководитель отдела засомневался в верности своей памяти, ведь согласно досье, новому агенту было всего восемнадцать, но перед ним была настоящая дама: элегантный костюм и шляпка с вуалью не давали в этом усомниться.
Поднявшись, Баве ловко застегнул мундир, и вышел из-за стола, на ходу протягивая руку для приветствия. И только подойдя ближе и заглянув в лицо девушки, он подумал, что с такой красавицей можно было бы проявить больше галантности. На мгновение ему даже захотелось ей подмигнуть. То ли от радости, что она не заметила его лицевого протеза, — а если и заметила, то никак этого не показала, — то ли просто потому, что в его подчинении теперь находилась она, Элисон Эшби, новый агент внешней разведки Великобритании.
Но он вовремя опомнился, и, указав кратким жестом на стул, вернулся к своему креслу. Элисон села на указанное место и посмотрела на Баве. «Забавно, — подумал он, — за окнами бушует 1933 год, воздух буквально разрывается на части от напряжения и скорой грозы», — о которой он, благодаря своему положению, знает гораздо больше других, — а эта девочка смотрит на него своими чистыми глазами так невозмутимо и так кротко, что… Стук пальцев по деревянному подлокотнику прервал размышления генерала.
— Мисс Эшби, это Эдвард Милн. С этого момента вы работаете в паре. И учтите, — Баве понизил голос и заговорил быстрее, — сейчас я назвал вас настоящими именами, но отныне и всегда, во время службы, вы должны обращаться друг к другу согласно вашим псевдонимам. Это ясно?
— Да, генерал, — четко ответил тот, кого Баве только что назвал Милном.
Рид посмотрел на Эшби, и она едва заметно кивнула.
«А все-таки страшно отправлять ее туда», — мелькнуло в мыслях Баве. Его взгляд с сожалением скользнул по лицу девушки.
— Вы едете в Берлин. Завтра.
Слова генерала прозвучали в тишине кабинета почти как приговор. Все трое прекрасно понимали, что «завтра» — это тридцать первое января, а сегодня, 30 января 1933 года в Германии произошло то, что вполне может перевернуть весь этот мир: Адольф Грубер получил власть. «И перевернет!» — успел подумать генерал. С шумом захлопнув папку, лежавшую перед ним, он быстро поднялся из-за стола.
— Шифровки вы получите сегодня в 17:15, по тому же каналу.
Баве остановился напротив разведчиков, и для них это означало, что встреча окончена. Эшби и Милн одновременно кивнули, и молча направились к двери. Казалось, что сейчас они выйдут из кабинета так же синхронно, но Милн задержался у двери, пропуская свою коллегу вперед, и бесшумно закрыл за собою дверь.
* * *
Выйдя из здания, они все также молча перешли на другую сторону улицы, и, оказавшись на Queen Anne’s Gate, остановились возле статуи королевы Анны. Эдвард услышал, как девушка тихо прочитала надпись на памятнике:
— Anna Regina… — и посмотрела вверх, но не на лицо королевы, а на маску в чалме, которая пялилась на них сверху жуткими, пустыми глазницами.
— Мы встречались раньше? — Милн закурил сигарету, выпуская дым в сторону.
— Вы знали, что раньше здесь была благотворительная больница? — Эшби оглянулась и вопросительно посмотрела на него.
Эдвард усмехнулся краем тонких губ. Он мог ни о чем не спрашивать. Об Элисон Эшби он знал все, что ему следовало знать в рамках их совместной работы. И все же, он, который до этого дня всегда работал один, до сих пор не мог привыкнуть к мысли о том, что отныне, — и кто знает, как долго? — у него есть напарник. Напарница.
Милн поморщился от этого слова, прозвучавшего в его мыслях как-то по-деревянному неповоротливо, и посмотрел на девушку. Почему у него снова такое чувство, будто он уже видел ее раньше? Какая-то нелепость. Такая же, как ее шляпка, — маленькая и черная, с короткой вуалью-сеточкой, наполовину скрывающей лицо, отчего ему казалось, что с ним говорит не сама Элисон, а только ее губы, накрашенные красной помадой, блестящей в лучах солнца. Милн приподнял бровь и сделал два шага вперед, приблизившись к Эшби.
— Я узнала тебя, Эд, — произнесла девушка с ударением на его имени. — Только не думала, что ты здесь.
Она кивнула в сторону здания, из которого они только что вышли, и с улыбкой посмотрела на мужчину. Милн с удивлением взглянул на девушку. Этого не может быть. Она?.. Эдвард так пристально вглядывался в ее лицо, что Элисон, не выдержав паузы и его слишком серьезного взгляда, звонко рассмеялась и подняла вуаль шляпки, изящно убирая сеточку наверх. Эдвард закрыл глаза, словно отказываясь им верить.
— И я должен был узнать тебя. По глазам.
Его суровое лицо немного смягчилось в свете теплой, растерянной улыбки. Пробежав по лицу Эдварда быстрой искрой, она почти сразу исчезла, уже ничем не выдавая своего недавнего присутствия. И только блеском, зажженным теперь в светло-голубых глазах Милна, улыбка с любопытством и недоверием подглядывала за рыжей девушкой. Милн хотел сказать что-то еще, что-то очень важное, — в его памяти одно воспоминание сменялось другим, — но не успел. Элисон ушла, коротко, с улыбкой, сказав:
— До встречи.
Пластинка затрещала мелкими искрами, и Элис услышала, как в дверь постучали. Тихо, едва слышно. Спрятав энфилд за спину, она бесшумно подошла к дверному глазку. И выругалась. Потому что это был Эдвард. Зачем он пришел? Они же виделись всего несколько часов назад. Эл долго наблюдала за тем, как он поправляет воротник пальто, но, устав ждать, негромко назвала его по имени.
— Эдвард?
— Элис, нам нужно поговорить.
Нервно выдохнув, девушка повернула дверную ручку и отошла от двери.
Коридорная лампа тускло осветила Милна со спины, и сделала его фигуру еще выше и строже. На мгновение Элис показалось, что это совсем не он, и за ней пришли. От страха горло судорожно сжалось, она подняла голову высоко вверх, а руки безвольно, сами собой, опустились вдоль тела. И в правой все еще был зажат пистолет.
Но вот Эдвард сделал шаг вперед.
И еще.
Оглянулся по сторонам, убедился, что кроме них здесь никого больше нет, и тихо закрыл дверь.
А потом долго стоял и смотрел на Эл. Почти также чудесно, как тогда, на Рождество. И ей снова показалось, — правда, теперь другое, — он обнимает ее за плечи, улыбается и нежно целует. А она смотрит на него изумленными глазами, и не верит, что это — с ней. И чувствует спиной холод оконного стекла, и по коже бегут мурашки. И чем дольше длится их поцелуй, тем невероятнее становится ей оттого, что он, — взрослый, —целует ее. И для нее все впервые, и, замирая от изумления, она все еще боится, что в гостиную вернется брат и увидит их. Страшнее этого, наверное, только то, что все это вдруг окажется неправдой, и уйдет, окажется сном.
Элисон отвела взгляд в сторону, воспоминание прошло. Положив энфилд, она крепко сжала ворот халата. Громкий стук пистолета о каминную полку вывел Эдварда из задумчивости, и он виновато улыбнулся.
— Прости, что поздно. У меня сообщение от Баве.
Вместо ответа Элисон прошла мимо него к маленькому столику у окна, и, взяв в руки тяжелую пепельницу, повернулась.
— Вот «сообщение», — она указала взглядом на пепел в хрустальной полусфере. — Пришло десять минут назад. Тебе лучше уйти.
— Ты слышишь меня? Нам нужно идти, Баве ждет нас.
— Ждет? Нас?
Терпение Элис кончилось, она подошла к Эдварду, и, развернув Милна сначала вправо, а затем влево, быстро осмотрела карманы его пальто. И хотя в них ничего не было, — кроме мелких шерстяных ворсинок, спичек и пачки сигарет Benson & Hedges, — она упрямо продолжала обыскивать его. Эдвард ей не мешал, только весело смотрел на нее, злую и сосредоточенную, с блестящими глазами, которые Элисон упорно отводила в сторону. Игра была забавной, но в нее не стоило играть слишком долго. И когда девушка все с тем же злым воодушевлением отвернула левый край пальто, чтобы проверить внутренний карман, Эдвард мягко отстранил ее руку, сжав тонкие пальцы:
— Здесь ничего нет.
Ему вдруг захотелось продлить это мгновение, чтобы смотреть на нее еще дольше, вспоминать и снова запоминать красивые черты лица, которые стали изящнее и тоньше, чем несколько лет назад, когда Эл было всего тринадцать. Девушка резко отошла от Эдварда и ушла в комнату напротив. Прошло несколько минут, и она, переодевшись, вышла, готовая к встрече с Баве.
* * *
Снежные хлопья все еще искрились на ее накидке, когда Элисон и Эдвард вошли в кабинет генерала. И Рид вовсе не был удивлен столь позднему визиту своих подопечных. Наоборот, при виде этой пары, он широко улыбнулся, привычным жестом поправил протез на правой половине лица, и театрально всплеснул руками.
— А вот и вы!
Баве весело посмотрел на них, и Элисон отметила про себя, что он даже не хочет знать, зачем они пришли. Потому что это ему известно.
— Агенты! — Рид щелкнул каблуками сапог и подошел к ним вплотную. — Элисон Эшби, смею ли я надеяться, что вы не поверили Эдварду Милну, одному из наших лучших разведчиков?
Элисон не нашлась с ответом, и только коротко кивнула.
— Значит ли это, что вы пришли сюда ночью, чтобы узнать истинное содержание вашего задания?
Девушка снова кивнула, все меньше понимая происходящее, и Рид довольно засмеялся.
— Вам предстоит…
Он выдержал почти профессиональную паузу, наслаждаясь моментом.
—… Стать мужем и женой!
Генерал рассмеялся так весело, словно это была замечательная шутка. Но улыбка мгновенно исчезла с его лица, когда он наклонился к агентам и произнес:
— Эшби, вы прошли проверку. Поздравляю. Завтра вы и Милн едете в Берлин. И первое задание там — найти свидетелей для вашей, Агна и Харри Кельнер, быстрой и скромной свадьбы.
Элисон посмотрела на Баве как на болванчика, который только и может, что нести чушь и глумливо улыбаться. Но каким бы сильным ни было ее удивление, одно она поняла точно: теперь он не шутит.
После ухода Милна и Эшби генерал долго ходил по кабинету, обдумывая все, что сейчас увидел и узнал. Не иначе как сами высшие силы, — если они, конечно, действуют в это мутное время, — привели к нему Элисон. Иначе он никак не мог объяснить тот факт, что одно ее появление в МI-6 стало решением давнего, мучительного вопроса, а именно того, как сделать из Эдварда Милна, агента внешней разведки Великобритании промышленника Харри Кельнера так, чтобы и старая, и новая власть Берлина видела в нем истинного и непогрешимого немца?
До появления Эшби этот вопрос успел изрядно подпортить генералу нервы, но с приходом Элисон в отдел внешней разведки все изменилось. И ответ был самым простым — Харри Кельнер и его очаровательная супруга, фрау Кельнер, едут в Берлин, где не только встретятся лицом к лицу с руинами Веймарской республики, но и с новыми порядками того, кто так и не окончил художественную школу, и за внешней улыбкой которого пряталась прошлая, нищая ненависть к Вене.
Баве считал, что эта ненависть — обыкновенная зловонная зависть человека к красоте, но делиться этими соображениями он ни с кем не собирался. И сейчас, всматриваясь в ночную темноту за окном, он подумал, что, будет, конечно, очень жаль, если с фрау Кельнер в Берлине что-нибудь случится, но даже если произойдет самое печальное, то с этим он, генерал Рид Баве, уже ничего не может сделать — с’est la vie — как говорят французы. К тому же, самое главное, — это удачное проникновение Милна, то есть Харри Кельнера, в политический круг рейха.
* * *
В гараже на Сент-Джеймс-стрит ярко горел свет, но Эдвард не обращал на это никакого внимания. Об этом переулке мало кто знал, а узкий темный проход, увенчанный аркой, не привлекал мирных людей. Что же до тех, кто промышлял ночью, то Милн вполне мог дать им отпор. Эд вернулся от Баве час назад. Но сначала он проводил Элис до ее дома на Клот-Фэйр-стрит. А теперь готовил новый Mercedes-Benz 770 к завтрашней поездке в Берлин.
Элисон.
Элис.
Эл.
Эдвард до сих пор не мог привыкнуть к мысли о том, что теперь они работают вместе. О том же, что им предстоит не просто работать вместе, но правдоподобно изобразить супружескую пару, он, никогда не думавший о женитьбе и семье, и вовсе не хотел размышлять всерьез. Но это необходимо сделать. И чем скорее, тем лучше. Милн кивнул, соглашаясь с промелькнувшей мыслью: да, он подумает об этом. Подумает обо всем, что может принести с собой эта перемена. Но не сейчас. Потому что сейчас, несмотря на всю его сдержанность и привычку к разведке, мысли слишком путаются, перескакивая, как брошенные в стену мячи, с одного воспоминания на другое. Теперь не только он, но они, — Эдвард Милн и Элисон Эшби — агенты разведки.
К тому, что он — разведчик, Эдвард привык давно. И давно не задавал себе вопросов «из прошлой жизни», как он это про себя называл. Милн откинулся на спинку автомобильного кресла и улыбнулся. Немного.
Ему предстоит жениться на Эл. На той самой Эл, которую он однажды поцеловал в ночь на Рождество, когда приехал вместе с ее братом Стивом к ним домой, в Ливерпуль. Он и Стив когда-то были друзьями и вместе учились в Итоне. То Рождество было сказочным. И Эл была очень красивой, — той юной, неземной, расцветающей красотой, которая и сама не подозревает о собственной силе. Надо как-нибудь сказать Элис об этом, решил Эдвард, встряхивая головой, чтобы унять воспоминания.
Он проверил сцепление и кивнул сам себе, — машина была в идеальном состоянии. Теперь можно было вернуться в дом, принять душ, собрать вещи и даже немного вздремнуть перед тем, как он поедет за Эл.
Элисон очнулась от треска и удивленно посмотрела на свою ладонь, изрезанную тонкими, красными линиями. Еще одна ее привычка — замотать ладонь нитями и следить за тем, как бледнеет и немеет под ними кожа. Она часто так делала в детстве, когда волновалась.
Прошло уже три часа, как Эл вернулась домой после встречи с Баве. Эдвард настоял на том, чтобы проводить ее, хотя она и не думала возражать. Ей было не до этого: все ее мысли были заняты предстоящей поездкой в Берлин и свадьбой с Эдвардом. Вернее, с Харри Кельнером, сотрудником промышленной компании, который должен был войти в высший политический круг рейха, а она, фрау Кельнер, обязана была всюду сопровождать супруга. Что из этого выйдет? И что с ней будет? А с Эдвардом? А что, если… Натянутая нить врезалась в ладонь до крови и порвалась, но Элисон не заметила этого. Помедлив еще минуту, она резко поднялась из кресла. Пора собирать вещи.
Платья. Много платьев. Фрау Кельнер должна хорошо выглядеть.
Было четыре часа утра, когда Mercedes-Benz подъехал к дому Элисон на Клот-Фэйр-стрит и плавно остановился. Эдвард знал, что ему нужно идти. Просто выйти из машины, пройти по узкой дорожке, усыпанной гравием, и постучать в дверь с рисунком, составленным из разноцветных стекол. За этой дверью его должна ждать Эл, которой через несколько часов предстоит стать фрау Кельнер.
Милн все это знал, но не мог заставить себя выйти из машины. «Еще десять секунд», — договорился он с собой, и сделал пару глубоких вдохов и выдохов. Окруженный сумерками, он дышал медленно и глубоко. Досчитав до пяти, и в последний раз ударив по тонкому рулевому колесу «Мерседеса», Эдвард одним рывком вытолкнул себя из автомобиля.
Конечно, он мог бы посигналить. Или Элис могла выйти из дома чуть раньше и подождать его на улице, но Эдвард непременно хотел зайти за ней, постучать в ее дверь.
Поэтому, когда они прощались у этого дома всего несколько часов назад, после встречи с Баве, он сказал, что сам зайдет за Элисон. Почему это было для него так важно, он и сам не понимал. Но уже давно знал по себе, что перед тем, как приступить к выполнению той или иной операции, он не принимал свои промежуточные выводы всерьез, предпочитая разбираться с ними позже, когда очередной этап задания будет выполнен, и он сможет обдумать все произошедшее наедине с самим собой.
Эдвард поднес руку к дверному позолоченному молотку, но что-то отвлекло его. Ветра не было, и не было ни звука, который бы мог насторожить Милна. Но он все равно оглянулся. И там, в зимнем предрассветном небе, увидел ее. Звезду.
Она мерцала и пряталась за проплывающим облаком, а в черном небе, в которое близкий восход старательно подмешивал темно-алые краски, ее далекий свет казался чем-то невероятным, нездешним.
Эдвард посмотрел на небо, пригладил волосы и постучал в дверь. Сначала из дверного проема показалась рука с чемоданом, а вслед за ней — вся Эл. Не говоря ни слова, и только коротко кивнув ей, Милн забрал чемодан, легко подхватил второй, оставленный у порога, и отнес багаж в машину.
— «Мерседес-Бенц»? — тихо произнесла Элисон, и даже в темноте Эдвард заметил, как от удивления ее глаза стали еще больше.
— Да. Личное распоряжение Баве.
Милн поправил зеркало заднего вида и выехал на дорогу.
— Но это же модель 770, на таком автомобиле мы не сможем приехать в Берлин незамеченными!
— Как фрау Кельнер вы должны знать, что незаметность не входит в наши планы.
Элисон расслышала в голосе Милна иронию, но не улыбнулась, слишком встревоженная всем происходящим. Он прав. Сотрудник фармацевтической компании «Байер» и его супруга не могут ездить на обычном автомобиле. Но модель, которой пользовался сам Грубер — это уже слишком! Эшби уже хотела поделиться с Милном своими сомнениями, но Эдвард, вернее, Харри, с таким увлечением перечислял характеристики автомобиля, что она не стала его перебивать: ручная сборка, специальные отсеки для оружия, кожаные сидения, набитые исключительно гусиным пухом, скорость до ста восьмидесяти километров в час… Элисон могла бы удивляться этому чуду техники так же, как ее напарник, если бы все ее мысли не сводились к одному.
Она в разведке.
Они едут в Берлин.
Она выйдет замуж и будет играть роль жены.
В какой-то момент ей стало так страшно, что опустив руку на сидение, Элис начала беспорядочно водить ладонью по нему. Но смутившись того, что Эдвард может понять это превратно, Эл спрятала руку в рукав пальто. А Милн, если и заметил что-то, то это точно не относилось к девушке, потому что все его внимание было приковано к дороге.
* * *
С начала их пути прошло больше трех часов. Они выехали за границу Фолкстона и теперь приближались к французскому городу Кале, когда Эдвард решил спросить о том, что не давало ему покоя с того дня, как он узнал в новом агенте МI-6 Элисон Эшби.
— Мы можем поговорить?
Сообразив, как, должно быть, нелепо звучит этот вопрос, когда он уже произнесен вслух, Эдвард понял, что ошибся с началом беседы.
— О чем?
Элисон ответила слишком поспешно, и Милн подумал, что, возможно, она так же, как и он, хотела обсудить то, что было между ними.
— О нас.
Фраза повисла между ними долгой паузой. Настолько долгой, что Эдвард уже решил, будто не дождется ответа. Но вот Эл, прямо посмотрев на него, прошептала:
— Не надо, Эд.
Скажи она что-нибудь другое, любую другую фразу, и не таким тоном, он бы просто кивнул и продолжил вести машину молча. Но именно этот несмелый шепот остановил его.
— «Не надо» чего, Эл?
— Всего. И не называй меня так, пожалуйста. Теперь я — Агна Кельнер.
— И как Харри Кельнер я должен знать, что происходит.
Эдвард бросил на Элисон быстрый взгляд, желая приободрить ее, но она только сильнее вжалась в сидение и отвернулась к окну.
Машина остановилась. Прямо на дорожной полосе, по которой они ехали. Эдвард долго слушал, как всхлипывает Эл, а потом закрыл глаза, положив руки на рулевое колесо.
В Танжере, во время своей первой операции, он едва не подорвался на мине. Его спасло мгновение. Почти такое же, что произошло у дома Элис, — звезда в небе. Только в Танжере было много звезд, и он до сих пор чувствовал, как тогда за ним, остановившимся поглазеть на них только на долю секунды, вспыхивает пламя взрыва. Парень из его группы погиб на месте, а его и еще двоих оглушило. Первая контузия. С тех пор он иногда слышит звон в ушах и чувствует, как накатывает беспричинный ужас. А еще, с того дня, он всегда оглядывается на звезды, если знает, что они смотрят на него с самого неба.
* * *
Милн очнулся от того, что его трясли за плечо. Элисон Эшби. Зовет его по имени и смотрит с явной тревогой. Если бы он мог, он рассказал бы ей про звезды в Танжере. Или в Фесе. В конце концов, они гораздо красивее тех, что светят над Великобританией. Так ему всегда казалось. О них стоит знать.
Эдвард вздохнул, приподнимаясь на сиденье, и хмуро осмотрелся вокруг. Время для сказок прошло, а из-за Эшби он и так стал слишком сентиментальным. Как будто такая сентиментальность была ему позволена. Резко отстранившись от Элисон, он повернул ключ в замке зажигания, и они продолжили путь к Кале, где их ждал отдых в гостинице и горячий ужин.
Городок встретил Эдварда и Элис поздно вечером. И, словно извиняясь перед ними за долгий, утомительный путь, который им пришлось проехать до встречи с ним, усыпал их фигуры пушистым февральским снегом, когда они шли от машины до дверей маленькой гостиницы на улице Рояль, которую позже назовут именем Роже Салангро.
Высокий худой метрдотель, увидев поздних постояльцев, без лишних слов вручил им ключ от номера на втором этаже, и когда, наконец, за ними закрылась дверь, Элисон первым делом сняла туфли и медленно начала ходить по ковру одной из комнат, разминая уставшие ноги.
Она была так увлечена этим занятием, что не обратила внимания на то, как Эдвард, поставив чемоданы на пол, наблюдает за ней. Но когда Эл взглянула на него, он отвел взгляд в сторону и прошел во вторую комнату, в которой была спальня.
— Ты хотел поговорить?
Элис остановилась в дверном проеме.
— Нет, Агна. Уже нет.
Милн ослабил узел галстука и бросил на девушку быстрый взгляд через плечо. Лампа, горевшая в гостиной, мягко освещала ее фигуру со спины, отчего Эл могла сойти за ангела, неизвестно как слетевшего с неба прямо в этот гостиничный номер. Шелест юбки затих где-то совсем близко, и Эдвард почувствовал, что она стоит у него за спиной.
— Что ты видел, когда мы остановились на дороге?
Милн вздрогнул и отошел к камину. Он не мог с ней говорить. Не здесь. Поэтому, круто развернувшись, Эдвард вышел из комнаты, вернулся к двери, и снова надел пальто. Элисон прекрасно его поняла. Она тоже подошла к входной двери, оделась и первой вышла из номера. Дверной замок звонко щелкнул им вслед, когда Милн и Эшби выходили из гостиницы.
Он долго рассматривал скульптуру Родена в центре пустынной площади, прежде чем заговорить.
— Мы должны быть осторожны, Агна. Очень осторожны.
— Я знаю… Харри.
Элисон прикоснулась к длинным одеждам медных скульптур, и убрала руку.
— Что я должна знать о тебе?
— Обо мне? В каком смысле?
Милн похлопал по карманам пальто в поисках сигарет.
— Мы же… Агна и Харри Кельнер.
— Да.
Кружок сигареты засветился ярко-оранжевым, и в темноте и тишине зимнего вечера стало слышно, как от сильной затяжки затрещала, сгорая, тонкая папиросная бумага.
— Если ты о том, что нам придется разыгрывать семейную пару, то тебе нечего бояться, я не причиню тебе вреда.
— Тогда о чем ты хотел поговорить?
После того, как Эдвард очнулся в машине по дороге в Кале, он не произнес ни слова. И Элисон беспокоилась за него. На ее вопросы он не отвечал, и взгляд его стал таким жестким, что, смотря на Милна, Эл подумала о том, понимает ли он, где сейчас находится?
— Харри?
Элис потянула Эдварда за рукав пальто, вынуждая повернуться.
— Что с тобой?
— Баве поставил тебя ко мне в пару из-за твоей внешности, Агна. Потому что ты очень красивая. И твоя красота слишком необычна для Германии. Впрочем, для Франции тоже.
В тусклом свете уличного фонаря Милн посмотрел сначала в глаза Элисон, а потом почти коснулся ее темно-рыжих волос, но в последний момент убрал руку, снова глубоко затягиваясь сигаретой и выпуская дым вверх.
— Он рассчитывает, что ты станешь своеобразной приманкой для того круга, в котором нам предстоит вращаться. Прости, но ты должна это знать.
— Он думает, что я стану…?
Элисон не закончила фразу и перевела взгляд на центральную фигуру памятника, правая рука которой изящно и печально указывала в небо.
— Я не знаю, что он думает. Но предполагаю. Именно поэтому я прошу тебя доверять мне. Баве здесь нет, и он никогда не окажется в таком переплете, как мы с тобой, Агна. Никто из центра точно не знает, что сейчас происходит в Берлине, поэтому они и отправляют нас туда. И мы должны все сделать правильно.
Элисон закрыла глаза, чтобы Эдвард не заметил как ей страшно. Но даже из-под закрытых век слезы быстро сбежали вниз по лицу и западали вниз. Он стер несколько капель с ее щек, и, наклонившись, нежно поцеловал в губы.
— Нет… не надо.
Элисон осторожно провела рукой по отворотам пальто Эдварда, и пошла в сторону гостиницы.
Брюгге, Гент и Антверпен легли одной сплошной полосой, по которой иногда, — в общем, довольно часто, — я гнал все сто восемьдесят километров. На шоссе между городами мы редко встречали попутчиков. Скорость охлаждала разум, и мне становилось легче. Как ко всему относилась Эл? Не знаю. Мы не разговаривали. Настолько, насколько это было возможно между двумя людьми, которые день за днем, на протяжении нескольких недель, находятся рядом друг с другом.
Наш Grosser Mercedes — «большой «Мерседес», как его называли в Берлине, — был великолепной машиной. Черный, элегантный, с отточенными линиями, блестящий на солнце. Я думаю, этот автомобиль нравился Эл, хотя она ни разу об этом не сказала, упрямо сохраняя молчание на протяжении всего пути, который нам оставалось преодолеть до Германии.
Уставая от дороги, она перебиралась на большое заднее сидение, где можно было неплохо выспаться. Так мы проезжали день за днем, следуя извилистыми поворотами загородных шоссе. Те дни были на удивление солнечными, и, если позволяла погода, мы опускали крышу «Мерседеса», который, превратившись в кабриолет, был больше похож на воздушный грозный корабль, спустившийся с неба, чем на машину, способную ездить по земле.
Конечно, мы не могли постоянно находиться в дороге, и, по примеру Кале, останавливались в мелких гостиницах, где, самое большее, проводили сутки, а потом снова отправлялись в путь.
Я очень хотел поговорить с Эл. Но после Кале эта идея казалась еще более странной, чем прежде. Мне хотелось узнать новости о ее брате, Стиве, с которым я какое-то время общался, в годы нашей учебы в Итоне. Но как бы я ни старался, все мои вопросы о нем Элис настойчиво игнорировала: пожимала плечом и отворачивалась к окну.
После остановки в Кале она вела себя так, что я не мог ее понять. Конечно, было бы лестно думать, что так на нее подействовал мой поцелуй. То, о чем я хотел бы пожалеть, но никогда не жалел. Потому что с первого дня нашей встречи в кабинете Баве, и позже, наблюдая за ней, когда она с удивлением рассматривала маску в чалме над памятником королевы Анны, я хотел этого, хотел ее поцеловать. И я уверен, что не эта моя «вольность» была причиной ее переменчивого настроения.
Она смеялась и грустила, впадала в задумчивость или часами сидела почти неподвижно, накручивая на указательный палец длинную прядь волнистых волос. Может быть, так проявлялось ее волнение перед тем, с чем ей предстояло встретиться в Германии, а может, это было совсем не так.
Иногда мне казалось, что я слишком много думаю, и что можно было бы, хотя бы на некоторое время, разрешить себе быть таким же свободным, как Эл. А она выглядела именно такой, — свободной и легкой, несмотря на все тревоги, раздирающие ее изнутри. И я завидовал ее свободе и наивности. Я забыл, что такое бывает. Но так было, действительно было.
И если когда-нибудь кто-то вспомнит о нас, о тех, кто выжил или погиб в это беспокойное время, мне хотелось бы, чтобы они знали: мы часто бывали счастливы во время войны. Даже Баве, получивший тяжелую контузию на полях Первой войны и поражение газом, от которого он лишился половины лица, — и потому был вынужден носить лицевой протез, — и даже я, почти не помнивший себя прежним, вольным мальчишкой, который творит всякие глупости, чему форма Итона нисколько не мешала. Несмотря на все, что происходило с нами и вокруг нас, мы оставались людьми, желавшими любви и жизни.
* * *
Один день, — это было в Ганновере, почти в финале нашего автомобильного, одинокого ралли, — Эл была особенно веселой. Мы остановились на обочине шоссе, и уже по привычке убрав крышу «Мерседеса», наслаждались солнцем, берлинером и горячим глювайном. Время словно остановилось, мы щурились от солнечных лучей, и Эл, наконец-то разговорившись, запрещала мне поднимать крышу автомобиля, со смехом отталкивая мою руку, если я хотел нажать на кнопку, чтобы закрыть машину.
Убрав остатки еды в дорожную корзину, она устроилась на переднем сиденье и смотрела в небо. Между нами была та тишина, которая, возникнув, перерастает в доверие. Признаюсь, тогда я позволил настоящей минуте увлечь себя и просто сидел за рулем, ни о чем не думая. Как вдруг Эл вскрикнула и перегнулась через дверь «Мерседеса».
— Ты видел?!
Помню, я нахмурился и отрицательно покачал головой: я ничего не видел, мне было слишком хорошо в ту минуту, впервые за последние девять «взрослых» лет, что я провел в разведке. Эл выгнулась снова, указывая пальцем вверх, в небо, но все, что видел я — это ее счастливая улыбка, блеск глаз и плавные линии стройного тела.
— Это был черный стриж!
Она повернулась ко мне, и вдруг заметила, как ее стопы упираются в мое бедро. Прозвучало быстрое «прости!», и Эл, волнуясь, поправила юбку, «правильно» усаживаясь на сидении.
С той минуты веселье кончилось. Впереди нас ждал Брауншвайг, а за ним — Берлин, в канцелярии которого мы перестанем быть «женихом и невестой», и окончательно превратимся в Харри и Агну Кельнер, — богатых немцев, которым нужно узнать, как пройти «наверх», в логово самого Грубера.
* * *
Эл скрылась за дверью ателье на Унтер-дер-линден два часа назад, а я остался ждать ее в машине. Это было пятнадцатого февраля, с момента начала власти Грубера прошло почти две недели, и за это время Берлин успел сильно измениться.
Флаги со свастикой, где кровавый круг обрамлял белый, приковывая внимание к черным крючьям в центре, трепал холодный ветер. Несмотря на холод, на улицах было очень многолюдно. Правда, как мне казалось, движения прохожих были резкими и хаотичными, — как у марионеток, еще не привыкших к ниткам, незримо связавшим их по рукам и ногам. Дверной колокольчик мягко прозвенел, дверь открылась и пропустила Элис. На ней было свадебное платье и белая шляпка с вуалью, которая наполовину скрывала лицо. Она улыбнулась мне, и села рядом, говоря, что теперь мы можем ехать на Александерплатц. Помню, что при взгляде на нее, еще более красивую, чем прежде, и очень взволнованную, — может быть, виной тому была обстановка всех последних дней, — я не знал, что сказать.
Я застыл, как немой соляной столб, и только молча смотрел на нее, пораженный ее красотой и сиянием. Элис улыбнулась мне, — весело, открыто и немного нервно, с дрожащим в улыбке уголком полных губ, — и явно ожидая от меня каких-нибудь слов. Но я, как это часто со мной бывает, молчал, не находя подходящих слов, которые могли бы выразить…
Я схватился за руль, момент прошел, и Элис перевела взгляд на дорогу, молча рассматривая прохожих. Согласно заданию, свадьба Харри и Агны Кельнер должна была быть скромной, но со свидетелями. Не найдя никого из проходивших мимо людей на эти почетные должности, мы решили, что возле канцелярии, на самой оживленной берлинской улице, свидетелей будет более, чем достаточно.
Церемония прошла быстро и точно, четко уложившись в пятнадцать минут, которые были отведены на регистрацию каждой пары. Мы уже подходили к «Мерседесу», когда дорогу нам перешел высокий, толстый мужчина. Он остановился перед нами и ждал, пока мы поравняемся с ним. При необходимости, я еще мог выстрелить в него из вальтера, но что было бы потом, когда меня схватили бы и обвинили в покушении, — или даже в убийстве, — самого Херманна Гиринга? А передо мной и Эл стоял именно он, рейхсминистр авиации Третьего рейха. Я не успел подумать о том, догадалась ли Элис, кто он, — искусственная улыбка раздвинула его губы, когда мы остановились рядом с ним. После обмена приветствиями Гиринг захотел узнать наши имена, и, оглянувшись на «Мерседес», улыбнулся еще шире.
Каково же было его удивление, когда я протянул ему паспорта Харри и Агны Кельнер и свидетельство о браке, заключенном только что. Казалось, что и истории про наш «Мерседес», сделанный по специальному заказу, он вполне поверил. В начале его смутило, что мы приехали на «машине фюрера», — так он выразился, потому что правом ездить на таких автомобилях обладали только высшие чины нынешней Германии. Сказав «ну раз уж вы немцы!», Гиринг захохотал, поправил козырек серой фуражки, и вернул мне документы, пристально рассматривая Эл.
Я почувствовал, как она вздрогнула и сжала мою руку. Потом, сделав легкое движение вперед, Элис очаровательно улыбнулась Гирингу и наклонила голову в знак благодарности. А он, звонко хлопнул в ладоши, посмотрел на нас долгим взглядом, и ответил, что не оставит нас, пока не увидит поцелуй молодоженов.
Фраза была произнесена вполне благодушно, но за этим тоном был явно различим приказ. Эл и я посмотрели друг на друга, и когда я наклонился к ней для поцелуя, она быстро закрыла глаза, чуть приподняв голову вверх. Ее губы были сухими, — совсем не такими, как я помнил их с момента поцелуя в Кале. Дыхание Элис прервалось, она хотела сделать вдох, и не могла. Весь поцелуй вышел неловким и комканым.
Гиринг, снова рассмеявшись, махнул рукой, словно завершая свое выступление, и говоря, что мы — «настоящие молодожены, если целуемся так неуклюже». Прощаясь с нами, он выразил пожелание новой встречи, — которая должна была состояться этим же вечером, — назвал адрес, подмигнул Элис и исчез в плотной толпе прохожих.
Гиринг давно растворился в толпе, но Элис все так же стояла на тротуаре, пытаясь разглядеть его среди прохожих. Холодный ветер играл вуалью ее белой шляпки, и она застыла на месте, словно в гуле уличной толпы ей одной было слышно то, что осталось тайной для всех остальных.
— Агна, пойдем, — наклонившись, сказал Харри.
Она скользнула рассеянным взглядом по лицу Эдварда, и снова начала рассматривать прохожих. Неужели она думала, что снова увидит Гиринга?
Вздохнув, Эдвард встал позади Элис, и, закрывая ее от колючего холода, взял за локоть.
— Но… где он?
Эл, словно очнувшись ото сна, с тревогой смотрела по сторонам.
— Пойдем, нам пора.
— Но куда он ушел? Это же…
— Я знаю, Агна.
Не желая идти, Элисон упиралась изо всех сил, и Эдварду пришлось приложить немало усилий, чтобы сдвинуть ее с места, и притом не быть грубым. Может быть, это он не рассчитал силу, а может быть Элис, забывшись, слишком сильно вывернулась из его рук, но сходя с тротуара, она неловко повернулась и вскрикнула от боли в плече.
— Ты в порядке?
В голосе Милна послышалась тревога. Они остановились у машины, и посмотрели друг на друга. А затем Эл, взявшись поврежденной рукой за ручку автомобильной дверцы, рванула ее на себя. Новая волна боли пробила ее руку током, — от кончиков пальцев до самого плеча, — но Элис, упрямо храня молчание, села в машину, спрятавшись в самом дальнем от водительского места углу. Убежище было смехотворным. Тем более, что у Эдварда не было никакого намерения говорить с Элисон. Но, если подобрав под себя ноги и свернувшись в комок, она чувствовала себя лучше, что ж, пусть.
Развернув «запрещенный» автомобиль, Харри помчался в фешенебельный район Груневальд, где у новоиспеченной четы Кельнер был шикарный дом.
* * *
На часах было без четверти девять, когда Элис, одетая в темно-зеленое длинное платье, вышла из своей спальни, и с решительным видом направилась к радиоприемнику. Она долго искала нужную волну, но когда нашла, не услышала ничего, кроме музыки Вагнера.
— Опять!
Девушка с такой злостью раскрутила ручку приемника, что гостиная наполнилась звуками радиопомех, извещая всех, кто только мог быть в доме, что на данной частоте нужные ей эфиры отсутствуют.
— Иди к черту!
Ударив по крышке приемника правой рукой, Эл поморщилась от боли. Когда она уже запомнит, что утром повредила именно эту руку? Словно отвечая на шум, вторая дверь, ведущая из гостиной в другую спальню, открылась, и на пороге показался Эдвард. Застегнув запонку, он осмотрел гостиную, в которой Элис воевала с радио.
— Агна?
Эл оглянулась на Эдварда. Ей хотелось сказать, что она никакая не Агна, но вовремя спохватилась.
— Эфир закончился.
— Да, только что. Я послушал музыку.
— И что же?
— Я не стану тебе отвечать, когда ты так злишься. Кроме того, нам пора.
— Ты все время говоришь одно и то же: «нам пора», «нам надо идти», «пойдем»… Мне это надоело!
Выражение лица Милна не изменилось, не считая того, что одна бровь немного приподнялась, напоминая крышу домика с детского рисунка. И если бы Элис знала Эдварда лучше, она бы поняла, что это забавное изменение в его лице — ничто иное, как предупреждение. Но фрау Кельнер была слишком увлечена собой, чтобы заметить в этот момент что-то еще. Ступая бесшумно, Милн подошел к бару, спрятанному в большом глобусе, отвел крышку назад и уставился на графины и бутылки со спиртным разных видов и сортов.
— Сегодня важный вечер, Агна. Вполне вероятно, что от того, как он пройдет, будет зависеть очень многое. Поэтому, если ты и дальше намерена вести себя как маленькая, капризная девочка, то тебе лучше остаться дома.
— Я не хочу быть фрау Кельнер! — с горечью произнесла Элисон.
— Что ж… хотя бы в этом мы согласны друг с другом.
— Я могу помочь.
Элис остановилась за спиной Эдварда, наблюдая за тем, как он готовит машину к поездке.
— Я почти закончил.
Милн наклонился над пассажирским сидением, в котором обычно сидела Эл, и поднял с коврового покрытия крохотную, мятую ромашку. Выпрямившись, он покрутил цветок в руке, и аккуратно положил его между двумя камнями.
— Можешь садиться в машину, Агна.
Дверца приятно щелкнула, закрываясь за девушкой, и она принялась расправлять вечернее платье. Прошло несколько минут, и Элис подумала, что Эдвард ждет, пока она закончит возиться с нарядом, но он молчал, задумавшись о чем-то своем.
— Харри, что случилось?
Эл коснулась локтя Милна, но он резко отдернул руку в сторону. Послышался глубокий, медленный вдох.
— Сегодня утром, возле мэрии, мы с тобой видели Херманна Гиринга, «министра без портфеля», рейхсминистра авиации, или, что еще проще, — того, кто входит в ближайший круг Грубера. Сейчас мы едем в дом другого приближенного…
— Министра пропаганды, который тоже входит в этот круг, — в тон Эдварду продолжила Элисон. — Зачем ты говоришь мне все это?
— Я хочу быть уверен, Агна Кельнер, что вы в полной мере понимаете, куда именно мы сейчас отправимся.
Милн так пристально посмотрел на Элисон, что она не выдержала его взгляда и отвела глаза в сторону.
— Ты все помнишь?
— Да. Я — Агна Кельнер, твоя жена. Сегодня утром мы поженились в мэрии, а в конце церемонии купили это.
Элис ткнула пальцем в книгу с заголовком «Mein Kampf» и угодила прямо в глаз Груберу. — Ты — Харри Кельнер, сотрудник…
— Где твое кольцо? — резко спросил Милн, прерывая Элисон.
Послышалось тихое «merde!», и зеленое платье исчезло в темноте. Элисон вернулась очень быстро. Вытянув вперед левую руку, она продемонстрировала Эдварду массивное обручальное кольцо, закрывшее всю фалангу ее безымянного пальца. Оно было сделано в форме ромба. Острые вершины расходились вверх и вниз, а центр кольца, где соединялись грани, выполненные из золота и серебра, украшало множество бриллиантов.
Милн коротко кивнул и поднес руку к замку зажигания, когда Элисон спросила:
— Как мне себя вести?
— Просто хорошо сыграй свою роль. И притворись, что любишь меня.
* * *
Особняк на Рейсхканцлер-платц светился огнями, когда Харри и Агна Кельнер шли к широкой мраморной лестнице. Харри подал руку, и Агна, улыбаясь, сжала его ладонь.
— Я была влюблена в тебя. То Рождество, помнишь? И потом, долго после него.
Черные, блестящие ботинки Кельнера застыли на месте.
— Я хотела, чтобы…
Громадная входная дверь особняка медленно отъехала в сторону, и слова Элис, сказанные шепотом по-французски, исчезли в темноте. Служанка с дежурной улыбкой смотрела на то, как они медленно приближаются к дому ее хозяина, Йозефа Гиббельса.
Фрау Кельнер любезно улыбнулась женщине, а Харри, сняв с плеч своей супруги накидку, расшитую золотой нитью по темно-зеленому бархату, застыл на месте, уставившись на спину Агны. На обнаженную красивым вырезом спину Агны.
Почти соприкасаясь с краями выреза, по спине девушки спускалась вниз тонкая золотая цепочка. Харри пробежал взглядом по спине девушки, удивляясь тому, как точно все грани цепочки образуют идеальный золотой треугольник, и, посмотрев на его перевернутую вершину, увидел ответ: внизу, в той точке, где сходились грани, раскачивался маленький бриллиант. Сверкая разноцветными огнями, он едва касался ложбинки на спине фрау Кельнер, и снова уходил назад, создавая эффект драгоценного маятника, к которому неизменно возвращался взгляд стороннего наблюдателя.
Тихо выругавшись, Кельнер прикрыл глаза. А открыв их, увидел как Агна, улыбаясь, идет навстречу Гирингу, который уже заметил и ждал ее. Левая ладонь министра скользнула по спине девушки и вернулась обратно, вытягиваясь вдоль толстого тела своего хозяина. Харри быстрым шагом прошел по гостиной, остановился рядом со своей женой и обнял ее за талию.
— А вот и он!
Министр, страдая манерами устаревшей театральности, широко улыбнулся Кельнеру, и, изучив его лицо за пару секунд, энергично выбросил вперед правую руку для приветствия. — А я подумал, вы не придете.
— Мы не могли оставить без внимания такое приглашение, — ответила Агна.
Ее голос прозвучал так близко, что Харри почувствовал дыхание девушки. Фрау Кельнер перевела взгляд на мужа, и чудесно улыбнулась ему.
— Рад это слышать, фрау Кельнер. Такой случайностью нельзя пренебрегать, тем более в день свадьбы.
Оркестр заиграл «Ich Steh mit Ruth gut», и последние слова Гиринг прокричал, наклонившись вплотную к Агне. Затем он отошел к большой группе гостей и Харри пригласил жену на танец.
Незатейливая песня звучала в точности как рождественские мелодии, и Агна очень старалась танцевать как можно лучше, хотя все время, что длился танец, ее не покидало ощущение нереальности происходящего. Музыка еще звучала, когда Гиббельс кривой, дерганой походкой подошел к Кельнерам, и остановил их танец. Не утруждая себя приветствием или хорошими манерами, он остановился в двух шагах от Агны, подробно рассмотрел ее фигуру мертвым взглядом темных глаз, и сказал очень громко, чтобы его слышало как можно больше гостей:
— Кто вы?
Повернувшись к Гиббельсу, и едва успев посмотреть на Харри, Агна ответила:
— Здравствуйте, министр. Я Агна Кельнер, а это мой супруг, Харри.
Восхищенный взгляд первого карлика третьего рейха остановился на темно-рыжих волосах девушки.
— Я знаю, что вы приехали в Берлин только сегодня утром. Для чего?
— Я назначен на должность в одном из филиалов фармацевтической компании «Байер», министр, — учтиво ответил Харри, переводя внимание министра пропаганды и просвещения на себя. — Супруга сопровождает меня в поездке. К тому же, мы не могли отказать себе в удовольствии пожениться в таком прекрасном городе, как Берлин.
Пепельно-черный взгляд Гиббельса обратился к Кельнеру, и в эту минуту к ним присоединился Гиринг.
— В самом деле, Йозеф! Я могу сам рассказать тебе о них буквально все!
Грузный министр рассмеялся собственной фразе, проверяя взглядом наличие улыбок на лицах Кельнеров. Их лица действительно улыбались, а большим пальцем левой руки, которую она завела за спину, Агна не переставая трогала обруч своего кольца.
Министры заговорили, и медленным шагом ушли в противоположный угол зала. Отвечая своему коллеге по партии, Гиббельс вдруг оглянулся на Агну, и вновь остановил на ней свой выжженный взгляд. Кольцо на безымянном пальце фрау Кельнер снова сдвинулось в сторону.
* * *
Элисон забежала в свою комнату, на ходу закрывая дверь перед Милном. Но это не помогло: стеклянная дверная ручка, ударившись о стену, разбилась на мелкие осколки.
— Ответь мне!
— Нет, я не стану с тобой говорить, когда ты так злишься.
Элис вернула Милну его же слова, сказанные им несколько часов назад, и теперь смотрела на него в ожидании ответной реакции.
— Как ты могла надеть такое платье?! Это безумие!
— Неужели? А по-моему, всем оно очень понравилось!
Девушка попыталась пройти мимо Эдварда, но он преградил ей путь.
— Что ты сказал перед тем, как мы поехали туда? «Сегодня важный вечер, Агна. От того, как он пройдет, будет зависеть очень многое».
Элисон так точно изобразила голос Эдварда, что он забыл о своем гневе, и в удивлении посмотрел на нее.
— И вечер прошел так, как было нужно, Харри Кельнер. Спроси у Гиринга.
— Лучше у Гиббельса.
Лицо Милна скривилось в отвращении.
— Он не отстанет от тебя, Эл. И может случиться так, что никто не сможет тебя от него защитить.
Эдвард почувствовал рядом с собой движение, мгновенно проснулся, выхватил из-под подушки нож, и со свистом рассек им ночную темноту. Нож разрезал воздух, но не встретил никакой преграды. Спрятав лезвие, Милн поднялся с кровати. Элис стояла перед ним в длинной белой сорочке, застегнутой под самым горлом. Ее правая рука заметно, сильно дрожала.
— Ты… они убьют нас, да? Убьют, Эд?
В глазах Элис блестели слезы, и у нее никак не получалось сфокусировать взгляд на фигуре Эдварда: вместо того, чтобы быть высокой и четкой, она расплывалась и распадалась на светлое и темное пятно.
Девушка почувствовала, как Эдвард обнял ее, и заплакала еще сильнее. И если бы он не обнимал ее так тепло, и так крепко, кто знает, сколько бы еще она мучилась от того жуткого страха, что не давал ей заснуть, напоминая о том, что Милн, конечно, оказался прав: ей не стоило надевать то зеленое платье. Спокойный, глубокий стук его сердца, и слова, которые Эдвард шептал ей, постепенно успокоили Эл, вытаскивая ее из омутов бесконечного страха. Обняв Милна, она вдруг почувствовала, как сильно устала, и, глубоко вздохнув, уткнулась носом в грудь Эдварда, который, подхватив Элисон на руки, отнес девушку в ее спальню.
Паркет под ногой скрипнул, и Элис вздрогнула от собственного движения. Опустившись в кресло, она медленно осматривала гостиную своего нового дома. Камин с черной решеткой, зеркало в тяжелой золотой раме над ним… Взгляд девушки задержался на картинах с изображением лесных пейзажей и сцен охоты, а потом снова вернулся к Эдварду.
Он спал, положив голову на спинку дивана. На коленях Милна лежал новый номер Volkischer Beobachter, а простой карандаш, которым он, очевидно, делал какие-то заметки, по-прежнему был зажат в правой руке.
Во сне Эдвард выглядел не таким суровым, и светлая прядь волос, упавшая на лоб, придавала его лицу больше мягкости, отчего он казался почти ровесником Эл.
Рассматривая его лицо, девушка улыбнулась. Ей вдруг захотелось прикоснуться к этой пряди волос. Она поднялась из кресла и уже сделала шаг вперед, протягивая руку к лицу Эдварда, как он открыл глаза, с удивлением рассматривая ее туманным ото сна взглядом. Эл неловко улыбнулась и отошла назад.
Полы ее шелкового халата едва слышно прошелестели, когда она, по своей привычке устраивалась в кресле, подогнув под себя ноги. У нее оказалось еще несколько секунд, пока Эдвард приходил в себя, окончательно просыпаясь, и Элисон, может быть впервые с момента их встречи в Лондоне, открыто посмотрела на Милна.
— Если будешь и дальше на меня так смотреть, я спрошу у тебя то же, что спросил Рочестер у Джен Эйр.
Эдвард наклонился вперед, к Элисон, и, подражая ей, начал внимательно рассматривать лицо девушки.
— А что он спросил у нее? — смущенная улыбка приподняла уголок полных губ Элис.
— Находит ли она его красивым.
Милн улыбнулся, внимательно наблюдая за ней, и румянец неровными пятнами побежал по щекам Эл.
— И что она?
— Ответила, что он нисколько не красив, но на его возмущение, чего же ей нужно, ведь руки-ноги при нем, добавила, что дело не во внешней красоте.
Милн, зная, что его взгляд очень смущает Эл, намеренно и пристально следил за переменами ее лица, отмечая про себя, как в свете солнечных лучей меняется цвет зеленых глаз Элис. Посмотрев в окно, девушка опустила голову вниз, а затем снова взглянула на Эдварда.
— Хорошо, что у тебя голубые глаза.
Брови Милна сдвинулись на переносице, и опять разошлись в стороны.
— Звучит вполне в духе Джен Эйр.
— Прости, я не… Ты красивый, очень, но их требования…
Девушка поднялась из кресла и встала напротив Милна. Но даже выпрямись она, как натянутая струна, Элисон все равно достала бы макушкой только до середины плеча Эда.
— Все в порядке. Для сегодняшней Германии это действительно большая удача.
Эдвард отошел к камину, и достал из кармана сигареты Amateur. Красная пачка с тихим хлопком упала на мраморную полку, и, проехав по ней, остановилась на другом конце, зависнув над полом. Послышалось шипение, в гостиной запахло сигаретным дымом.
— Нам нужно многое обсудить.
Милн говорил не оборачиваясь, и Эл, смущенная, смотрела на его спину, отмечая про себя, как ровно, — на одном уровне, — закатаны до локтей рукава белой рубашки Милна. — У нас будет домработница, и…
— Я могу все делать сама!
— Нет, не можешь.
Эдвард оглянулся на Элисон и отрицательно покачал головой.
— Не можешь и не будешь. Этот вопрос уже решен, и даже не нами.
Стряхнув пепел от сигареты в хрустальную пепельницу, Милн продолжил:
— Гиринг вчера был настолько предупредителен, что обещал отправить подругу своей домработницы Цилли к нам на помощь. Проверенные люди министра.
Последнюю фразу Милн произнес с более явной усмешкой.
— То есть мы не можем…
— Нет, Агна, не можем. И поэтому у нас будет общая спальня.
Заметив, что Элисон нервно сглотнула, Милн поспешил добавить:
— Как я уже сказал, ты можешь мне доверять. Здесь тебе бояться нечего. Но одна из наших задач — правдоподобно изобразить семейную пару, поэтому…
— Я и не боюсь! — Элисон торопливо прервала Эдварда, и посмотрела на него. — Это… понятно.
Он кивнул, и сказал, — так задумчиво и медленно, словно вовсе не хотел, но вынужден был это сделать:
— Вчера вечером ты сказала, что была влюблена… в меня.
Элисон бросила на Эдварда быстрый, взволнованный взгляд.
— Да, я… давно… — девушка нервно вздохнула. — Спасибо за вчерашний вечер. И за то, что когда я пришла ночью, ты… Я еще не привыкла ко всему этому, но обещаю…
— Привыкнуть? — подсказал Милн, и улыбнулся, умалчивая о том, что к той постоянной опасности, в которой они теперь находятся, если и можно привыкнуть, то, кажется, не так скоро, как хотелось бы.
Прошло около двух недель с того памятного вечера в доме Гиббельса. Я говорю «памятного», потому что он стал увертюрой к тому, что мне и Эл предстояло пережить в Берлине. Несмотря на потрясение, которое испытала Элисон от встречи с теми, кто мечтал о новом, тысячелетнем рейхе, после, когда волнение прошло, и я, и она сошлись на том, что все виденное нами, — начиная от «случайной» встречи с Гирингом возле мэрии, в день свадьбы Агны и Харри, и заканчивая прощанием в конце длинного праздничного вечера в доме маленького министра пропаганды, — было не более, чем началом игры.
Насколько большой и опасной? Этого мы знать не могли. Думаю, тогда этого не знал и сам Гиринг, должно быть, считавший себя нашим главным кукловодом. Многие приближенные Грубера, впрочем, как и сам он, обладали чрезвычайной экспрессивностью во время публичных выступлений. Резкие, быстрые и неожиданные пассы руками, пальцы, вывернутые в этой же экспрессии, — иной раз под совершенно невероятным углом, — все это не было выдумкой фанатов. Именно при помощи такой поставленной игры, в основе которой, конечно, был точный и четкий расчет, множество людей было мгновенно превращено в пламенных, если не сказать ярых сторонников Грубера — «нового солнца» германской истории. Вот только солнце было черным.
Но тогда, в пылу «обиды», нанесенной Германии в Первой войне, о чем рейсхканцлер постоянно твердил своему народу, этого почти никто не замечал или — не хотел замечать.
…Итак, мы моментально оказались в игре, и знали, что за вечером, проведенным в доме Магды и Йозефа Гиббельсов, от Гиринга и прочих людей того круга, вполне возможно, вновь последуют приглашения: мы были для них развлечением, — незнакомым, забавным, и, что лучше всего, — новым. Им ничего не стоило уничтожить нас, но игра забавляла куда сильнее. Кроме того, приблизить к кругу избранных людей с улицы, какими тогда мы выглядели в глазах Гиринга, было само по себе весьма пикантно. А ведь он был единственным из всей «верхушки», кого простые немцы любили за импровизацию.
Эту способность он и сам очень любил в себе, любовался ею и — собой, преображенным с ее помощью так, что, может быть, физическая боль и мучительные воспоминания об унизительном ранении в пах, уходили на второй план, меркли в лучах восходящего черного солнца, которому, сами не зная, что творят, рукоплескали тысячи и миллионы людей: мужчин и женщин, мальчиков из «Груберюгенд» и светловолосых девочек, еще слишком маленьких для того, чтобы узнать, что они и их тела целиком и полностью принадлежат Груберу и всей Германии. И что нет ничего более почетного, чем стать матерью как можно большего числа «арийцев», а рождены они в законном браке или нет — не важно, ведь сама Герда Бортман, темноволосая красавица, исповедовала полигамные отношения и свободу нравов.
Но все это возникало постепенно, и, вместе с тем, очень быстро, а пока мы с Эл привыкали к нашему дому в элитном районе Груневальд, и ко всей новой жизни, в которой у нас были другие имена: Харри и Агна Кельнер. С легкой подачи всезнайки Гиринга у нас появилась домработница Эльза. Высокая и худая, она очень напоминала высохшее дерево. С ней и я, и Эл были очень осторожны и предельно лаконичны в общении. Мы знали, что она дружит с Цилли, домоправительницей Гиринга, а значит, то, что я не нашел в нашем доме микрофонов и жучков, когда мы заехали в дом Кельнеров, совсем не означало, что за нами никто не следит.
Все было с точностью наоборот, и, должен сказать, мы с Эл довольно неплохо разыгрывали свои партии влюбленных супругов, живущих в прекрасном трехэтажном доме с темно-синей крышей. Разобрав вещи и осмотрев дом, мы решили обустроить спальню на втором этаже, в самой просторной комнате. Эльза очень гордилась этим выбором, и с истинно арийским рвением к порядку, которое некоторых приводило к созданию концлагерей, а иных — к спасению заключенных из этих лагерей, стала обустраивать и прибирать нашу спальню.
Со стороны могло показаться, что избалованная фрау Кельнер, топнув ножкой, упросила своего не слишком сговорчивого мужа переехать в эти апартаменты, но настоящая причина была в том, что помимо удобного расположения, в этой комнате была еще одна небольшая комната, — тайная, скрытая толстыми, дубовыми перегородками. Я обнаружил ее, когда обходил дом в первый раз, и об этой комнате было известно только мне и Эл.
Кстати, об Эл.
Помня тот взгляд, каким она посмотрела на меня, когда я сказал об общей спальне, я подумал, что у нас ничего не получится. Не получится изобразить супружескую пару. Эл тогда была похожа на солнечного зайчика, который, — даже если он запущен тобой, — никак не удается поймать.
Я видел, что ей мало нравится дом, и что в нем ей вряд ли будет комфортно. Но она ни разу этого не показала, и не упрекнула меня или обстоятельства ни единым словом или даже жестом. Днем мы играли счастливую семейную пару, в условленные часы перехватывали по радио шифровки, в которых нас хвалили, — часто слишком сильно — за успехи и ценные сведения, сообщенные Центру. Позже мы отправлялись на прогулку, подальше от дома Кельнеров, чтобы передать новую информацию, а вечером ложились спать в одну кровать. И Эл, одетая все в ту же сорочку с высоким воротом, которая была на ней в ночь после вечера в доме Гиббельса, желая мне доброй ночи, отворачивалась и думала о чем-то своем. Она по-прежнему отказывалась говорить о своем брате, часто вздрагивала в ответ на мои вопросы о нем, и потому я решил, что именно он занимает ее мысли.
Эл была скрытной, а может, она боялась меня? Ее стеснительность могла бы показаться наигранной, но для девушки, воспитанной в строгих стенах закрытой школы для девочек, оказалось, что она на удивление быстро умеет оценивать обстановку и вести себя согласно ей. Этот природный талант Эл не раз спасал ее и нас. Так же, как он спас ее в феврале 1933 года. Элис было сложно, но я видел, что она очень старается как можно скорее войти в окружающую нас действительность с наименьшими потерями, и за это я ей очень благодарен.
* * *
Это было 28 февраля. Позже его назовут «последним днем Веймарской республики», но на самом деле, эта республика исчезла много раньше, чем Грубер пришел к власти. В тот день я, несмотря на протесты Эдварда, поехала в Берлин одна. Предлог был более, чем веский, — Агна Кельнер записалась в салон красоты, где из ее длинных, рыжих волос должны были сделать модную, короткую стрижку: если уложить волосы «мягкими волнами», то вы, несомненно, попадете в число самых модных девушек. Помню, как перед уходом я спорила с Эдвардом, доказывая, что короткая дамская стрижка теперь — такая же необходимость, как высокий рост, хорошее сложение и голубые глаза. Было и смешно, и грустно смотреть, как Эд уверял меня не подстригать волосы, говоря, что они очень красивые. Но мы оба знали, что и ему, и мне необходимо стать «истинными немцами». И чем скорее мы сольемся с беспокойными толпами людей на улицах Берлина, тем будет лучше для нас.
Я задержалась в городе гораздо дольше, чем планировала. Любой хороший агент знает, что помимо языка той страны, в которой он выполняет задание, очень важно владеть невербальной стороной общения. Именно поэтому после парикмахерской я долго гуляла по улицам города, рассматривала прохожих — мужчин, женщин, детей. Кто-то торопливо перебегал улицу, кто-то ждал трамвай на булыжной мостовой, а один мальчик, лет восьми, выбежал на улицу из булочной и едва не упал, пытаясь на ходу поправить кепку, которая была ему слишком велика. Он улыбался так задорно и счастливо, что мне показалось, будто тревога, которая окутала Берлин со всех сторон, растворилась. Сейчас удивительно об этом вспоминать, но до 1933 года Берлин обладал огромной славой, которая ничуть не уступала легендам, сложенным о Лондоне или Париже. Берлин влюбил в себя множество людей. Именно здесь люди самых разных взглядов и предпочтений чувствовали себя свободно и легко. Не случайно Кристофер Ишервуд позже скажет об этом городе: «Берлин значил — мальчики».
О пожаре в Рейхстаге стало известно около десяти вечера. Я оказалась в толпе прохожих, замерших при виде бушующего на вершине купола огня. Громадное пламя вырывалось вверх, сжигая великолепное здание изнутри. Как завороженные, мы следили за огненным представлением. А это было именно представление: вскоре, после того, как оно началось, на него пожаловали самые «первые люди». Я видела как стремительно, почти шаг в шаг, Грубер и Гиббельс подошли к Гирингу, который уже был у здания. Они о чем-то говорили, и Грубер резко взмахнул правой рукой. Черная челка упала ему на лицо, и он снова гневно поднял руку.
…Огонь тушили несколько часов, и еще до того, как пламя затихло, Гиринг объявил, что это был поджог. Во всем обвинили коммуниста Маринуса ван дер Люббе и еще нескольких человек. После «суда» Маринуса, — которого многие считали неуравновешенным пироманом, — казнили. Отсечение головы. Но это было позже, осенью. А на следующее утро, в первый день весны, по указанию Грубера, были подписаны указы, ограничивающие неприкосновенность личности и собственности, свободу слова, печати и тайну переписки. Так начались массовые аресты и были открыты «дикие тюрьмы». Именно это стало началом настоящего террора.
Когда я вернулась в Груневальд, Эдвард ходил по комнате как часовой, шаг за шагом измеряя ее своими длинными ногами. Увидев меня, он остановился, и закрыл глаза, что-то прошептал. А я, от волнения, никак не могла перестать улыбаться. Мне снова стало очень страшно. За себя, за нас. И за мальчика, выбежавшего из булочной. Который, может быть, так и не дорастет до своей большой кепки.
— Где ты была?
Вопрос Эдварда прозвучал громко и резко, но Элисон этого будто не слышала.
— Рейхстаг горит, — только и смогла сказать она, глядя перед собой широко раскрытыми глазами.
Сбросив маленькую черную сумочку, на которой еще блестели дождевые капли с руки в кресло, девушка быстрым шагом подошла к радиоприемнику, и остановилась. Конечно! Как она могла забыть? Нужно составить сообщение, согласно таблицам для бухштабированию, и только потом передавать его! Эл тяжело вздохнула. Какая глупость! Если так пойдет и дальше, ей не стать настоящим разведчиком. И тогда… кто знает, где она окажется? Может быть, ее, как других людей, затолкают в грузовик и увезут в одну из тюрем на пытки? Девушка отошла от радиоприемника, и не глядя села на край дивана.
— Я видела их. Грубер, Гиббельс, Гиринг. Гиринг бы там раньше остальных. Как думаешь, это поджог?
— Поджог? Возможно.
Эдвард спрятал руки в карманы брюк и посмотрел на Элис. Черная, плотная юбка закрывала ее колени, спускаясь до пола. А пальцы ног упирались в ковер почти вертикально, словно она была балериной, которая готовится к выступлению. Но, несмотря на неудобную позу, Элис выглядела так, словно совсем ее не замечает. Она по-прежнему смотрела прямо перед собой и что-то говорила, но голоса не было слышно, — только заметно движение губ. Волнистая прядь остриженных волос упала на лоб, похожая в свете настольной лампы на медный луч закатного солнца.
Милн посмотрел на носки своих домашних туфель.
— Я был там.
Прошло несколько секунд, прежде чем Эл ответила.
— Зачем?
Взгляд зеленых глаз, которые в полумраке показались черными, был таким удивленным, что у Эдварда мелькнула мысль: а не розыгрыш ли все это? Эта поездка, свадьба, вечер в доме Гиббельса? Правда или ложь? Как та игра, в которую он с мальчишками играл в детстве. Может быть, Эл гораздо лучший разведчик и настоящая актриса? Милн улыбнулся. «Ни один вариант не стоит исключать из поля зрения» — так ему говорили. А он старался ее оберегать, беспокоился о ней. Настолько сильно, что поехал за Эл, но так и не нашел ее на площади у Рейхстага. Зато прекрасно видел, как беснуется Грубер в разговоре с Гирингом.
Вернувшись в Груневальд, Милн передал срочное сообщение в Центр: «Рейхстаг горит. Не исключаю, что это провокация Грубера. Подробности позже».
Когда роль, исполняемая человеком, стирает саму его суть и становится новой, приобретенной сущностью, под которой уже почти не различить стертые черты настоящей личности?
— Искал тебя.
Губы Эдварда были все еще растянуты в улыбке. На лице Элис появилось выражение, похожее на изумление. Она помолчала, прежде чем ответить.
— Мне кажется, я отвлекаю тебя.
Девушка посмотрела на Милна, и не увидела в его лице ничего, что убедило бы ее в обратном: у Эдварда была только безрадостная усмешка, застывшая на тонких губах.
— Да. Пожалуй, даже слишком.
— В таком случае, не буду больше тебе мешать. Я переезжаю в другую комнату.
Растрепав аккуратную укладку, сделанную в салоне, Эл поднялась с дивана.
— Ты не можешь, Эльза придет утром! — с раздражением ответил Эдвард.
Элис ушла, ничего не ответив.
* * *
Утро первого марта было холодным и пасмурным. Ранние пешеходы мерзли на остановках в ожидании трамваев. Кто-то сильнее кутался в не слишком теплое пальто, и можно было заметить, как жительницы Берлина, проходя по улицам быстрым шагом, оглядываются по сторонам, останавливаются, и потирают озябшие ладони, смотря на них с какой-то досадой или растерянностью.
Ночь с 28 февраля на 1 марта была страшной для людей и богатой на аресты для гестапо, тайной полиции, которая с приходом нового шефа, — «дяди Херманна» — очень популярного среди обычных берлинцев, великолепно игравшего одну из своих излюбленных ролей, — добродушного толстяка, — быстро стала ночным кошмаром многих и многих жителей города. Полицейские грузовики курсировали по Берлину в поисках новых жертв, и недостатка в них не было. Прохожие с волнением и тревогой смотрели на проезжающие мимо полицейские машины, переполненные схваченными «инакомыслящими» нового победоносного режима, и не могли знать, что, может быть, именно им довелось увидеть людей, посаженных за решетки черных грузовиков, в последний раз.
Пиромана ван дер Люббе, который, по слухам, страдал психическими отклонениями, и в часы, когда горел Рейхстаг, находился в состоянии наркотического опьянения, осудят и казнят очень быстро и очень выгодно для «великолепной четверки», как тогда называли Грубера, Гиринга, Гиллера и Гиббельса. Его тело не отдадут семье для погребения, а, обезглавленное, сбросят в очередную братскую могилу где-то на окраине Берлина: ведь убитых в застенках тюрем в те дни, коих были сотни, все-таки нужно было как-то хоронить. Досадная, но неизбежная работа.
Годы спустя, когда отгремит по всему миру война, выяснится, что Рейхстаг был подожжен по прямому указанию Гиринга.
Но тогда, в тысяча девятьсот тридцать третьем, обвинив в поджоге неугодных им коммунистов, национал-социалисты сделали еще один большой шаг в сторону тотального захвата власти. И если еще одним следствием этой лжи стали доносы, ужас и страх людей, что ж, — то было только на руку новой правящей партии.
Поразительно, но, несмотря на все знаки тех дней, даже горящий Рейхстаг не стал для большинства обывателей предостережением. Грубер кинул в протянутые тарелки обещание побороть массовую безработицу, присыпав это, со временем исполненное обязательство спортивными праздниками, салютами, ночными, восторженными
шествиями с факелами, и словами, — множеством слов и криков, — об исключительности «арийской» расы. О том, что сами новые вожди на арийцев совсем не похожи, и что в руках у них — острые ножи, уже замазанные кровью, которые в любой момент могут повернуться в сторону самих немцев, почти никто не думал. А те, кто думал — бежал на вокзал и спешно уезжал в Австрию, Швейцарию, Америку. Те дни в Берлине были странными, тревожными, кровавыми и противоречивыми. Берлин еще оставался Берлином, но, украшенный тысячами свастик, постепенно переставал быть собой.
Поморщившись от утреннего света, Элис открыла глаза и вздрогнула: перед ней, одетая в черную форму с белым накрахмаленным фартуком, стояла Эльза, и изумленно смотрела на фрау Кельнер, спящую в библиотеке, на кушетке. Взгляд домработницы был настолько красноречивым, что Элис показалось, будто вся ее фигура тоже изогнулась в форме вопросительного знака. Не сдержавшись, девушка весело рассмеялась, пожелала домработнице «доброго утра», и вышла из кабинета. В поисках своего мужа она обошла весь дом, но, как выяснилось, «герр Кельнер полчаса назад отбыл на завод компании «Байер» и вернется только во второй половине дня».
Эдвард вернулся около шести часов пополудни. Столкнувшись в дверях с Эльзой, чей рабочий день уже закончился, он поздоровался и сразу же попрощался с ней. А между этими словесными ритуалами успел выдержать въедливый взгляд прислуги и выслушать подозрения, произнесенные шепотом: фрау Кельнер, судя по всему, ночевала в библиотеке, потому что утром, придя на работу, Эльза лично застала фрау спящей на кушетке у окна в одежде — черном костюме, состоящим из пиджака, черной, узкой юбки, и белой шифоновой блузки с воротником жабо.
Кроме того, заметив Эльзу, хозяйка рассмеялась, пожелала ей «доброго утра» и вышла из комнаты. Почти весь день фрау провела дома, исключение — поездка в Берлин, время отсутствия составило 2 часа 10 минут. Завершив свой доклад, Эльза, явно очень довольная собой, кивнула и вышла из дома на Хербертштрассе, 10.
Все время, пока Милн слушал прислугу, он внимательно рассматривал ее лицо и фигуру с высоты своего роста, с интересом думая о том, что в голове или в организме иного человека отвечает за это свойство человеческой природы — донос, прикрытый самыми лучшими и благородными, — по мнению обладателей этого качества, — целями?
Когда за домработницей закрылась дверь, он снова напомнил себе, что с ней нужно быть как можно внимательнее, и поднялся на второй этаж, в спальню, где, к его удивлению, была Эл. Сидя на кровати, она что-то увлеченно писала, а закончив, подошла к Милну, и протянула ему записку. Не глядя на девушку, Эдвард повернулся к большому напольному зеркалу, медленно развязывая темно-красный галстук.
— Я запрещаю тебе ночевать в любой другой комнате, кроме этой.
— У тебя нет права запрещать мне что-либо, ты мне никто.
Стоя за спиной Эдварда, Элисон буравила взглядом его широкую спину.
— Ошибаешься, Агна. Здесь я твой муж. И в нашей паре именно я — старший агент. И если еще раз в отчете праведной Эльзы о твоем дне я услышу ее сомнения в благополучии брака Агны и Харри, я сделаю то, что тебе не понравится.
Эдвард посмотрел на Элис через зеркало, и успел заметить, как она вздрогнула от его слов. Но, сжав руки в кулаки, тут же высоко подняла голову.
— И что же?
Элисон держала голову так высоко, словно на ее шее затягивали веревку, а ей хотелось хотя бы еще на мгновение продлить свою жизнь. Это движение Милн уже не раз замечал в ней раньше, и, оглянувшись, с удивлением посмотрел на девушку.
— Узнаешь, если не послушаешь меня.
— Это угроза?
— Предупреждение, Агна. Проверять не советую. К тому же, ты как-то сказала, что тебе вполне понятно все, что от тебя требуется… в новых обстоятельствах.
Не отвечая, Элис подошла к Милну, и протянула ему записку, которую все это время она сжимала в руке. Развернув листок, Эдвард пробежал взглядом написанное, и улыбнулся. Повысив голос, он выразительно прочитал вслух: «Рейхстаг горел сегодня ночью. Сейчас пожар потушен. Великолепная четверка подозревает коммунистов, но это провокация Гиринга. В городе беспорядки, сотни задержанных и убитых. Точных данных еще нет». Милн иронично посмотрел на Элис, прочитал текст еще раз, а затем, подойдя к камину, порвал записку и бросил ее в огонь.
— Если это и поджог, то доказательств этому нет. К тому же, все уже отправлено, а твое сообщение слишком длинное, и эпитет про четверку излишне пышный.
Элис сердито посмотрела на Милна, и, проходя мимо него, шепотом сообщила ему, что он дурак.
На следующее утро Агна заставила себя лежать в кровати до прихода Эльзы, и, убедившись, что прислуга заметила, как она выходит из спальни, снова пожелала ей доброго утра и улыбнулась. За завтраком, накрытым по случаю воскресенья в большой столовой, царила тишина, нарушаемая только звоном столовых приборов и шелестом страниц главной нацистской газеты «Фолькишер беобахтер», которую Харри Кельнер читал каждое утро. На первой полосе сообщалось о том, что в этот день Грубер выступит на площади Груневальда. А значит, Агна и Харри Кельнер будут там.
В день выступления Грубера на площади Груневальда собралось не менее тысячи человек. И многие из них приехали специально, чтобы услышать новую речь того, кого позже, с легкой руки одного из приближенных назовут, — и будут звать до конца, — «фюрером», что означает «вождь».
Он уже бился в громких призывных конвульсиях, в эффекте которых были заметны уроки актерской игры (к решению и этого вопроса Грубер подошел со всей возможной педантичностью, обучаясь ораторскому и актерскому мастерству у оперного певца Пауля Девриента), когда Агна и Харри Кельнер вошли в людское море, застывшее в порыве обожания перед своим хозяином. Его руки еще не тряслись и не дрожали, и лоб пока не был изрезан глубокими поперечными морщинами. И многие из тех, кто, как жертвы, — вполне возможно, что и ритуальные, но об этом лучше всех знал «верный из вернейших», Генрих Гиллер, первый мистик и основатель концентрационных лагерей, в которых одних только евреев было уничтожено более шести миллионов человек, — будут убиты, — правда, позже, — сейчас, вполне возможно, были среди тех, кто с замиранием сердца слушал недавно избранного ими рейхсканцлера.
В сухом и холодном ветре этого мартовского утра, который, как кинжал, врезался в каждого прохожего, срывающийся голос Грубера звучал особенно громко. Позже его советники введут в обыкновение разъезды своего кандидата, — в рамках предвыборной кампании, — на самолете, чтобы он мог донести свое слово до всей паствы. Но сейчас этого еще не было, и, окружив импровизированную сцену, люди с радостью внимали всему, что он им обещал.
Стоя рядом с Харри, Агна застыла под холодным, пронизывающим ветром. Она так крепко сжимала меховой воротник элегантного темно-голубого пальто, что, если бы не черные перчатки, то наверняка можно было бы увидеть, как от усилия побелели костяшки ее пальцев. Вокруг царило безмолвие, и Агна, оглянувшись, поморщилась, все чаще замечая на лицах окружавших ее людей бесконечный восторг. Боковым зрением она отметила, как при очередным призыве оратора рука Харри дернулась, и ладонь сжалась в кулак. Затем пальцы медленно выпрямились, и левая рука Кельнера спряталась за спину. Агна заглянула в его лицо, желая узнать, какое оно в этот момент, но рядом с ней раздался какой-то неясный мычащий звук, и справа от нее возникло тело толстого Гиринга. Вернее, его часть, — насколько могла заметить Агна, еще не успев повернуть голову в сторону министра, одно воспоминание о котором приводило ее в ужас с того самого дня, когда она и Харри впервые встретили его в день своей свадьбы на Александерплатц.
Сердце дернулось, когда девушка поняла, что перед ней действительно стоит Гиринг. Широкая улыбка на его лице скрывала зубы, и для полного сходства с нелепой ухмылкой шарнирной марионетки, — каких иногда рисуют дети, — ей не хватало только скобок, разбросанных по углам глумливого рта. Несколько мгновений министр молча смотрел на Агну, продолжая улыбаться, а затем назвал ее и Харри по именам, слегка склонив голову в приветствии. Рукопожатие министра и Кельнера вышло неловким. Словно против своих ожиданий, Гирингу не удалось пожать руку Харри так, как он, должно быть, привык, — накрывая протянутую ладонь сверху. От неожиданности его глаза расширились, быстро окидывая высокого Кельнера удивленным взглядом. Но в следующую секунду они снова приняли свое обычное, скользкое выражение, и вернулись к Агне, которая, даже не желая того, притягивала к себе взгляды окружающих, а сочетание темно-голубого вельвета, из которого было сшито ее приталенное пальто, и темно-рыжих волос, завитки которых задорно выбивались из-под шляпки, делало ее еще заметнее.
— Что за неожиданная встреча!
Голос Гиринга прозвучал так радостно, словно он был старым другом Кельнеров, который наконец-то встретил их после долгой разлуки.
— Не ожидал вас здесь увидеть.
В улыбке министра показались блестящие слюной зубы, и он довольно рассмеялся.
— Мы не могли пропустить выступление.
Харри произнес фразу так легко, словно он был первым поклонником Грубера. Агна опустила голову вниз, рассматривая камешек, лежавший на земле рядом с ее ногой в бархатной туфельке.
— Да-да, как же! Это я уже слышал от вашей очаровательной супруги, не правда ли, фрау Кельнер?
Агна ответила не сразу.
— Да, рейхсмаршал.
— Когда же вы мне это сказали?
Блестящие смехом глаза министра поползли вверх, будто отыскивая нужное воспоминание в памяти своего хозяина.
— На вечере в доме министра пропаганды.
Голос Агны, смешиваясь с голосом оратора, прозвучал тихо, и Гиринг снова, как и тогда, наклонился к ней.
— Да, конечно, как я мог забыть! Гиббельс! Он там, видите?
Не оглядываясь, Гиринг наклонил голову вправо, и прямо за его плечом девушка снова увидела эти мертвые глаза. Гиббельс стоял в нескольких метрах от них, и говорил с Гиллером. Мог ли он почувствовать на себе ее взгляд так быстро? Агна не успела ответить себе на этот вопрос: коротышка пристально посмотрел на нее, заново разглядывая своим пронизывающим взглядом каждую черту ее лица. Затем он улыбнулся, отчего его бледное лицо с черными глазами стало только страшнее, и попытался завершить разговор, но Гиллер остановил его жестом, и беседа, к огромной досаде хромого министра, продолжилась.
Ему пришлось продолжить разговор, но с того момента, как он заметил Агну в толпе, его взгляд то и дело возвращался к ней, и горя ярким блеском, останавливался на ее стройной фигуре. Наслаждаясь смущением девушки, которая быстро отвела глаза от заметившего ее Гиббельса, Гиринг рассмеялся и спросил, как у них, — супругов Кельнер, — дела? Рейхсминистр авиации заверил, что это не праздное любопытство: ему стало известно, что фрау Кельнер уже однажды ночевала в библиотеке своего роскошного дома в Груневальде, по улице Херберштрассе, что совсем недалеко отсюда. В библиотеке, а не в одной постели со своим красивым мужем, чью внешность успела отметить первая красавица третьего рейха, и, к слову, жена Гиббельса, — Магда. Так все ли у них хорошо?
Агна оглянулась на Харри, и, чувствуя себя персонажем замедленной фантастической съемки, кивнула. Да, у них все хорошо, в тот вечер они просто немного поспорили, что случается со всеми супругами, не только с молодоженами. Выдержав лукавый взгляд Гиринга, девушка улыбнулась как можно убедительнее. На этом встреча с огромным министром, — он «совсем забыл», что ему уже пора идти, — закончилась, и «дядя Херманн», — учитывая его внушительную комплекцию, — на удивление легко снова исчез в толпе. Агна дождалась, когда он уйдет как можно дальше, и протиснулась сквозь плотное кольцо людей, к выходу из толпы.
* * *
Эдвард легко догнал Элис, и, перейдя на шаг, взял ее за локоть, уводя в сторону леса. Они молча и долго шли рядом, но как только мост через реку Хафель остался позади, Эл выдернула руку и побежала прочь. Теперь, вдалеке от посторонних глаз, она, наконец, могла дать волю своему страху, но… ничего не происходило. С гримасой боли и отвращения, Элис схватилась за горло и опустила руки вниз. Так продолжалось довольно долго: она то останавливалась на месте, то делала несколько шагов, безуспешно пытаясь восстановить ровное дыхание. Может быть, если бы она умела плакать, ей стало бы легче. Но про себя Элис знала, — еще с того дня, когда тетя сообщила ей, что ее папа и мама умерли от испанки, — что слезы ей не помогают, не приносят облегчения. Боль засела внутри, скатываясь в громадный ком. В такие минуты она не могла дышать, и только в панике хватала себя за горло, словно хотела вскрыть кожу, и задышать полной грудью.
Эдвард с тревогой смотрел на Элис, и не понимал, что ему следует делать? Женщины, которых он знал, не только умели плакать, но и умело пользовались этим весьма сомнительным оружием в своих целях. Но с Эл все было не так. Девушка двигалась резко и быстро, и в том, как она повернула шею, Эдвард снова узнал то же, что уже замечал раньше, — движение, похожее на то, какое делает человек, желая освободиться от удавки, уже накинутой на его шею.
Эл затихла, стоя на одном месте, спиной к Милну. Солнечный луч, проходя сквозь листву, переносил на ее спину причудливые тени, сотканные из очертаний первых весенних листьев, которые уже успели появиться на ветках берез и хвои. Эдвард подумал, что опасность миновала, но вдруг Эл сбросила пальто на землю и медленно пошла вперед. Он догнал ее и набросил пальто на плечи в тот момент, когда она делала новый шаг. Это сбило ее с ритма, и, не удержавшись на каблуках, она крепко схватила Милна за руку, и с удивлением взглянула на него, — так, словно видела впервые в жизни.
— Пусти, — глухо прошептала Элис, отпуская рукав темного пальто.
Она начала падать, но Милн успел подхватить ее. Девушка была без сознания.
В окружающей темноте мартовской ночи высокое окно в доме № 34 по улице Кайзердамм светилось особенно ярко. Электрический свет смешивался с жаром и светом огня, разведенного в камине, но человеку в парадном мундире казалось, что тьма сгущается и окружает его. Он опустился на пол из высокого венского кресла, прополз по ковру, и, уткнувшись лицом в бархатную обивку дивана, замер на несколько минут. Потом все повторилось снова и снова.
Крупные капли пота катились по толстой шее, черный воротник рейхского мундира душил его, но толстяк, косо обхватив себя руками, трясся в ознобе. Был ли он, рейхсмаршал авиации третьего рейха, бравый Херманн Гиринг, под действием кокаина, первитина, юкодала или морфия, сейчас бы никто не мог сказать точно. В подобные этой минуты уединения, тревожить героя войны запрещалось решительно всем, даже верной домработнице Цилли, которая еще помнила первую жену Херманна, красавицу Карин, «тонкую и изящную», как он сам ее называл.
Может быть, это было интересно, — узнать, от чего именно Гиринг, чрезвычайно обаятельный любимец берлинской публики, — даже в те годы, когда Германия уже вела явную и агрессивную войну против нескольких стран, — страдал больше: от физической боли, которую, спустя даже долгое время, доставляло ему ранение в пах, или от стыда?
Как бы то ни было, к морфию он пристрастился после войны. Тогда наркотик еще помогал унять его физические страдания, но превышение всех возможных доз очень быстро сделало из легендарного летчика обыкновенного наркомана, побывавшего, к тому же, в сумасшедшем доме. Впрочем, в новой Германии это никого не смущало. И Гиринг, закрываясь по вечерам в одной из комнат своей новой шикарной квартиры, услаждал себя тем, что потреблял наркотики в огромных дозах, которые теперь приносили ему весьма зыбкое облегчение, даже несмотря на то, что для таких «уколов радости» у приближенного Грубера был целый набор шприцов, изготовленных из золота.
Ни один из допингов, который колол себе «дядя Херманн», не давал ему того, что он жаждал — облегчения и возможности забыться, сбежать от реальности в темный угол ночи, как хотели избежать жуткой расправы и страданий те, кого уже успели замучить и забить, сбросив, как скот, в выгребные ямы гестапо. А ведь это было только начало, — всего масштаба пролитой на землю крови, тогда, пожалуй, не знал никто, даже сам Грубер.
Разница между ним, его рейхом и людьми, которые погибнут за все время его безумного наркотического правления, была лишь в том, что истинно человеческое ему было чуждо. Он был мелким и злопамятным, и просто расчищал пространство. Не для немецкого народа, который был ему нужен только во время словесных выступлений, а единственно для себя. Впрочем, это не мешало Груберу пламенно любить овчарку Блонди, которую он целовал в теплый нос, в те минуты, когда что-то сродни человеческому поднималось из его бесконечной тьмы на поверхность. Может быть, это же вызвало в нем и желание проверить на любимой собаке яд, и тем самым убить ее?
Но Гирингу требовалось что-то новое, другое. По его подбородку текла теплая, густая слюна. Идиотская гримаса исказила лицо, но во взгляде Херманна успел показаться след мысли. Он все решил. Он знал, кто ему нужен, — этот тощий Кельнер, чья фамилия нелепо перекликается с названием служек в пивных и кафе.
Гиринг видел его досье, и даже если не запомнил всего, — к этому он мог вернуться в любой момент, — то главное прочно засело в его памяти: Кельнер был не кем-нибудь, а сотрудником берлинского филиала «Байер», той самой фирмы, которая еще в 1898 году стала выпускать героин. Рейхсмаршал улыбнулся, как мог: решение было найдено, Кельнера стоило пригласить в дом Гиббельсов еще раз. К тому же, маленькая Агна Кельнер, эта прелестная девочка, весьма понравилась ему. Но, — тут от беззвучного смеха тело Гиринга заколыхалось, — малышу Йозефу, этому воробью с хромой лапкой, она полюбилась куда больше. В этом Гиринг не сомневался, — он видел, каким вожделением горели глаза Гиббельса, когда он смотрел на фрау Кельнер.
Заметил он и то, как Гиббельс, уверенный, что в толпе Груневальда он останется незамеченным, не мог отвести свой черный взгляд от Агны. Словно не просто желал ее тело, но хотел гораздо большего — завладеть душой, высосать ее, смакуя, по капле из драгоценного сосуда, более всего в котором лично его, Гиринга, пленяли чудесные глаза. Яркие и блестящие, они были преисполнены того огня, которого жаждет сердце. Если же сердца, как в случае с «великолепной четверкой» нет, — то желание греться у этого пламени меньше не становится. Напротив, в том, чтобы погасить такой чистый свет, заключалась своя особая, извращенная прелесть и привилегия.
* * *
Свет в кухне зажегся, и Эл порезалась и вскрикнула, поднося палец к губам.
— О, черт, Агна, прости! Я не знал, что ты здесь.
Брови Милна сложились домиком, и Элис, глядя на него, не смогла сдержать улыбку.
— Все в порядке, это всего лишь небольшой порез. Я разбудила тебя?
Милн обвел взглядом кухню и лукаво улыбнулся.
— Тем, что резала в темноте яблоко? Да, определенно, стук ножа разбудил меня.
Его глаза блестели весельем.
— С тобой все в порядке?
— Да, Харри Кельнер, как и несколько часов назад, когда ты спрашивал меня об этом.
Элис прошла мимо, и он уловил легкий аромат ее духов.
— Тогда поговори со мной.
Милн остановился рядом с девушкой, наблюдая за тем, как она криво режет остатки яблока.
— О чем?
Нож стукнул о разделочную доску, и Эл, выбрав самую косую яблочную дольку, начала медленно ее грызть.
— Например, о твоем обмороке.
— Мне стало страшно и плохо, только и всего. Так иногда бывает. Я не люблю находиться в толпе.
Девушка оглянулась на Милна.
— Все в порядке. Прости, если испугала тебя. И спасибо за помощь.
— Эл?
Понизив голос, Эдвард выразительно взглянул на девушку.
— Хорошо! — Элисон положила нож, и повернулась к Эдварду. — Что ты хочешь знать?
— Что стало со Стивом и твоими родителями?
Элис покачала головой и медленно отошла к окну.
— У Агны Кельнер нет никакого Стива.
— Брось, Эл! Сейчас ночь, мы здесь одни. Расскажи мне.
Нолан и Эрин Эшби умерли от испанки в 1920 году, когда Стиву было четырнадцать, а Элисон — пять. Они жили в поселке Килтама ирландского графства Мейо, — там же, где и родилась Ли́са (как называл Элисон Стив). Дом, в котором жили Кэтлин Финн, сестра Эрин, и семейство Эшби, стоял на берегу озера Лох-Конн. Он был просторным и уютным, а еще из его окон были видны самые высокие клифы во всей Ирландии.
Маленькая Элис могла день и ночь рассматривать их, а каждого, кто пытался отвлечь ее от этого занятия, уверяла, что в этих обрывах, разрушенных прибоем, живут древние эльфы и феи. По ночам они поют чудесные изумрудные песни, волшебный свет которых окутывает собой всю Ирландию, именно поэтому ее называют Изумрудным островом. И потому, что песни эти волшебные, и услышать их может только тот, кто чист сердцем. Так это было или нет, нельзя сказать наверняка.
В конце 1919 года, понимая, что оставаться в Ирландии, где тогда бушевала война, дольше нельзя, Нолан и Эрин уехали в Великобританию, откуда глава семейства руководил новой железнодорожной компанией, дававшей баснословную прибыль. Стива и Элис временно оставили на попечение Кэтлин, но уже в январе 1920 года, после трагической смерти Нолана и Эрин от свирепой испанки, она стала их единственным опекуном, и, рискуя, все же отправилась в Ливерпуль, туда, где их должны были ждать Эшби.
Дети не были на похоронах своих родителей, и не видели, как их опускают в землю. И может оттого Элисон всегда казалось, что они не погибли, а просто уехали далеко-далеко, — туда, где не ходят поезда новой железнодорожной компании, которой управляет ее папа. Для нее, тогда еще маленькой, родители остались большими эльфами из графства Мейо. И она отдала бы все на свете, чтобы они вернулись с той стороны Луны. Но, как бы долго она ни ждала, они все не возвращались, и свое детское одиночество, огромное, как весь земной шар, и бесконечное, как красота ее любимой Ирландии, Эл запомнила на всю жизнь.Удивительно, но ни Стива, ни Элисон испанка не коснулась. Может быть, потому, что забрав с собой сразу обоих родителей, она насытилась и намеренно обошла их стороной. После похорон родителей Стив оставался в Ливерпуле совсем недолго, — уже в феврале он уехал в Итон, в котором ему предстояло четырехлетнее обучение и дружба с Эдвардом Милном, долговязым и худым мальчишкой с блестящими глазами, чьих густых светлых волос с лихвой хватило бы на троих.
После смерти отца и матери Стив чувствовал себя ответственным за маленькую Лису, и потому ему было особенно тяжело расставаться с ней в день отъезда в колледж. Но на протяжении всех лет, что он был в Итоне, они много и часто переписывались, и, хотя были далеко друг от друга, все равно росли вместе, сумев с помощью писем стать по-настоящему близкими друзьями. Благодаря письмам Стива у Лисы, которой тогда было двенадцать, неожиданно появился еще один друг, — тот самый Эдвард. Конечно, сам он ей писем не писал. Но о нем много писал Стив, сообщая об их «мужских делах», как он это в шутку называл.
Но иногда этот «далекий друг», — как Элис про себя звала Эдварда, — писал для нее несколько забавных фраз в конце писем Стива: «Завтра мы устроим розыгрыш мистеру Беллоузу, он очень похож на фазана, и кричит так же отвратительно, как эта упитанная птица… Здравствуй, Лиса! Как ты? Надеюсь, ты помнишь про фей, которые живут в клифах? О них нельзя забывать». Такими, — короткими и забавными, — были послания Эдварда. А незадолго до того, как Стив и его друг приехали на Рождество в Ливерпуль, брат в письме отправил Элис фотографию, на которой был он и Эдвард. Эл очень ее любила, и всегда носила с собой. Влюбившись в Эдварда, — что было совсем несложно, — она много раз представляла, как он спасает ее из лап какого-нибудь ужасного чудища, и поражает его мечом, а ее берет в жены, и они живут вместе долго и счастливо.
Приезд друзей оказался тем более внезапным, что Элисон была уверена — это Рождество 1928 года, как и все другие, она будет встречать вместе с тетей Кэтлин. И когда за окнами их дома послышался веселый смех, а вслед за ним в гостиную, стряхивая снег с длинных пальто, вошли Стив и Эдвард, Элис была невероятно счастлива. В рождественские дни ей казалось, что она отлично скрывает свои чувства, но вот настал тот самый момент, когда, Эдвард, которому тогда было двадцать два (ужасно много!), окончательно завороженный светом зеленых глаз Эл, обнял ее и нежно поцеловал. Воспоминания о том Рождестве были самыми радостными для Элисон, и, уезжая в январе нового года учиться в Cheltenham Ladies' College, девочка надеялась, что, несмотря на расстояние, она будет видеться и со своим братом Стивом, который теперь должен был вступить в права наследования компанией отца, и с Эдвардом. Но время распорядилось иначе, и когда в 1932 году Элисон Эшби успешно окончила колледж, она уже знала, что станет разведчиком. Только так, по ее мнению, она могла найти брата, от которого давно не было никаких известий.
— Но почему ты уверена, что с ним что-то случилось, и что эта работа поможет тебе найти Стива? — спросил Эдвард, наблюдая за тем, как Элис беспокойно ходит по кухне.
— Молодой человек, который в один прекрасный день забирает у компаньона отца прибыльную железнодорожную компанию, принадлежащую ему по праву, не может исчезнуть просто так!
Элисон с силой ударила рукой по столу, отчего из раны на пальце снова потекла кровь.
— Черт!
Она остановилась и с изумлением посмотрела на Милна.
—…Ты думаешь, это не поможет?
— Я этого не сказал, Агна. Я лишь спросил о том, уверена ли ты, что…
— Забудь, я сама его найду! А еще научусь составлять правильные, не слишком длинные и не слишком пышные сообщения!
Девушка вышла из кухни и бегом поднялась по лестнице на второй этаж. Слушая, как хлопает дверь спальни, и как Эл ходит по комнате, Эдвард сделал глубокий вдох и закрыл глаза. Настало время признать очевидное: для выполнения нынешних заданий и работы с Элис ему нужно обзавестись таким терпением, которым он вовсе не обладает.
Рид Баве был очень доволен. В самом деле, отправляя Эшби и Милна в Берлин, он и подумать не мог, что результат окажется столь быстрым и восхитительным: первый же день в городе принес им неожиданное знакомство с самим Гирингом. Конечно, отдавая приказ о приобретении Merсedes Benz-770 для их поездки, Баве рассчитывал на то, что это произведет эффект. Но такой? Нет, на столь большую удачу генерал и не надеялся. А может быть, — подумал он, — все дело в том, что он давно разучился мечтать?
Баве откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и блаженно улыбнулся. Ставка сделана, дорога открыта. Было ли ему страшно? Ничуть. Как и не было иллюзий о том, что происходило сейчас в Берлине. Его даже не удивляла та молниеносная скорость, с которой Грубер и его приспешники разворачивали по всей стране красные лоскуты своих флагов. Им требовалась жертва. Много жертв. А каким числом, сбитым из самых обычных людей, жертва будет принесена на общий алтарь их раненого, изнеженного самолюбия, на деле не способного вынести ни единой капли критики, значения не имело.
Но Баве был доволен: он не ошибся в Милне. Удивительно, как этот парень снова и снова выкручивается из поворотов, которые не пощадили многих других. Да, — с усмешкой подумал генерал, — сейчас ему еще сложнее, чем раньше. Ведь теперь он отвечает не только за себя, но и за Эшби, которой Баве по умолчанию отвел в этой миссии, не имеющей конца, роль сладкой приманки. И, — Рид растер ладони от удовольствия, — его расчет оказался более, чем верным. Из сообщений агентов он знал все: о пожаре в Рейхстаге, судилище над группой «виновных», главой которых так удобно было считать — и по указке власти его именно таким и считали — безумного ван дер Люббе, «диких тюрьмах» гестапо, которая пока не осмелела настолько, чтобы выставлять свои деяния напоказ, а потому проводила «допросы» в подвалах, и… Дахау.
Для многих и многих людей это слово вплоть до 1945 года будет означать название баварского города, но Баве знал: за почти безгласными намеками и знаками новой германской власти стоит гораздо больше, чем утоление жаждущего, «оскорбленного» в первой войне, самолюбия. Совсем скоро Дахау-город в сознании тысяч людей уступит место Дахау-лагерю-смерти. Первому в веренице подобных. Тому, с которого в дальнейшем коменданты будут брать пример издевательств, зверств, травли, «медицинских» экспериментов и… применения газа в «душевых», на дверях которых, — для большего правдоподобия,— будут прибиты таблички. «Brausebad».
Обо всем этом разведка Великобритании узнавала напрямую во многом благодаря Элисон Эшби. Баве знал, что нацисты неравнодушны к женской красоте. Более того, для них красота лица была единственным и настоящим достоинством женщины. Если она красива, так чего же еще желать? Поэтому срочное сообщение Эдварда Милна, полученное всего лишь полчаса назад, где он в кратких, но резких выражениях просил генерала отменить для Эшби миссию в Берлине и вернуть ее в Лондон, еще раз подтвердило то, что ставки в этой игре им, Баве, были сделаны самым лучшим образом.
Элисон Эшби, несмотря на отсутствие профессионального и жизненного, — по причине своей молодости, — опыта, прекрасно справлялась с заданием. Баве даже хотелось узнать, что именно она сделала для того, чтобы очаровать не только Гиринга, но и Гиббельса? А впрочем, какие могут быть усилия, если речь идет о красивой молодой девушке, чья неопытность и чистота сами по себе служат великолепной приманкой? Даже для больших и хищных рыб. Нет, поправил себя генерал, — тем более для больших и хищных рыб. Отбивая такт по крышке полированного стола, Баве сбился с ритма. Но улыбка так и осталась на его лице. Он был доволен, очень доволен.
* * *
«…Мне очень страшно. Я ничего не понимаю! Совсем, совсем ничего! Знал бы ты… Но как это объяснить? Я вынуждена играть роль, много ролей. Улыбаться, когда улыбаются они, смеяться, когда они шутят. Даже если это «шутки» о том, из какой кожи лучше всего сделать плеть — из кожи гиппопотама, «как у фюрера» или… из человеческой? Поверить не могу, что я пишу это всерьез. Боже. Куда, в какой мир мы попали? Знаешь, мне кажется, я — это уже не я. Я кончилась. Иссякла. Даже кукла выглядит живее меня, Стив. А ведь мы здесь только четыре месяца. Иногда мне кажется, что это никогда не закончится, и тьма проглотит меня. Когда я смеюсь над их шутками, я думаю о том, а что если я — такая же, как они?
Оглядываясь по сторонам, я вижу роскошь и богатство. Уют и негу. Золото затмевает своим блеском все. Даже шприцы для инъекций — из золота. Г. сидит на наркотиках. Я знаю. А Гиб. смотрит на меня так… и они знают, Стив! Они все о нас знают: где мы живем, и что мы едим, и как мы спим. Иногда, по ночам, я просыпаюсь с мыслью о том, что вот сейчас они зайдут в наш дом, и начнут нас допрашивать, проверяя, насколько хорошо мы знаем друг друга… А я не знаю Эдварда. И мне страшно. Я часто веду себя с ним так глупо. Я могла бы с ним поговорить, ведь он столько раз спрашивал о тебе, и я помню, как ты говорил, что он — первый, кому я могу полностью доверять. Первый, после тебя. Но где ты?
Сейчас май, Стив. Самое начало месяца, первые числа. Странно видеть, как красиво в Груневальде, и в лесу, когда за всем этим… Я мало говорю с Эдвардом. Потому что, мне кажется, не знаю о чем. Разве нужно ему знать, как мне страшно? Как вся наша совместная, выдуманная жизнь, смущает меня? Я даже не могу долго находиться с ним наедине, потому что все острее чувствую напряжение между нами, которое с каждым днем становится только больше. Я вижу, и, даже, несмотря на то, что у меня нет в этом опыта, знаю, что́ значат его взгляды. Вижу, как чуть-чуть дрожит его рука, когда, в присутствии Эльзы, мы изображаем супругов, и он нежно гладит меня по щеке. Вижу, как меняется его взгляд, когда он смотрит на меня.
Но я не могу ему ответить. Никому не могу. Я как будто ничего не чувствую. Так стало в тот день, когда тетя Эрин сказала, что папы и мамы больше нет. Мое сердце как будто застыло. Но я не могу жаловаться, Стив. Я живу в роскоши. И я — живу. Грузовики гестапо проезжают мимо нас, мы слишком выделяемся, чтобы сейчас попасть в группу риска. Тем более, мы подходим под описание арийцев. Особенно Эдвард. Я вижу, как женщины смотрят на него. Так же, как на меня смотрят мужчины. Нас оценивают по цене лошадей, которых при случае можно забить, если мы не научимся искусственным, должным аллюрам. Той самой плетью из кожи гиппопотама. Но мы научимся, Стив. Обещаю. Пусть иногда мне кажется, что это не закончится, но мы должны сделать все, что возможно. Все, что в наших силах, правда? Я постараюсь быть с Эдвардом мягче, он очень заботиться обо мне, и я хочу, чтобы он знал, что…».
* * *
Когда Харри и Агна Кельнер пришли на вечер, гостей в доме Гиббельса почти не осталось. Парадная музыка, которую исполнял живой оркестр, звучала уже приглушенно, отчего одна из мелодий казалась и вовсе траурной. Вдоль стен большой залы бесшумно скользили официанты в белой, праздничной форме. Улыбаясь всем без исключения одинаковой улыбкой, они замирали на мгновение возле гостя, — если он снимал с серебряного подноса бокал с холодным шампанским, — и так же механически продолжали свой путь после, отчего казалось, будто они могут ходить сквозь белые стены. Не потому ли и форма их такая белоснежная?
Агна медленно обходила зал, разглядывая замысловатую лепнину на потолке и ряд высоких зеркал, в каждом из которых отражалась ее фигура в золотом платье. Она делала вид, что с удовольствием рассматривает свое отражение, на деле же ряд вычурных зеркал позволял ей почти непрерывно наблюдать за Харри, с которым вот уже двенадцать минут Гиринг вел беседу. О чем? Фрау Кельнер не знала наверняка, но догадывалась, что это связано с работой мужа. Рейхсмаршал, по своей привычке, близко наклонился к собеседнику, хотя,— Агна была в этом уверена, — и без того никто бы не решился нарушить их разговор.
Не желая привлекать излишнее внимание, девушка вышла из залы и неторопливо пошла вперед, с интересом рассматривая закрытые двери. За одной из них оказался небольшой кабинет, в углу которого стоял шкаф с редкими книгами. Несколько томов были раздвинуты в стороны, уступая место великому книжному труду фюрера, возложенному на золотую подставку. Для полного сходства с импровизированным алтарем этому сооружению не доставало свечей. Агна почти коснулась книги, написанной двумя литературными «неграми», — из которых только один, когда Грубер зачищал за собой путь, смог избежать смерти, — как за ее спиной раздался тихий голос:
— Вы сияете словно золото!
Гиббельс подошел к ней так близко, что она почувствовала его дыхание на своей шее. Агна замерла, не зная, что ей делать, и отдернула руку от подставки с книгой.
— Не нужно так резко, фрау Кельнер!
Обнимая девушку со спины, Гиббельс взял ее правую руку в свою, и положил на обложку книги, плотно прижимая ладонь к названию, высеченному готическими буквами, и покрытыми позолотой.
— Это похоже на клятву, не правда ли?
С каждым словом дыхание министра становилось все горячее, и Агне казалось, что его левая рука, которой он с силой держал ее за талию, прожигает шелк платья. Агна сделала глубокий вдох и закрыла глаза. И почувствовала, как ее разворачивают в другую сторону.
— Посмотри, посмотри на меня! Посмотри своими глазами!
Нервное дыхание Гиббельса обдало жаром, а влажные поцелуи оставили на ее коже слюну. Коротышка, словно не до конца доверяя выпавшей удаче, совершенно обезумев, пытался руками, взглядом и губами охватить как можно больше тела Агны, столь желанного для него, что министра затрясло, словно в лихорадке. Девушка открыла глаза и, вытянув шею, посмотрела вверх. Горячая слеза скатилась по ее щеке, упала вниз. А потом Агна перевела взгляд на Гиббельса и увидела в его черных глазах то же, что и прежде, — пустоту. В приступе страсти карлик сжал ее лицо обеими руками, с силой опуская вниз вздернутый подбородок девушки. И в тот момент, когда Агна подумала, что больше не выдержит, дверь в комнату распахнулась, ударилась о стену, и она услышала:
— Министр?
В следующую секунду вокруг нее появился воздух. Теперь можно было дышать, и Агна сделала жадный, нервный вдох, словно издалека, медленно наблюдая за тем, как смущенный министр без слов выбегает из комнаты. А она впервые так ясно видит перед собой Эдварда.
Желтоватый свет настольной лампы освещает его высокую фигуру, и углы высоких скул выделяются особенно резко. Он берет ее за руку, потом под локоть, обнимает и крепко прижимает к себе. Слева, со стороны сердца. А ведь сказал ей, когда она искала в карманах его пальто записку от Баве, — «здесь ничего нет». Агна улыбается, все шире растягивая губы в закрытой улыбке. Ее обнаженное плечо постепенно согревается, соприкасаясь с тканью черного фрака Кельнера, и она, повернув голову, с величайшим вниманием следит за тем, как в нагрудном кармане, от твердого шага Харри, чуть-чуть вздрагивает белоснежный, остроконечный платок.
К горлу подступает дурнота, и Агна с силой сжимает руку Кельнера, которой он держит ее за талию. Они очень медленно проходят через всю залу, и фрау Кельнер слышит, как Харри прощается с веселым Гирингом, выражающим крайнее сожаление о том, что их визит оказался столь непродолжительным. Все выглядит так благопристойно, что Агне непременно хочется спросить: они смогли выдержать все светские приличия? Харри и Агна сделали все, как нужно? Но она не спрашивает. Не может. Хочет, но не может разомкнуть губы и начать говорить. Тело не слушается ее, переходя из жара в холод, и обратно. Агна улыбается собственной впечатлительности, и думает о том, что вот сейчас, в том кабинете, она с треском провалила задание, для которого ее подобрал Баве. «А могла бы узнать гораздо больше, — с издевкой над самой собой, думает она. — Может быть, могла бы…». Они подходят к входной двери, и та самая служанка, которую Агна запомнила в прошлый раз, подает накидку. Харри набрасывает ее на плечи Агны, а в руке фрау Кельнер откуда-то появляется сумочка. Маленькая, лаковая, очень красивая. Агне она нравится.
Гравий приятно зашуршал под колесами «Мерседеса», и фары выхватили из темноты угол дома в кирпичной кладке, когда Кельнеры подъехали к своему особняку на Херберштрассе, 10. За всю дорогу Элис не сказала ни слова. А Эдвард, сжимая руль все крепче, и оглядываясь на девушку снова и снова, очень старался не перебивать ее молчание. Получалось не очень, с громадным трудом. И с постоянным, физически ощутимым, диким желанием обнять Эл, и защитить ее от зла всего мира.
Автомобиль остановился на подъездной дорожке и плавно покачался, сообщая пассажирам, что они достигли пункта назначения. Агна и Харри вышли, сделали несколько шагов и, зайдя в дом, укрылись за входной дверью. Потом молча поднялись на второй этаж, в спальню, где в свете уличных фонарей, у дома напротив, легко можно было различить очертания мебели. Эдвард сел в кресло и тяжело вздохнул. Он слышал, как Элисон включила воду в ванной комнате, а потом все звуки, кроме бьющейся о мрамор воды, надолго стихли.
…На ней был белый, шелковый халат. При каждом движении Элис ткань оживала, то обнимая, то скрывая ее тело. Сколько прошло времени? Эдвард не знал. Не помнил. Он отключился сразу же, — заснул в нелепой позе, наклонившись вперед, с лицом, закрытым ладонями. А теперь, очнувшись, видел перед собой Эл. Остановившись в нескольких шагах от него, она молча наблюдала за ним, и, заметив, что он открыл глаза, сделала шаг навстречу.
— Агна? Что такое?
Шелк закачался совсем близко, ласково касаясь его руки. Теперь и для него, — как для Агны несколькими часами ранее, в небольшой комнате фешенебельного дома по Рейсхканцлер-платц, — пространство неожиданно сузилось до одной человеческой фигуры. Милн удивленно посмотрел на девушку, но в темноте не смог различить ее взгляд. Тонкие пальцы Эл запутались в волосах Милна, белый шелк стал еще ближе.
Опираясь ладонями на плечи Эдварда, девушка отклонилась на расстояние вытянутой руки, и посмотрела на него, отмечая долгим, пристальным взглядом блеск его глаз и все тот же изгиб высоких скул, что так четко запомнился ей впервые, — совсем недавно, в той комнате.
А потом все стало быстрее. И когда Эдвард отстранил ее от себя, Элисон отступила назад только на один маленький шаг, и снова приникла к нему. Она видела, как поднявшись из кресла, он старается не смотреть на нее и намеренно отводит взгляд, желая, — как и она в той комнате, — освободиться. Нелепая мысль о том, что она может быть для Эдварда тем же, чем крохотный карлик Гиббельс был для нее, ужасно ее рассмешила. И она засмеялась. И смеялась очень долго. До слез. Но вдруг ей стало все равно, и смех прервался. Она попытается еще раз. А если он ее не захочет?.. Мысль вызвала усмешку на губах Эл. Пожав плечом, она осторожно провела кончиками пальцев по губам Эдварда, и, поднявшись на носки, поцеловала его. Он застыл на месте, а потом с силой разомкнул ее руки.
— Нет.
Элис не ответила, и, вывернув запястья из его рук, снова потянулась к нему, прошептав:
— Покажи мне…
Шепот коснулся его шеи, вызывая в Милне волну возбуждения, но он сказал в ответ:
— Я не хочу. Не так, Эл.
На этот раз она услышала его и отшатнулась, произнеся с усмешкой:
— А он хотел!
Губы Элис снова растянулись в широкой улыбке, но вот уголки ее дрогнули, и она начала осыпаться, ломаясь в одну жуткую, кривую линию. Белое лицо спряталось за тонкими пальцами, плечи вздрогнули, застыли и остались вздернутыми, а из груди Элис вырвался стон, полный такого отчаяния и боли, что Эдвард не выдержал.
Он обнимал и целовал ее, и, подхватив на руки, понес Эл к широкой кровати. Целуя на ходу, сбиваясь с ее губ на нежную кожу шеи, плеч и груди, он снова возвращался к губам. Приникнув к ней, он уже не мог остановиться.
Встреча с Гирингом снова не состоялась. Но что случилось на этот раз? Прикуривая сигарету, Эдвард подумал, что рейхсмаршал, несмотря на всю свою эксцентричность, вряд ли был из тех, кто пропускает важные переговоры. А в том, что это было важно, у Милна сомнений не осталось: на вечере в доме Гиббельса, узнав, что Харри Кельнер, по праву службы, имеет доступ к героину, Гиринг выразил желание встретиться с сотрудником филиала «Байер», и подробно обсудить «наши дела».
На первые две встречи министр не явился, но через несколько дней, когда Эльза на серебряном подносе подала Кельнеру только что полученную записку, Харри узнал, что сегодня Гиринг будет ждать его в центре Берлина, в тупике рядом со знаменитым «Романским кафе», в котором еще собирались многие интеллектуалы, — поэты, актеры, журналисты, декаденты, — словом, так называемые «инакомыслящие». Может быть, уютные бархатные интерьеры кафе с позолотой, где было множество затемненных ниш и уголков, создавали у них ощущение безопасности, а может они, как и тысячи остальных берлинцев считали, что ничего серьезного не происходит, и даже уже произошедшее сожжение книг на площади Опернплац в Берлине, — это не более, чем игра или праздник: с факелами, музыкой, песнями и «огненными речовками».
Как бы то ни было, но факт оставался фактом — многие берлинцы не боялись событий, организованных новой властью, которая, как она уверяла, преследовала только мирные цели, направленные на процветание германского народа, «достойного не поражений, но своей великой судьбы». В чем состояло величие этой судьбы, было продемонстрировано недавно, десятого мая, когда тысячи книг, сваленных на площади столицы в бесформенные кучи, подожгли.
Эрих Кестнер, бывший свидетелем сожжения своих произведений, уже назвал ветер, бушевавший тогда над городом, «похоронным», а Оскар Мария Граф, чьи книги, наоборот, попали в список рекомендованной нацистами «народной» литературы, обратился к власти с письмом, чей заголовок, — «Сожгите меня!», — без всяких сомнений указывал на то, о чем и было сказано в тексте: «Я не заслужил такого бесчестия!.. Всей своей жизнью и всеми своими сочинениями я приобрел право требовать, чтобы мои книги были преданы чистому пламени костра, а не попали в кровавые руки и испорченные мозги коричневой банды убийц». Банда убийц. Некоторые писатели рисковали говорить больше, чем следовало бы, но многие из них по-прежнему молчали. Молчали и обычные берлинцы, очевидно, готовясь к выборам в рейхстаг, которые должны были состояться через два месяца.
Серый пепел от сигареты упал на булыжную мостовую. Выбросив окурок, Эдвард твердым, широким шагом направился к своему дому. «Герр Кельнер, я должна сообщить вам, что фрау Кельнер каждое утро уезжает из дома, и иногда возвращается только к обеду». Вспомнив слова Эльзы, которая неустанно следила за Элисон, Милн криво усмехнулся. Очевидно, их домработница, прекрасно осведомленная об общении Гиринга и Кельнера, хотела выслужить себе еще больше похвалы в глазах «преемника фюрера», и заодно указать ему, Харри, на непозволительное поведение Агны. Все еще размышляя над фантасмагориями последних дней, каким-то невероятным образом втиснутых между крышами берлинских домов, и ставших их привычными буднями, Эдвард подошел к особняку четы Кельнер, и вдруг заметил Элисон. Она вышла из своего автомобиля, оглядываясь по сторонам.
— Агна?
При звуке его голоса Элис вздрогнула и, не оборачиваясь, пошла к дому. Эдвард удивленно смотрел, как быстро закрывается за ней тяжелая входная дверь. Замок громко щелкнул, и во дворе перед домом снова воцарилась тишина, которую нарушали только трели ранних птиц. Новый черный Horch, купленный для фрау Кельнер на автомобильной выставке, сиял на солнце.
Власть рейха уверяла, что женщина должна быть полноправной участницей не только общества, но и дорожного движения. Однако большинство машин, как и этот «Хорьх», в управлении больше подходили мужчинам, чем женщинам. Несмотря на это, Агна была очень довольна покупкой: теперь она могла выезжать в город самостоятельно, без сопровождения Харри, который целыми днями был занят на работе. У фрау Кельнер стало больше свободы. Конечно, Харри просил Агну быть осторожной, и без особой необходимости не выезжать в Берлин. Эта просьба часто становилась причиной их ссор, и некоторые из них случались даже в присутствии Эльзы. В такие моменты домработница скромно улыбалась, опуская лицо вниз, но Агна видела, как ее сухие губы кривились в улыбке, такой отвратительной, словно она приняла яд.
Милн знал, что Элис его не послушает. С того вечера, когда Гиббельс попытался ее изнасиловать, она была сама не своя. Эл не плакала и не причитала, она… Ничего об этом не говорила. Именно это настораживало Эдварда больше всего.
На утро после той ночи, которую они провели вместе, Эдвард проснулся один, и сторона кровати, на которой к рассвету уснула Элисон, была холодной. Правда вечером того же дня, после ухода Эльзы, она, ужасно смущаясь, шепотом поблагодарила его. Ее лицо горело ярким румянцем, и фразы были такими официально-церемонными, что если бы Милн не знал, о чем именно идет речь, то решил бы, что он принимает участие в разговоре об удачно совершенной сделке.
Эд был настолько обескуражен словами Элис, что не нашелся с ответом. Хотя сейчас, вспоминая об этом моменте, Милн думал, что должен был повести себя иначе, и, несмотря на все смущение Элис, поговорить с ней откровенно. «Назвать вещи своими именами» — фраза скользнула в его мыслях, и удивленно, с ироничной улыбкой, уставилась на Милна, спрашивая, не этого ли он желал?
Эдвард выругался, достал из пачки новую сигарету, но тут же сломал ее и выбросил в урну. Он хотел Эл. По-настоящему, всю. Но решение этой задачи, похоже, было сложнее всех тех, с которыми он сталкивался до сих пор. Ко всему прочему, теперь он вынужден был слушать отчеты домработницы о распорядке дня фрау Кельнер, — которые она с недавних пор решила сделать еще подробнее, — и сохранять внешнее спокойствие. Ситуация осложнялась тем, что Харри Кельнер был очень занят в «Байер»: его диплом об окончании факультета медицины и нейробиологии в университете Гейдельберга был подлинным, и он действительно был сотрудником берлинского филиала.
И чем больше указаний от своего руководства он получал, тем больше был убежден в том, что в заключении масштабной и очень выгодной сделки между «Байер» и нацистами заинтересованы обе стороны. Интерес Гиринга к фармацевтической компании в целом, и к Кельнеру в частности, был только одним из нюансов масштабного промышленного контракта, причем нюансом тайным. Явная же сторона сделки состояла в том, чтобы полностью обеспечить Германию перед скорой войной, — к которой страну уже готовили и перевооружали нацисты, — горючим и каучуком, без которых ведение боевых действий, тем более масштабных, было бы невозможно. И Кельнер был одним из тех, кто отвечал за это обеспечение. Военная Германия Грубера не могла позволить себе импортировать, — а значит, зависеть от других стран, — горючее и каучук.
Дисциплина и установленный в этом вопросе порядок были невероятными, часто доходящими до абсурда и идиотизма. К тому же, требовалось найти способ применения разработок, совершенных «Байер» в области химии и фармакологии, в отношении того, о чем Генрих Гиммлер позже скажет: «Появился метод, который нашел весьма удачное применение». Частью этого «метода» было ничто иное, как газ, «Циклон-Б».
— Для чего его хотят использовать? — спросила Элис, когда однажды ночью Эдвард рассказывал ей о своих предположениях относительно сделки.
— Явно не для того, для чего он был изобретен, — с осторожностью заметил Милн. — Но если мои предположения верны, то им он нужен для того, чтобы людей… не было.
После этих слов он замолчал, рассматривая языки маленького огня, сжирающего обрывки листа с очередным заданием Баве, в котором он приказывал узнать больше подробностей о лагере в Дахау. Элисон вскрикнула и зажала рот ладонью. В услышанное было трудно поверить, тем более, когда все вокруг казалось мирным, и няни в полдень гуляли со своими воспитанниками в прекрасных парках, овеянных теплом и светом летнего солнца.
— Как нам попасть туда? — Элис посмотрела на пепельницу, произнося вслух то, о чем думал Эдвард.
Лоскуты белого листа, брошенные в глубокую пепельницу, почернели и съежились, а дым тонкими струйками поднялся вверх.
— Гиринг выйдет на связь снова, я уверен. Ему нужны наркотики, и он входит в число тех, кто иногда посещает лагерь, хотя идея о его создании принадлежит Гиллеру.
— Но мы не можем поехать с ними, нас не допустят!
Эдвард посмотрел на Элисон с печальной улыбкой.
— Мы поедем не с ними, а за ними.
…Это было несколько дней назад. А сейчас, разглядывая металлическую фигурку на блестящем бампере Horch — «птицу со сломанным крылом», — так, кажется, сказала о ней Элис, Эдвард подумал о том, что ехать вместе с Эл в Дахау слишком опасно.
— Что…— начал Харри, но вовремя остановился, заметив любопытный взгляд домработницы. — Эльза, — Кельнер кивнул в знак приветствия.
— Герр Кельнер, — потрескавшиеся губы женщины разомкнулись. — Добрый вечер.
Эльза быстрым взглядом осмотрела высокую фигуру Харри в ожидании вопросов или распоряжений, но когда он сказал, что она может идти домой, и, — что было совсем немыслимо! — взять себе два выходных дня (и это посреди рабочей недели!), ее глаза расширились, и в этот момент стали так похожи на бессмысленные выпуклые окуляры рыб, что Кельнер едва удержался от смеха.
После новости о том, что Харри и Агна на два дня едут в Мюнхен по рабочим вопросам Кельнера, — фрау Агна, конечно, его сопровождает, ведь она так давно мечтает увидеть этот знаменитый город, — растерянность домработницы, судя по выражению ее лица едва не обернувшаяся безумием, сменилась привычной педантичностью. На предложение помочь с дорожными сборами верная осведомительница Гиринга получила очень вежливый отказ, и, пожелав своим хозяевам приятной поездки в город, так много значивший для их любимого фюрера, ушла.
— Я хочу ее уволить! — Агна с такой горячностью произнесла фразу, что сама удивилась своему тону.
— Боишься, что она знает больше, чем ей следует?
Харри внимательно посмотрел на девушку, наблюдая за выражением ее лица.
— Что это значит?
Агна резко повернула голову в сторону Кельнера, и слегка прищурила глаза, но это ей не помогло, — Эдвард успел заметить ее испуг, и устало произнес:
— Не знаю, Агна. Мне тоже хотелось бы это знать. Куда ты уезжаешь по утрам?
Фрау Кельнер опустила голову вниз, убирая за ухо волнистую прядь волос.
— Так я и думал.
Харри вплотную подошел к жене, и она почувствовала горьковатый аромат его одеколона.
— Знаешь, Агна, очень трудно вести разговоры с тем, кто не желает говорить. Я не хочу тебя к чему-то принуждать, но так продолжаться не может.
Кельнер помолчал.
— И будь осторожна в своих тайных путешествиях, фрау Кельнер. В случае твоей неудачи мы оба и наверняка перестанем жить. Они уже открыли, по крайней мере, один лагерь, и кто знает, на что они способны еще.
Высокая тень, отраженная на стене, отделилась от маленькой, и медленно пошла по лестнице наверх. В спальне шаги Эдварда стихли, часы в гостиной звонко пробили пять пополудни, а Элисон по-прежнему стояла на месте, опустив голову вниз. И вдруг, в одно мгновение, маленькая тень тоже сорвалась со своего места на стене и побежала вверх.
— Я хотела… — Элисон забежала в спальню, и, в смущении остановилась, заметив, что на Эдварде, который стоял перед зеркалом, нет рубашки.
— Агна, выйди.
Не глядя на девушку, Милн ловко подхватил свежую сорочку, просунул руки в рукава и принялся поправлять светло-голубой воротничок.Элисон посмотрела на Эдварда и отвела взгляд в сторону. Милн снова, как несколько минут назад, подошел с ней.
— Ну?
От внезапной робости, которая возникла, стоило Эл вспомнить их прошлую ночь, она не решилась посмотреть на Эдварда прямо, и взгляд девушки остановился в той точке на груди Милна, которая была на уровне ее глаз. Длинный шрам пересекал ключицу и уходил за ткань расстегнутой рубашки.
— Что это?
Элисон вытянула руку вперед, осторожно прикасаясь к шраму дрожащими пальцами. Не услышав ответа, она подняла глаза вверх. Милн с язвительной улыбкой наблюдал за ней, но когда Элис отвернула в сторону ворот рубашки, чтобы увидеть, где заканчивается шрам, Эдвард отступил назад и вернулся к зеркалу. Дверь громко хлопнула, он остался один.
Посмотрев в отражении зеркала на закрытую дверь, и отметив про себя, какой растерянной выглядела Эл перед тем, как ушла, Милн собрал необходимые вещи в дорожную сумку и спустился вниз, чтобы убедиться, что автомобиль готов к поездке в Дахау. «Мерседес» и без того был занудно-чистым, в проверке не было никакой необходимости, но Эдвард педантично осмотрел салон, проверил стрелку на датчике топлива, открыл багажник, аккуратно уложил вещи, отмечая, что там уже была небольшая дорожная сумка, которую Эл обычно брала с собой. До отъезда оставалось чуть более получаса, и он решил еще раз просмотреть схему завода по изготовлению боеприпасов, на месте которого теперь располагался концлагерь. В ходе одной из прошлых операций, Милн уже бывал там, и это, безусловно, могло помочь ему лучше сориентироваться на территории нового нацистского «учреждения», призванного отныне перевоспитывать «неугодных элементов общества».
Из выступлений Гиллера, который в последние дни неустанно звучал по радио, срывая голос до хрипоты, Эдвард знал, что «в среду, 22 марта, близ города Дахау будет открыт первый концентрационный лагерь. В нем будет размещено 5000 узников.
Планируя лагерь такого масштаба, мы не поддадимся влиянию каких-либо мелких возражений, поскольку убеждены, что это успокоит всех, кто уважает нацию, и послужит к их пользе». Подпись: «Генрих Гиллер, действующий начальник полиции города Мюнхена».
А если совсем коротко, — инициатор создания концентрационных лагерей, среди огромного множества которых Дахау так и останется первым, «образцом для подражания», площадкой для «стажировки» надзирателей всех остальных центров убийств и смерти. У одного только лагеря в Дахау будет сто двадцать три филиала, а общее число нацистских лагерей, разбросанных по всему земному шару, с ходом войны, преодолеет отметку шестьдесят, и уйдет далеко вперед.
* * *
Проходя мимо гостиной, Эдвард напомнил Элис, что они выезжают ровно в 21:00. Потом он снова поднялся наверх, зашел в кабинет, закрыл дверь, достал из кармана брюк маленький листок с истертыми на сгибах линиями, чтобы вновь подробно рассмотреть собственный чертеж, который, впрочем, он и так помнил наизусть. Губы Милна беззвучно шевелились, когда он повторял расположение входов. Откинувшись на спинку кресла, он закрыл глаза, прогоняя в мыслях то, что ему предстояло сделать.
Он едет в лагерь Дахау с пистолетом Вальтер Р-38. Такой же есть у Эл, но в эту поездку они возьмут только один, который, как надеялся Эдвард, ему не придется использовать по назначению. А дорога до городка Дахау? Он всего в семнадцати километрах от Мюнхена. Эта поездка, по приблизительным расчетам Милна, займет около пяти часов в одну сторону.
Говорить было не о чем. Вернее, Эдвард и Элис старательно делали вид, что так оно и есть. Тяжелая тишина прервалась лишь однажды, когда Эл неловко завела разговор о том, для чего она уезжает по утрам из дома.
— Я надеюсь узнать хотя бы что-нибудь о Стиве. Ты должен меня понять, тем более, фрау Берхен…
— Фрау Берхен?! — крик Эдварда был таким громким, что Элисон вздрогнула. — Агна, ты в своем уме?! Ты хотя бы немного представляешь, какая это опасность? Или мне рассказать тебе о том, где разгружают грузовики гестапо, и что становится с теми, кого сажают в них как… — Эдвард был в такой ярости, что не смог закончить фразу.
Немного остыв, он спросил:
— Долго ты хотела молчать и об этом?
Милн посмотрел в зеркало заднего вида.
— Что?
— Ты же молчишь обо всем, уходишь и молчишь!
— Спасибо, что…
— «Спасибо»? Снова?
Голос Милна оборвался. Эдвард долго молчал, а потом рассмеялся, переходя от беззвучного смеха к хохоту. Ему даже пришлось остановить машину, чтобы не съехать с пустынной дороги. Но веселье прекратилось так же внезапно, как и началось. Остаток пути они проехали в полной тишине.
Оказавшись в Дахау, Милн съехал с дороги, уводя автомобиль в лес, — их ни в коем случае не должны были заметить. Отъехав на достаточное расстояние, Эдвард включил карманный фонарь, вышел из машины, открыл багажник, за ним — свою дорожную сумку. После нескольких минут тишины он оглянулся, отыскивая в непроглядной темноте Элисон, хотя в этом не было необходимости — девушка стояла напротив Милна и ошеломленно смотрела на него. Китель штандартенфюрера ладно облегал его фигуру, делая Эдварда практически неузнаваемым. Осветив светом фонаря Элисон, Эдвард кивнул: темно-серые брюки из грубой шерсти, белая рубашка, застегнутая под самым горлом и черный пиджак тоже поразительно изменили Эл. Если не вглядываться в ее красивое, бледное лицо, то она вполне может сойти за ту, кого ей предстояло изобразить — новую сотрудницу концлагеря в Дахау. Но им нужно было спешить, — короткая летняя ночь начинала таять. Они остановились, обмениваясь пристальными взглядами.
Наконец Милн, крепко сжав руку Элисон, тихо поднялся на дорогу, и, освещая путь карманным фонарем, мягко зашагал вперед. Элисон шла следом за ним, шаг в шаг.
До бетонного забора они дошли довольно быстро, но гораздо больше времени у них ушло на поиски входа. Благодаря своим источникам в Берлине, Эдвард знал, что Вэккерле, — первый комендант лагеря, — уже был с позором уволен, а новый, — Эйке, пока находился в сумасшедшем доме в качестве пациента, и еще не мог знать, что скоро сам Гиллер вытащит его оттуда и переведет на должность коменданта в Дахау, где его остервенелая преданность и дотошность недавно установленным идеалам впечатлит даже покровителя, и в историю он войдет как один из самых жестоких и беспощадных преступников, от рук и распоряжений которого погибнет множество людей самых разных национальностей, точно сосчитать которое будет не под силу и через десятилетия после падения режима.
Время убегало вперед, а Эдвард и Элис все никак не могли найти способ проникнуть в лагерь. Отдышавшись, они снова пошли вдоль бетонного забора, как вдруг их настиг свирепый собачий лай и окрик охранника, вероятно, совершавшего обход.
Прозвучал звук взведенного оружейного курка, и дуло уперлось в живот Милна. Элис охранник осветил невыносимо ярким светом фонаря, и довольно улыбнулся. Их затащили на территорию лагеря и приказали стоять на месте. В окружающей темноте и бликах света Эдвард пытался поймать взглядом лицо Эл, но ему никак это не удавалось. Вдруг дуло ружья отвели от Милна, и охранник, вытянувшись по стойке, щелкнул каблуками, воздевая руку вверх под углом в сорок пять градусов. Верный сын нацистов, онемевший при виде самого штандартенфюрера, он безумно пялился на высокого блондина, наверняка сгорая от страха за то обращение с высоким чином, которое он, по незнанию, смел себе позволить. Эдвард посмотрел в выпуклые глаза охранника, которому было от силы лет двадцать, и усмехнулся.
* * *
Когда первый шок прошел, охранник с ненавистью уставился на девушку, снова, без всякой на то необходимости, ослепляя ее ярким светом ручного фонаря с большим внешним стеклом. На уличных празднествах обновленной Германии огромные прожекторы, бьющие в небо столпами света, были обычным явлением. Подобные световые трюки очень быстро стали одним из первых атрибутов нацистов: слишком яркий свет ослеплял, сбивал с толку, делал из человека жертву. Выставляя руку вперед, в желании защититься от пронзительного луча, он уже признавал свою вину. А дальше… оставалось совсем немного, — до того момента, как он, ослепленный, бледный, схваченный ночью из постели, готов будет признать все, что делал, и все, о чем даже не думал. Излишне говорить, что недостатка в «признаниях», выбитых нацистами в подобных условиях, в стенах подвалов и тюрем, а теперь и лагерей, не было.
По лицу охранника расплылась улыбка. Коротко взглянув на девушку еще раз, он замахнулся, чтобы ударить ее прикладом ружья.
— Стоять!
Штандартенфюрер одним броском перехватив руку мальчишки, выдавил из его онемевших пальцев оружие.
— Вы с ума сошли, юнкер? Это новый сотрудник лагеря.
Голос начальника прозвучал так вкрадчиво и тихо, что по спине солдата прошла волна озноба. Кельнер отпустил охранника и рывком оттолкнул его в сторону. Солдат пошатнулся, но сумел удержаться на ногах. Штандартенфюрер взглянул на новую сотрудницу лагеря и снова перевел взгляд на незадачливого юнкера.
— Даю вам минуту на доклад об обстановке. Я слишком устал по дороге сюда. Довольно того, что моя машина заглохла, и я приехал в лагерь так поздно.
Охранник выпрямился по стойке «смирно», желая снова отдать фашистское приветствие, но, запутавшись в своих двух руках, так и не смог решить, какой же из них стоит зиговать. Громко сглотнув, он поправил воротник формы и начал сбивчивый доклад:
— Герр Вэккерле уволен с должности коменданта, господин штандартенфюрер, сейчас лагерь временно перешел под командование его первого заместителя. На сегодняшний день в лагере содержится шесть… нет, с-семь тысяч заключенных, яростных врагов рейха! Почти каждый день поступают новые, которым необходимо перевоспитание…
— В каких условиях они содержаться?
— Б-ба-бараки, штандартенфюрер. Они живут в бараках. Неплохо живут. Исправившихся мы освобождаем, но если выяснится, что они так и не исправились, нанесли Германии новый вред, их снова привозят сюда.
— Кто среди узников?
— Политические, штандартенфюрер. Яростные противники фюрера!
— Наказания?
— Д-да…
Охранник осмелился поднять глаза на высокого начальника, но так и не смог разглядеть его лица, наполовину скрытого козырьком фуражки.
— Там.
Солдат ткнул пальцем в сторону и опустил руку. Резким кивком головы штандартенфюрер дал понять, что он намерен осмотреть место, где наказания приводятся в исполнение. Охранник судорожно дернулся, пробежал небольшое расстояние, затем резко перешел на шаг. Новая сотрудница лагеря, прибывшая в сопровождении начальника, молча шла за ними.
Позади двух бараков было наспех сколоченное подобие виселицы. Оно вполне могло пригодиться средневековой испанской инквизиции, но, за неимением таковой, трудную и тяжелую работу по возвращению заблудших в лоно чистого разума, — теперь, правда, нацистского, — приходилось выполнять работникам этого концентрационного лагеря. Человек, подвешенный за руки, вывернутые в суставах, слабо пошевелился. Штандартенфюрер подошел к нему, внимательно рассматривая его тощую фигуру. Лицо мужчины было залито кровью, и больше походило на месиво.
— За что осужден? — в ночной тишине голос прозвучал особенно громко.
— Коммунист!
Охранник остановился перед начальником в ожидании указаний.
— Снимите его и отнесите в барак.
С готовностью кивнув, солдат бросился к виселице, торопливо отвязывая тощее тело, которое через несколько минут мешком упало на землю. Он с трудом дотащил буйного коммуниста до деревянных трехъярусных нар барака, и поспешно вернулся к ожидавшему его начальнику.
— Надеюсь, при следующей встрече вы будете вести себя как должно солдату рейха, юнкер. Иначе мне придется доложить о вас. Проводите.
Охранник кивнул, схватился за горло и побежал к главным воротам лагеря, уже украшенным фразой, которую вряд ли кто-то, из видевших ее, когда-нибудь забудет. «Arbeit macht frei».
* * *
Оказавшись за воротами лагеря, Элис и Эдвард пошли молча. И когда зловещая пустынная площадь лагеря Дахау осталась далеко позади, Милн оглянулся на притихшую Эл, чье лицо было бледным и замкнутым. Как и прежде, он взял девушку за руку, желая скорее уйти из этого рукотворного ада. Солнце неспешно просыпалось ото сна, когда они вернулись к «Мерседесу». Где-то вдалеке запели ранние птицы. И впервые за все время, что длилась их вылазка, Элисон посмотрела на Милна.
— Ты в порядке?
Густые рыжие волосы упрямо закачались из стороны в сторону, и в следующий миг оказались под руками Эдварда, словно багряный шелк, разлитый в солнечном свете. Элис крепко обняла его, и застыла на месте, смотря невидящим взглядом в далекий обломок летнего неба, с белеющим на его краю кучерявым, пышным облаком.
Эдвард не помнил, когда улыбался так в последний раз, а Эл, сидя за столиком кафе напротив него, сказала, что он похож на мальчишку, укравшего сладости и далекого от раскаяния за свое преступление. Он рассмеялся, и его яркие глаза засветились настоящим теплом.
— Харри?
Если бы не Элисон, которая первой обернулась на женский голос, Милн вряд ли бы расслышал свое немецкое имя, — так он был увлечен тем, что происходило в настоящую минуту. Высокая блондинка подошла ближе, с улыбкой рассматривая Кельнера. Проследив за взглядом Элис, Эдвард наконец-то вернулся в реальность.
— Ханна?
Блондинка засмеялась и закружилась. Пышный подол белого платья, сделав несколько кругов, плавными волнами опустился вокруг ее стройной фигуры. Несколько секунд Харри, — серьезно, — и Ханна, — с полуулыбкой, — молча смотрели друг на друга.
— Познакомишь меня? — спросила девушка, указывая взглядом на Агну.
— Агна Кельнер, моя жена. Агна, это Ханна Ланг…
— Любовница Харри Кельнера.
Блондинка сверкнула глазами, оглядывая фрау Кельнер пристальным взглядом, и с сомнением, словно не веря словам Харри, рассматривая ее.
— Я работаю в больнице лагеря Дахау, я…
— Бывшая любовница. Все в прошлом, мы давно расстались, — уточнил Харри, перекрывая голос Ханны, и, кажется, не слишком удивляясь подобному поведению яркой блондинки. Поднявшись из-за стола, и не дожидаясь, когда им принесут заказ, Харри сказал, смотря на жену:
— Агна, пойдем. Нам пора.
Фрау Кельнер не сдвинулась с места, и посмотрела сначала на Харри, а затем на Ханну Ланг. Изящно встав со стула, Агна, глядя на блондинку таким же пристальным взглядом, каким та пыталась зацепить ее несколько минут назад, отчетливо произнесла:
— Какое интересное у вас прошлое, фройляйн Ланг.
Ханна, которая забыла, что умеет краснеть, возмущенно вспыхнула. И пока она искала подходящий ответ, Харри и Агна вышли из кафе, а потому адресовать его стало уже некому.
Был дождь, самое начало рассвета. Солнце поднималось алым и темным, и его густой цвет, так похожий на глубину раскрытого сердца, окрашивал своим светом все, что было вокруг. Трава, деревья, углы домов, — все стало красным. Капли дождя мелкой дробью били по лицу и быстро сбегали вниз, скатываясь в густую траву. Вот большая капля зависла на краешке его длинных ресниц и упала. Эдвард очень устал, — Элисон это знала. И не могла перестать смотреть на него, — таким невероятным было его лицо в ту минуту. Усталость снесла последние барьеры между ними, и в глазах Эдварда она снова увидела отстраненность, которую уже много раз замечала раньше. Но тогда она быстро пряталась, — за улыбку или за взгляд, отведенный в сторону. Теперь же ей ничего не оставалось, как выйти к восходу солнца, и дать Милну время. На вдох и выдох. Усталость обнажила его лицо, глубокий взгляд голубых глаз больше не избегал ответного взгляда Элисон. И Эл боялась только одного: что каким-то неловким движением она спугнет эту крайнюю искренность, острую и пронзительную, увидеть которую случается не всем, но увидев однажды, забыть ее уже нельзя.
Нахмурившись, Элис тряхнула головой, отгоняя воспоминание. Она чувствовала, как влюбляется в Эдварда, влюбляется против своей воли, и это не нравилось ей. Потому что вместе с влюбленностью приходила ревность, у которой было лицо Ханны Ланг. Да, она помнила слова Милна о том, что та история в прошлом, но…
Вспоминая разговор с Эдвардом о той ночи, которую они провели вместе, она понимала, что ведет себя глупо, — говорит и делает не то, что нужно. А что «нужно»? Элис покраснела, стараясь отбросить навязчивые мысли. Ее «спасибо», вызвавшее у Эдварда сначала недоумение, а затем нервный смех, относилось не к тому, что произошло между ними. Сказав это, она хотела поблагодарить его за ту постоянную заботу и поддержку, которыми он, даже, несмотря на все колючие моменты в поведении и характере Эл, окружал ее. Спасибо — за то, что спас ее от Гиббельса, из рук которого, — Элис это прекрасно понимала, — она бы не смогла выбраться. Если бы не Эдвард.
Но их разговор вышел не таким, как она хотела. Ничего не вышло. Они не знали и не поняли друг друга. Глупо! Как глупо и нелепо все получилось, как стыдно! И как это объяснить Эдварду? И можно ли это как-то объяснить? Элис вздохнула и снова перевела взгляд на журнальную страницу, пытаясь уловить смысл напечатанных слов. Дверь в библиотеку тихо открылась, пропуская Милна.
— Не спишь?
Голос прозвучал совсем близко. Милн, задержавшись, поцеловал Элис в щеку и взъерошил волосы, чем вызвал забавное выражение на лице девушки. Каждое утро она с трудом укладывала непослушные пряди в прическу, и при этом так смешно надувала щеки, что после слишком долгого дня, проведенного в компании нацистов, посещавших с визитами заводы концерна «ИГ-Фарбиндустри», в число которых входила и компания «Байер», — где трудился Харри Кельнер, — Эд не мог отказать себе в удовольствии немного и беззлобно задеть Элис. От возмущения, в такие минуты, ее взгляд переливался блеском и темнел, и Милну очень нравилось наблюдать за тем, как меняется цвет ее изумительных, зеленых глаз.
— Читаю новый номер.
Девушка приподняла журнал «StyL» и улыбнулась.
— Что пишут?
Эд вальяжно устроился в кресле напротив, с удовольствием вытягивая вперед длинные ноги. Элисон быстро пробежала взглядом цитату из речи Гиббельса, но вслух прочитала только заголовок статьи:
— «Немкам — немецкую одежду!». Пишут, что французские фасоны наносят вред как физическому, так нравственному здоровью немецких женщин.
Эдвард усмехнулся, слушая голос Элисон, полный откровенной иронии.
— Ты не обязана была соглашаться на предложение Гиббельса о работе в ателье его жены.
Элис покачала головой.
— Другого выхода не было, ты знаешь. Я не могла отказаться.
С легким плеском глянцевых страниц девушка захлопнула журнал мод, и посмотрела прямо перед собой. В памяти все еще мелькали слова из речи министра пропаганды, процитированные в статье: «Полностью обнаженная спина открыто приглашает к забавам с хлыстом, все это разорванное на куски нечто кое-как удерживается с помощью ленты, глубокое — на самом деле, чересчур глубокое — декольте и узкая юбка с разрезом, которая заканчивается много выше колен».
То же самое он говорил ей во время медленного танца на недавнем вечере, — очередном, на который Харри и Агну Кельнер снова пригласили. Сказав эти слова, министр оглядел Агну, неуклюже пытаясь обнять и притянуть ее к себе.
Элисон много раз представляла тот момент, когда она снова встретится с Гиббельсом лицом к лицу. Как ей следует вести себя? Что сделать и что сказать? Каким будет ее лицо в эту минуту? Выдаст ли оно то отвращение, которое она испытывала к нему? Какой будет эта встреча?
Нелепой, вот какой она была. Гиббельс улыбался, и, глядя на эту улыбку, можно было подумать, что взгляд его черных глаз стал мягче. Но на самом деле, эти глаза продолжали гореть неутоленной похотью, ведь он не получил то, чего хотел.
Может быть, продолжая преследовать эту цель, во время танца Гиббельс и предложил Агне Кельнер выгодное место в доме мод его супруги, фрау Магды.
Жена министра была первой, и, пожалуй, самой влиятельной женщиной в рейхе, а дом мод находился в самом центре Берлина, на Унтер-ден-Линден. Агна Кельнер не могла отказаться от такого места, не вызвав подозрений. К тому же, она устала от «бесполезного», — как ей казалось, — времяпрепровождения, а с помощью этой работы она наверняка узнает то, от чего Баве уже не сможет молча отмахнуться, — как он уже сделал это при получения нескольких шифровок, отправленных ему агентами.
Если бы он только не верил им, это было бы не так страшно. Но Баве фактически проигнорировал все, что они сообщили за последнее время: о готовящемся перевооружении Германии и о лагере! Тысячи пленных, люди, умирающие под пытками. Он же сам просил их подтвердить эту информацию. И они, рискуя жизнью, все проверили и отправили подтверждение этих негласных слухов. Но Баве молчал. Только однажды, уже спустя какое-то время после получения серии донесений от Эдварда и Элисон, выдавая им очередное задание, он убежденно заметил, что «…это слишком невероятно, у Германии проанглийская позиция, мы в хороших отношениях с их посольством. Таких лагерей просто не может быть».Просто не может быть. Эл со злостью растерла щеки.
На их предположения о том, что Дахау — лишь один из лагерей, и что в дальнейшем их может стать больше, — слишком уж удобной для Грубера и его сторонников была эта «мера воздействия», — Баве тоже ничего не ответил. Элис помнила, как прочитав отвлеченный ответ начальника, из которого следовало, что все сделанное ими было пустой тратой времени и сил, она заплакала. А потом пришла в такое бешенство, что когда услужливая Эльза спросила перед уходом, что фрау Кельнер хотела бы на завтрак, Элисон слишком спокойным тоном сообщила домработнице, что Агна и Харри Кельнер в ее услугах более не нуждаются.
При этих словах фрау Агны женщина побледнела, рот ее смешно раскрылся, видимо, желая произнести какие-то слова, а потом так же беззвучно закрылся, — словно у глубоководной рыбы, которая из-за давления воды живет с выпученными глазами, и оттого выглядит особенно глупо.
Вполне возможно, что Харри остановил бы Агну в этот момент. Но его не было дома, и бедная Эльза вынуждена была уйти из особняка Кельнеров с мыслями о том, что, окажись хозяин дома, он непременно бы поставил свою жену на место, защитив ее, Эльзу, от несправедливости злой фрау. Узнай она, что новость о ее увольнении действительно не обрадовала Кельнера, она наверняка была бы счастлива. Но недолго. Потому что злая маленькая фрау, даже не дослушав предостережение супруга о том, что это решение может иметь «последствия», стремительно подошла к Харри, и пылко сказала:
— Может быть, ты и привык, что за тобой следят. Но я не привыкла к тому, что, стоит мне выйти из спальни, она бросается в комнату, чтобы проверить простыни!
На этом их разговор об Эльзе закончился. Харри нечего было возразить. Помолчав, он только спросил о новой прислуге, и Агна сухо сообщила ему, что знает девушку, которая с радостью согласится на эту должность. О том, что эта девушка — еврейка, которой уже однажды грозило гестапо, она тактично умолчала. Эдвард знал, что Элисон была права, уволив протеже Гиринга. Но он так же знал и то, что министр может воспользоваться этим в своих целях. Вот только в каких и — когда? Это мог знать только сам рейхсмаршал.
— Агна? — Милн наклонился вперед.
Зеленые глаза посмотрели на него сквозь пелену далеких мыслей.
— Пожалуйста, будь осторожна.
Элис улыбнулась.
— Буду.
…Их пост в долине Уэргла блокировали рифы. В войне Франции и Марокко рифов называли «повстанцами», французов — «легионерами», а Эдварда Милна, которому тогда, в 1925 году, было девятнадцать, знали под именем Себастьяна Трюдо. И если верно, что по владению сложным, — из-за его фонетики и своеобразного звучания, — французским языком проще всего вычислить «не француза», то у Милна не было с этим проблем: он родился и до двенадцати лет жил в Париже, а значит, был настоящим фарангом.
…Годы спустя историки подсчитают, что в той страшной битве рифы блокировали более шестидесяти французских постов. Но командование было уверено в силе своей армии, ведь уже около года солдаты строили здесь укрепления, которые, по донесениям их генералов, могли выдержать любую атаку «повстанцев», не желавших более находиться под гнетом Франции. Донесения были лихими, а путь к водоводу был отрезан три бесконечных дня назад. И Себ уже не мог держать оборону поста так, как следует. Так, как того требует командование. Потому что у него не осталось воды.
Ни капли.
Трюдо уже знал, как мучительна такая смерть. Медленная, она сводит человека с ума. Но, может быть, он зря волнуется, и все закончится гораздо быстрее, чем он думает? На чудо в виде французской авиации, сбрасывающей лед прямо на блокированных противниками французов, он не очень надеялся. И вот еще вопрос, — думал Себ, сползая в пыльный, песчаный окоп, — какая смерть лучше: от жажды или от удара куском льда, который иногда, падая с большой высоты, попадал солдатам прямо в голову?
Глядя в ночное небо, Трюдо улыбнулся. Звезды мерцали подобно карте. И если эти звезды станут последним, что он увидит на земле, что ж, значит, так тому и быть. Он не был фаталистом. Как и не был хорошим солдатом. Он часто со смехом думал о том, что стреляет хорошо только в сравнении с рифами, — к которым у него не было даже легкой неприязни, — потому, что они чертовски плохо управлялись с захваченными у них, французов, пулеметами.
Но неужели это — все? Его плечи в светлой форме, облитой чаем для лучшей маскировки несколько дней назад, затряслись от беззвучного смеха. Он рос в Париже, потом — в Ливерпуле. С успехом и прилежанием окончил один из лучших колледжей Великобритании, и… сидел в окопе на краю земли, окруженной людьми, которые всего лишь выполняли свой простой человеческий долг, — пытались защитить свою землю от захватчиков. В плотной ночной темноте Себ тщетно пытался рассмотреть чайные пятна на своей форме. Каким же безумцем нужно быть, чтобы вот так глупо использовать чай! Чай — это почти вода, его можно пить. В Великобритании его пьют часто и много, из крохотных изящных чашечек, которые так задорно звенят, когда ударяются о блюдце.
Дзинь!
В ушах зазвенело, голова дернулась в сторону. Он упал. На левую сторону. Жалко, что все — так. Жарко! В Итоне ему прочили «большое, светлое будущее». А умирать приходится в полной темноте. Вот бы собрать ее в кулак и обменять хотя бы на глоток чая. Хотя бы один глоток. Но вряд ли это получится, — его манеры теперь далеки от прошлого изящества. Но, будь у него чай, он выпил бы его очень медленно, пробуя каждую каплю на вкус, так, чтобы она пропитывала губы. Мысли путаются, он снова улыбается. Как странно, что он думает о чае, правда? Раньше Милн считал, что в последнюю минуту «вся жизнь проходит перед глазами», но нет, — только чай. О воде он думать боялся. При мысли о чистой, пресной, прозрачной воде можно было сойти с ума.
А еще было страшно думать о маме. Он хотел думать о ней, но не мог. Это было почти так же мучительно, как мысли о воде. Поэтому он думал о чае. Это почти вода. Его можно пить.
В голове Трюдо, ставшей от жажды такой глупой, была еще одна мысль. Но теперь это не важно. И все же, если вернуться к ней? Вот она, висит на крючке, как красивая белая шляпа с широкими полями.
Любовь.
Не подумайте ничего такого, конечно у него были девчонки. Когда стал старше — девушки. Ему хотелось вспомнить хотя бы одно из их лиц, но перед глазами была только темнота. «…Все репрессии должны проводиться немедленно и сурово. Нельзя останавливаться перед сожжением деревень и посевов, так как опыт показал, что великодушие истолковывается как слабость и побуждает марокканцев к новым нападениям». Так воевала французская армия. И он, Себастьян Трюдо. Или Эдвард Милн?
Дзинь!
Новый залп. Теперь ближе. Значит, скоро рифы придут за ним. Ярость их так огромна, что они наверняка станут его пытать, только вот вряд ли он сможет им что-то сказать, даже если захочет, — языком уже не пошевелить. Но, может, они просто застрелят его? Это будет настоящим милосердием с их стороны. А ведь это забавное совпадение: французы отрезали рифов от их пастбищ, отчего скот, который они успели спасти, умирал без воды, а теперь рифы перекрыли французам доступ к воде, отчего теперь умирают они. Выходит, нет никаких различий между животными и людьми, и все они — скот? Вода. Нет, о ней думать нельзя. Себ потрогал шрам на шее. Первый. В память о Марокко. Рука безвольно падает на песок, глаза закрываются. А все-таки странно, что ночи здесь, в Марокко, холодные. Он думал, они будут теплее. Он вообще много о чем думал…
Дзинь!
Эдвард рывком сел на кровати. Опять этот сон. Его тогда спасли, он остался жить. Теперь он на другом конце земли, а Марокко далеко.
Нет.
Всегда близко.
Милн нервно выдохнул, прислушиваясь к ночной тишине. Эл спала, повернувшись к нему лицом. Уличный фонарь по-прежнему бросал свой свет в окно их спальни, и в его электрическом свечении шелковая сорочка Эл казалась жемчужной. Зажигалка приятно щелкнула, выкидывая язычок огня вверх. Эдвард жадно затянулся сигаретой. Кто его вытащил из песчаного окопа? Он не знает. И снова возвращается взглядом к Эл. Как хорошо, что она мирно спит. Докурив сигарету, протяжными, длинными глотками он пьет воду из стакана, с наслаждением чувствуя, как она мягко обволакивает горло, и одна капля остается на губах. В свете фонаря вода тоже кажется жемчужной. И мысль о том, что из-за нее может идти война, не кажется Эдварду глупой: тогда, в долине Уэргла, так и
было. Бретелька от сорочки падает с плеча Эл. Осторожным движением он поправляет ее, ложится на спину, закрывает глаза. Разъяренные рифы еще далеко, и пока он может поспать.
Рабочий день в Deutsche Modeamt подошел к концу. Девушки — швеи, или, как их называли раньше «модистки», расходились по домам. Был конец ноября, и на улицах главного имперского города темнело так рано, что благоразумные фройляйн и фрау мечтали поскорее оказаться дома. Конечно, с появлением гестапо само понятие безопасности, как, впрочем, и индивидуальности, стало весьма условным, но, все же, выбирая между центральной улицей Курфюрстендамм, — ее берлинцы сократили до более легкого Кудамм, — и трамваями, которые в вечерние часы были похожи на быстроногих огромных светлячков, дамы выбирали последнее.
Агна задержалась, поправляя брошь в виде скарабея на темно-синем пальто, и увидела в зеркале Магду Гиббельс. Глядя на фрау Кельнер, статная блондинка неспешно приблизилась к ней, и, помолчав, заметила:
— Вы неплохо справляетесь, фрау Кельнер. Для такой молодой женщины, как вы, совсем неплохо…
Супруга министра сделала круг, осматривая лицо и фигуру Агны.
— Я понимаю, что в вас нашел мой муж.
Увидев, как вспыхнуло лицо девушки, она поспешно добавила:
— Не пугайтесь, Агна. Я не в претензии к вам. Напротив, чем больше нового поколения мы создадим во славу рейха, тем лучше. Конечно, вы совсем не похожи на арийку, — рука фрау Гиббельс коснулась светлых волос своей хозяйки, уложенных в высокую прическу, — но глаза у вас… удивительные.
Женщина взяла Агну за подбородок, всматриваясь в ее лицо, и начала новый круг возле жены Кельнера.
— Мне очень жаль, что я не похожа на истинную арийку.
Подбородок Агны устремился вверх, она внимательно смотрела на Магду Гиббельс.
— Да, жаль. Но ваш муж… Ваш муж очень красив. И я рада, что он встречается с Ханной Ланг: она блондинка, весьма привлекательна, и хорошо, что вы понимаете, насколько нашему рейху нужны новые люди. Уверена, вы не в претензии в сложившейся ситуации, и понимаете, как это важно для нашей великой страны, — делиться кровью и способствовать появлению на свет большего количества правильных людей, истинных арийцев.
Фрау Гиббельс посмотрела в зеркало на лицо Агны, медленно закурила сигарету и отвернулась, уходя прочь. Изящный знак рукой, который она оставила на прощание, означал лишь одно — аудиенция окончена, слуги могут идти домой.
* * *
Выйдя из здания модного дома на бульвар, Агна на мгновение задохнулась от порыва холодного ветра и плотнее завернулась в пальто. Черный «Хорьх», припаркованный через дорогу, послушно ждал ее, чтобы отвезти домой. Звонкий стук ее каблуков стих: девушка остановилась у машины, и, достав ключ, поднесла его к автомобильной двери. Но открыть замок никак не получалось, и маленький блестящий ключ снова и снова падал на булыжную мостовую. Агна, наконец-то вставив ключ в замочную скважину, уже почти повернула его, когда за спиной раздался голос:
— Фрау Кельнер!
Она узнала его. Такой вкрадчивый, обволакивающий голос она слышала только у одного человека. Александерплатц, первый день в Берлине.
— Господин рейхсмаршал? — Агна повернулась, отвечая на приветствие улыбкой.
— Маленькая фрау Кельнер!
Мужчина приблизился к ней, и в ярком свете уличного фонаря высветилась правая половина лица Херманна Гиринга. Агна почувствовала сильный запах алкоголя, но лицо ее не изменилось. По крайней мере, она очень надеялась на это.
— Не ожидал вас здесь увидеть!
Толстая фигура министра покачивалась, словно гонимая ветром, но фосфорический блеск его лукавых глаз означал, что любимец публики, дядя Херманн, накачан наркотиками до отказа. Решив, что для вступления слов вполне достаточно, он прямо заявил, что ему нужен Харри Кельнер.
— Видите ли, фрау-у-у…
Влажные губы Гиринга сложились в трубочку у самого лица Агны.
— Мне он очень нужен, фрау Кельнер. Видите ли, когда я принимаю наркотики, то становлюсь крайне нетерпеливым. Но когда у меня нет наркотиков…
Голос мужчины сорвался, и министр перешел на шепот, наклоняясь к девушке.
— Это… чрезвычайное положение, требующее чрезвычайных… мер…
Гиринг помолчал, улыбаясь испуганной девушке, и прижал ее к машине, с силой заводя правую руку Агны ей за спину.
— Я могу… я все, все могу, знаете ли… я…
Свободной рукой Гиринг рванул Агну к себе, и пуговицы от ее пальто, как звонкие мячики, запрыгали по бульвару.
— Я докажу, что и это я мо…
Рядом с ними раздался дребезг велосипедного звонка, и секунду спустя бравый летчик грузно упал на дорогу, сильно ударившись головой о землю. Две пары испуганных глаз следили за недвижной, толстой фигурой: зеленые и карие. Мальчишка, свалившийся с велосипеда и протаранивший Гиринга, в ужасе смотрел на Агну, ожидая ругани и криков. Но она, тряхнув головой, с силой зажмурила глаза, а открыв их, увидела все то же: Гиринг, сбитый резвым велосипедом, лежит на центральной улице главного города мира без движения. Изо рта его текла тягучая слюна, но он был вполне жив. Не то, чтобы кто-то из этих двоих стал проверять пульс рейхсмаршала, но для того, чтобы покалечить такого великого человека, нужны были еще как минимум десять таких же взбесившихся велосипедов. И десять мальчишек, которые не умеют ими управлять, но, чтобы этому научиться, выезжают на Кудамм вечером, когда прохожих меньше, а шансов на успешное вождение великов — больше.
Мальчик наблюдал за растерянными движениями Агны и молчал. Девушка, очнувшись, отыскала на земле свою сумочку, достала из нее кошелек, а из него, — о чудо! — настоящие бумажные купюры, рейхсмарки, много рейхсмарок! И вот он, мальчишка с велосипедом, держит в руках мятый денежный шар. А девушка… Девушка обнимает его и крепко целует в обе щеки. На них остаются ее слезы, она оглядывается по сторонам, быстро забирается в блестящий, черный автомобиль и газует так резко, что белый пар вонючим облаком обдает на прощание толстого человека, который уже приходит в себя и что-то бормочет про то, что он может.
Мальчишка, как и Агна, не стал выяснять способностей толстяка. Он оглянулся на жертву дорожного инцидента еще раз, засунул деньги в карманы, и исчез в темноте вместе со своим диким велосипедом так же быстро, как и появился, с надеждой на то, что улица на самом деле была такой пустынной, какой и выглядела.
Приехав домой, он с порога прокричал маме, что фея с зелеными глазами отдала ему все свои деньги, хотя до Рождества был еще целый месяц. О том, что фея поцеловала его, — даже дважды, — он промолчал, решив, что теперь это будет его тайной. Такой же невероятной, как его мама, которая так сильно заплакала при виде рейхсмарок, что лицо, искаженное радостью и болью, словно отделилось от нее. Она погладила его по темным волосам, нежно поцеловала в макушку и сказала, что завтра у них будет настоящий, вкусный хлеб.
* * *
Среди встречающих в лагере Дахау делегацию НСДАП Харри сразу заметил Ханну. Она выделялась на фоне других людей, хотя на ней был точно такой же белый медицинский халат, что и на других работниках исправительного лагеря, в котором заключенных, — с момента последнего визита Кельнера, — стало гораздо больше.
Первые бараки были переполнены узниками, и хотя их обещали выпустить из лагеря в скором времени, Харри знал, что все это ложь: фундаментов для новых бараков было подготовлено слишком много, чтобы этому можно было верить.
Отойдя от основной массы прибывших делегатов, Харри медленно шел вперед, заложив руки за спину и глядя в землю. Вот носок его ботинка, сшитого на заказ из натуральной кожи, ушел вниз, погружаясь в мелкие камешки, ходить по которым бесшумно могли, верно, только ангелы, но не люди. С июня здесь многое изменилось. Виселиц, подобных той, что он и Агна видели той ночью, стало больше: их ряды были выставлены за бараками, а на некоторых из них и сейчас едва заметно корчились обессиленные подобия людей, залитые собственной кровью.
Устрашение и животный ужас, — такова была цель нацистов. Дрожь и страх при виде идеально скроенной, стильной формы с «зигами» и черепом на фуражке, дрожь и страх при звуке подъезжающих к дому машин и лае собак, дрожь и страх каждую ночь, — и уже было не важно, действительно ли испуганные люди слышат топот многочисленных черных сапог, отдающих раскатистым эхом на пустых улицах, или это им только кажется. «Только кажется», между тем, тоже служило главной цели, — так в сознание по капле закладывался страх, разъедая волю и разум человека, который теперь, легко пробежав по мостовой, вполне мог забежать на улицу принца Альбрехта, в дом номер восемь, и рассказать офицерам гестапо об изменниках родины. Ну а если не забегал он, то забегали о нем, — рассказать, шепнуть, доложить и сдать. Люди боялись и несли доносы, а значит, скрупулезно выстроенная система гестапо работала.
Ханна остановилась за спиной Кельнера, и он, почувствовав чье-то присутствие, повернулся.
— Ты оглянулся. Значит, как и раньше, чувствуешь мой взгляд.
Она радостно улыбнулась, быстро посмотрев по сторонам.
— Я рада тебя видеть, Харри. Я очень скучала.
Кельнер промолчал, уставившись на носки своих ботинок.
— Значит, ты здесь, с ними?
Он понял ее вопрос: «насколько высокое у тебя положение?» — вот, что она спрашивает на самом деле. Не желая говорить, Харри посмотрел на белый халат девушки и перевел взгляд на ее лицо.
— Может, встретимся?
Ханна выжидающе наблюдала за ним, но он, ничего не ответив, усмехнулся и отрицательно покачал головой.
— Я женат, Ханна.
Кельнер показал левую руку, на которой блестело кольцо.
— Я в это не верю! Слышишь? Я поверить не могу, что ты женат на этой мелкой девчонке! Ты же говорил, — помнишь наш последний разговор, после которого ты бросил меня? — что не хочешь семьи, и никогда не женишься «ни на какой женщине»! — Ханна перешла на крик. — Так что изменилось, Харри Кельнер? Что?!
Харри посмотрел по сторонам, радуясь тому, что у этой сцены нет ни одного свидетеля, кроме него и фройляйн Ланг, и спокойно сказал:
— Женщина.
Ланг недоуменно взглянула на него.
— Я этому не верю. Нет!
— Ты не веришь этому, а я не верил, что ты будешь устраивать дешевые сцены. Тогда, в кафе, и сейчас.
Харри посмотрел на девушку.
— Все в прошлом, Ханна. Все кончено. Не вмешивайся в мою жизнь.
Он уже сделал несколько шагов, когда снова услышал голос Ланг.
— А что ты сделаешь, если вмешаюсь? Что ты сделаешь?!
* * *
Тем вечером в «доме на Кудамм» людей было гораздо больше, чем он мог в себя вместить. В огромных залах стоял невероятный шум, — переплетение тостов, смеха, пьяных голосов, сальных анекдотов и всего того, что обычно произносят люди, изображающие излишнюю радость при виде шнапса, шампанского или друг друга.
Для Харри и Агны Кельнер вечер был очень удачным: никого из тех, кто своим взглядом отмечал в невидимом журнале их присутствие, не было. Гиринг, Гиллер, Гиббельс, и даже его жена отсутствовали, и все выглядело так, будто никто не знал, где они.
Уходя из дома, в котором Кельнеры пробыли около часа, Агна услышала, как чей-то пьяный голос сказал: «Наверное, они опять в своем за… замке».
Эдвард удивленно наблюдал за тем, как Элис вытянула из его портсигара сигарету и наклонилась к огоньку зажигалки, прикрытому от ветра его рукой. Сейчас они были далеко и от Кудамм, и от Груневальда, — где-то на ночном, загородном шоссе. Элис даже не знала точно, где именно.
— Давно ты встречаешься с Ханной?
Она посмотрела вверх, чтобы поймать взгляд Эдварда, что было совсем не трудно, потому что он сам непонимающе смотрел на нее, сведя брови на переносице.
— Мы встречались раньше, примерно полгода.
Пламенный кружок сигареты Милна описал в темноте траекторию, и застыл на месте.
— А ты? Давно куришь?
— С сегодняшнего дня.
Элисон прошла вперед, развернулась, и медленным шагом вернулась к Милну.
— Если ты хочешь быть с ней, я…
К удивлению Элис, ее голос сорвался, и она не смогла договорить.
— О чем ты?
— Магда Гиббельс видела вас. Правда, она не уточнила подробностей, но, думаю, все и так ясно.
— Агна, послушай…
— Не трогай меня!
Эл закричала, когда Эдвард коснулся ее руки.
— Меня никто не смеет трогать! Никто!
Выкрикнув слова излишне четко, она обошла Эдварда, и побежала к машине.
— Кто он? — спросил Милн, когда Элис перестала плакать.
Ему, не раз видевшему, как могут вести себя иные мужчины с женщинами, не нужно было объяснять, что за словом «никто!» стоит вполне конкретный кто-то.
— Кто он? — вопрос прозвучал настойчивее.
— Ты ничего не сможешь ему сделать, и он… не успел.
* * *
Они вернулись в Груневальд ночью. Эл, измученная переживаниями, заснула мгновенно, а Эдвард, дождавшись, когда ее дыхание станет ровным и глубоким, переоделся и вышел из дома Кельнеров, и на скорости более ста километров в час погнал «Мерседес» к дому № 34 на Кайзердамм. После долгих расспросов Элис наконец-то назвала имя, а потом обняла Эдварда, и только это немного замедлило его гнев. Теперь же, круто разворачивая «Мерседес» на площадке перед домом Гиринга, Милн был очень рад, что сейчас его никто не задерживает. Он удивительно легко, — до абсурда, — проник в комнаты министра. Хотя «проник» — это, пожалуй, слишком громкое слово. Просто по пути на второй этаж фешенебельного дома ему никто не встретился.
Может быть потому, что охранять дядю Херманна было не самым приятным занятием, а охранять пьяного дядю Херманна, обколотого наркотиками, — тем более. Невменяемый министр, — вот что увидел Милн, когда остановился у края красивого персидского ковра. Золото, хрусталь и снова золото, — такими, в общем обзоре, были покои рейхсмаршала, давно переставшего быть героем войны. Пара золотых шприцов с остатками наркотика валялась возле его толстого тела, нелепо растянутого на ковре рядом с кроватью.
Несколько минут Эдвард молча смотрел на него, решая, что именно стоит с ним сделать, как вдруг тело у его ног пошевелилось, собралось с силами и бессвязно пробормотало:
— Ка-а… Ка…рин…
Рука с толстым запястьем потянулась к ноге Милна, и на удивление крепко вцепилась в лодыжку блондина.
— Ка-а-а…
— Нет, Херманн, это не Карин.
Взгляд Гиринга никак не мог сфокусироваться на высоком человеке в черной одежде, но он без слов понял не прозвучавший вопрос, сказав:
— Потому что она умерла. Умерла, слышишь!
Рука медленно разжалась, выпуская ногу Милна, и Гиринг зашевелился в тщетных попытках узнать автора этих слов или хотя бы голос, который их произносил. Эдвард, опустившись на колено, крепко схватил его за волосы, и произнес тихо, вдавливая каждое слово в мозг министра, разъеденный наркотиками:
— Ты понял меня, Гиринг?
Эдвард с ненавистью посмотрел в плывущие перед ним глаза. Вялый кивок головы, и губы, сложенные трубочкой беззвучно ответили «да», и Милн продолжил:
— Если ты еще раз тронешь Агну Кельнер, я сдам твое секретное досье фюреру, а потом вобью гвозди в твою голову и подвешу тебя на Александерплатц, пока твои руки не выйдут из суставов, и ты не попросишь меня о смерти.
Он с отвращением отбросил в сторону голову Гиринга, которая без его поддержки замоталась из стороны в сторону, и на мгновение закрыл глаза. Снова наклонившись к министру, Милн прошептал:
— Я очень надеюсь, Херманн, что ты запомнил мои слова.
Рыбий бессмысленный взгляд, такой лукавый без наркотиков, наконец-то остановился на лице Милна, и тонкие губы министра произнесли:
— Да… Гейдрих. Но моя Ка-рин…как она могла…
Эдвард не стал его слушать. Он вышел из дома Гиринга так же свободно, как и вошел. И, садясь в «Мерседес», точно знал, что министр услышал и понял его. Да, Гиринг принял его за Гейдриха. И так даже лучше. Ибо Гейдрих был самым лютым из всех возможных нацистов рейха. Тем, кого боялся не только Гиринг, но даже сам невозмутимый Гиллер.
После порывистого холодного ветра над Берлином рассыпались крупные хлопья снега. И когда Эдвард вернулся в Груневальд, площадка у дома, где он обычно оставлял машину, была покрыта тонким, снежным ковром. Удивленно оглянувшись по сторонам, он заглушил мотор автомобиля и ступил на снег, с забытым радостным чувством разглядывая след, оставленный его остроносым ботинком на белой поверхности. Ветер легко растрепал волосы Милна, и щедро осыпал их снегом до тех пор, пока он не зашел в дом. Оказавшись в прихожей, он не сразу смог разглядеть обстановку дома, уже ставшую привычной.
Круглый деревянный столик на изогнутых ножках, покрытый лаком. На нем, в высокой вазе с бело-синим орнаментом, всегда стояли свежие цветы. Чаще других — темно-красные розы, они нравились Эл больше всего. Даже привыкнув к полумраку, Эдвард не сразу открыл глаза. Сначала в памяти мелькнуло воспоминание: Элисон благодарит его за розы, с радостной улыбкой берет цветы в руки, и, вдохнув их аромат, говорит, что это, конечно, «ужасно банально» — любить розы, но что же делать? Слегка пожав плечом, она уходит в гостиную за вазой, но остановившись через пару шагов, оглядывается на Эдварда, улыбаясь широко и счастливо, совсем по-детски. От воспоминания по губам Милна скользнула теплая улыбка.
В окружающей тишине гостиной, ведущей в столовую, он с опозданием различил щелчок. А когда узнал этот звук, застыл на месте, медленно поворачивая голову в сторону, и заводя правую руку за спину, где был спрятан пистолет.
Затвор точно такого же вальтера, который Милн достал из-за спины, снова щелкнул. Эдвард был уверен, что слышал, как внутри пистолета звякнула возвратная пружина, надетая на ствол.
— Элисон, положи пистолет.
Милн медленно вывел правую руку вперед, раскрывая ладонь.
— Я Агна, Харри. Пожалуйста, отойди, я совсем не хочу тебя ранить.
Девушка повернула голову вправо, и подняла ее высоко вверх, крепче сжимая рукоять вальтера. Пожалуй, слишком высоко, подумал Эдвард, отмечая про себя, как лихорадочно пульсирует вена на шее Эл. Кровь толчками билась в вене, словно живое, отдельное от нее, существо. Эдвард нервно выдохнул воздух из легких, делая два плавных шага вперед.
— Что ты делаешь?
Он знал, что фраза звучит нелепо, но именно такие вопросы часто помогали ему отвлечь человека с оружием в руках от намерения выстрелить. Тонкие пальцы Элис снова перехватили рукоять, крепче сжимая пистолет.
— Я подумала, что мне нужно больше упражняться в стрельбе, Харри. Но ты не бойся, — Элисон перевела на него блестящий взгляд, — я здесь еще не стреляла. Хотя, — девушка улыбнулась, — я должна быть готова, когда они снова подойдут ко мне.
Она посмотрела в зеркало, висевшее на стене с каким-то странным выражением, — то ли ненависти, то ли отвращения. Рассматривая свое лицо в блестящей поверхности, Элис упустила момент, когда Милн беззвучно подошел к ней и встал под дуло пистолета, закрывая ее отражение в зеркале.
— Стреляй, Эл.
Голос был сухим, почти беззвучным, и плотная ткань черного пальто, еще блестящая от растаявших снежинок, закрыла круглое выходное отверстие вальтера.
— Что ты делаешь?! — Элисон вздрогнула. — Отойди!
— Ты когда-нибудь стреляла в человека, Эл? — Эдвард смотрел на нее, не отрываясь. — Может быть, убивала?
Ее правая рука дрогнула, хватка слегка ослабла, но этого было вполне достаточно: Эдвард легко, — и так ловко, что Элисон даже не успела различить его движений, — забрал у нее пистолет, нажал на кнопку внизу рукояти, и, сбросив на свою ладонь магазин с патронами, спрятал его в кармане пальто.
— Они не придут за тобой, Эл. Я обещаю.
Не глядя на Милна, Эл беззвучно заплакала.
— Со мной что-то не так, да? Со мной что-то не так… Тебе не кажется?
Элисон посмотрела на Эдварда глазами, полными слез, и снова вернулась к своему отражению в зеркале.
— Я так хотела его найти, Харри. Так хотела! Помнишь, ты разозлился на меня? Ты…. — тяжелый вздох ненадолго остановил быстрый поток слов, — …злился на меня, потому что я искала фрау Берхен, помнишь?
Эдвард кивнул, ожидая продолжения.
— Я нашла ее. Но она… сделала вид, что не понимает меня. Не захотела помочь. Людям очень страшно. Я даже не могу найти его, я бесполезна! И ты…— Элис повернулась к Эдварду, не замечая, как слеза бежит по щеке, — …рискуешь из-за меня своей жизнью… Ты был у него, да?
Милн кивнул. Его лицо исказилось от боли, словно муки Элисон стали его собственным кошмаром.
— Он не придет и не тронет тебя. Ни он, и никто другой.
Девушка вздрогнула, широко раскрыв глаза, и Милн, продолжая тихо говорить, приближался к Элисон до тех пор, пока не зашептал ей на ухо, склонив светлую голову вниз, и обняв за девушку плечи:
— На всякое зло, Эл, есть зло большее, но иногда оно может служить добру. Все они боятся Гейдриха, и Гиринг принял меня за него. Он не посмеет больше подойти к тебе, обещаю.
Каждое слово Эдвард произносил так убежденно, как только мог. Горячий шепот вылетал из его губ, касался кожи Эл, и постепенно успокаивал ее. Остановив на лице Эдварда блестящий от слез взгляд, она решилась сказать о том, что не давало ей покоя:
— Прости меня. Прости, что повела себя так глупо, это «спасибо» тогда…
Окончательно смутившись, Эл провела рукой по горячим щекам и опустила голову вниз, растирая ладонь о ткань домашнего платья.
— …Я хотела поблагодарить тебя за то, что ты всегда мне помогаешь, за то, что ты спас меня из той комнаты, а не за то, что… я не хочу, чтобы ты думал, что я о чем-то жалею.
Эл посмотрела на Эдварда, не позволяя себе отвести взгляд от его лица, и боясь того, что увидит в глазах Милна осуждение или злость.
— Я ни о чем не жалею, и я не хочу, чтобы ты думал, что я использовала тебя тогда! Я не…
Милн смотрел на нее с такой теплотой и сочувствием, что сердце Элис замерло.
— Я не думаю об этом, Эл. И никогда так не думал.
— Правда?
— Правда.
...Они говорили обо всем на свете, и еще о большем молчали. Темнота помогла расслабиться, а в тишине спальни, в отсветах уличного фонаря, который то и дело заглядывал в окно, их глаза светились, встречаясь друг с другом. Эл, набравшись смелости, спросила о Ханне, и узнала, что после той встречи в кафе Мюнхена, она и Эдвард виделись лишь однажды.
— Сомневаюсь, — отозвался Милн, прикуривая сигарету, — что встречу в лагере можно считать «свиданием», как тебе о том сказала Магда Гиббельс.
Выдохнув сигаретный дым, он с улыбкой посмотрел на Элисон.
— Ханна в прошлом, фрау Кельнер. Я влюблен, и это безнадежно.
— Почему? — Эл затаила дыхание, чувствуя, как на щеках выступает румянец.
— Она очень строптива, и я не уверен, что это взаимно.
Облако сигаретного дыма поднялось вверх, и теперь медленно таяло в розовом луче близкого солнца. Легкий шорох смолк совсем близко. Холодные пальцы Элис осторожно очертили контур его высоких скул. Эдвард улыбнулся, поймал руку Эл, и поцеловал раскрытую, едва дрожащую ладошку.
— Спасибо, Кайла.
Элисон с улыбкой посмотрела на домработницу и поднесла руки к чашке с горячим чаем, наслаждаясь ощущением тепла, которое медленно разливалось по телу. Вздохнув, девушка рассеянно взглянула в окно. Голые ветки деревьев, похожие на длинные, тощие руки, тянулись к небу, словно умоляя его о чем-то. Вчера Эдвард спросил ее, загадает ли она желание на Рождество? Элис только улыбнулась в ответ. Ее по-прежнему не переставало удивлять, как Эд, который до того, как они начали работать вместе, уже успел стать опытным разведчиком, мог так беспечно и легко радоваться предстоящему празднику. Еще совсем недавно она обязательно сказала бы, что это невозможно — говорить о Рождестве и о подарках, когда вокруг происходит настоящий террор.
Werner-Voss-Damm 54а. Темные подвалы двухэтажного, внешне ничем не примечательного здания с узкими, словно растянутыми вверх и вниз пустыми глазницами-окнами. Тюрьма для СА, штурмовиков, чьим лидером был Эрнст Рем.
Грузный, почти одного роста с Грубером, настоящий герой войны: трижды раненный, с изувеченным осколком снаряда лицом, награжденный орденами, — и даже железным крестом первой степени, — вот кому, как считали многие, фюрер тайно и сильно завидовал, вот кому вскоре он лично бросит халат с криком «одевайся!», перед этим избив своей плетью из кожи гиппопотама юного графа фон Шпрети, с которым Рем провел ночь.
Если у истории есть ирония, то она не смывается даже кровью. Потому что Эрнст Юлиус Гюнтер Рем останется в памяти многих современников действительным героем военных действий, тогда как Грубер, при всех своих стараниях, во времена первой войны так и не поднимется выше ефрейтора.
Эл сделала глоток чая, думая о том, что единственным, в чем противники не уступали друг другу, была зверская жестокость расправы с теми, кто находился по другую сторону политических баррикад. «Ночь длинных ножей», которая завершится убийством Рема в тюремной камере, была еще впереди. Но уже сейчас, в канун нового, 1934 года, можно было увидеть и почувствовать, как затягиваются невидимые узлы и взводятся многочисленные курки. Они стреляют сейчас. Об этом же, спустя много десятилетий после окончания второй войны, скажет секретарша Грубера, Траудель Юнге: «Если захотеть, то можно было распознать то, что тогда происходило».
Да, Эл и Эд были агентами, и, — к счастью или, к сожалению, — знали многое из реального положения дел, но Рождество оставалось Рождеством, и у Элисон было одно желание, которое она хотела загадать сегодня в полночь. Ну а сейчас осталась ровно одна минута до передачи новой шифровки от Баве. Элис поднялась из-за стола, проверила, заперта ли дверь в библиотеку, и снова села в высокое кресло. В приемнике зазвучали первые аккорды мелодии Шопена.
* * *
Харри Кельнер очень спешил на встречу со своей женой. Они договорились встретиться недалеко от модного ателье, в котором работала Агна. В канун Рождества на этом месте, как и на многих других улицах Берлина, нацисты организовали пункты выдачи подарков нуждающимся, и со всем радушием, на какое они были способны, — например, поднятой вверх рукой, — приветствовали верных общему делу добровольцев, которые вызвались раздать рождественские сувениры беднякам. Среди этих добровольцев были фрау и герр Кельнер. Вот только Харри опаздывал.
Огибая на бегу угол громадного дома, чье строительство вполне могло сослужить честь главному архитектору рейха, Шпееру, — если бы он не был уже построен, — Кельнер, благодаря своему черному расстегнутому пальто, полы которого от ветра развевались в стороны, был похож на огромную врановую птицу, которая торопится на важное птичье собрание. Впрочем, в собравшейся на тротуаре толпе его интересовала только одна дама. И, если продолжать не слишком оригинальное рассуждение о птицах, то Харри сказал бы, что она похожа на колибри радужного цвета, которую пугает всякое резкое движение, но которая бесконечно красива настоящей, неподдельной красотой.
Агна заметила мужа, когда он, осмотревшись по сторонам, перебегал дорогу. Несколько секунд спустя Харри остановился рядом с ней, радостно улыбаясь. Женщины с интересом оглянулись на него, позабыв о коробках с подарками, на крышках которых был изображен огромный знак свастики.
— Пойдем, — Агна взяла Харри под руку, — все подарки уже раздали.
— Извини, я опоздал, — Кельнер накрыл руку девушки ладонью в перчатке и проследил за отъезжающей от ателье машиной. — Но у меня есть для тебя подарок.
«У меня для тебя тоже», — подумала Элис, вспоминая текст шифровки Баве.
«Продолжайте наблюдение рад что Агна остается в Берлине вы оба нам нужны доложите обстановку».
Эдвард выругался и ударил кулаком в стол. Черт бы побрал этого Баве! Зачем нужно было упоминать о Берлине, тем более в таком тоне? Как будто он или Элисон могли по своему усмотрению просто выехать из города и легко вернуться в Лондон!
— И давно ты хотел от меня избавиться? — Элисон остановилась за его спиной, скрестив руки на груди.
— Я не хотел и не хочу избавляться от тебя.
— Именно поэтому ты просил Баве отозвать меня, не сказав мне об этом?
Эдвард разрезал воздух рукой, и уточнил:
— Сообщение с просьбой отозвать тебя в Лондон я отправил давно, до поездки в Дахау. Потому что я боюсь за тебя. Или ты хочешь сказать, что, учитывая недавние события, я зря беспокоюсь? — Эдвард оглянулся, чтобы увидеть Элисон.
Выражения ее лица часто помогали ему понять то, что она чувствует. Честно говоря, он даже гордился своим умением читать лицо Эл, как открытую книгу. Но сейчас это умение ему не помогло. Девушка подошла к нему, и, смотря прямо в глаза, произнесла медленно и четко:
— А я не верю тебе, Харри Кельнер. О тебе и Ханне Ланг в ателье фрау Гиббельс ходят удивительные разговоры. О том, как славно, что вы снова встречаетесь, ведь вы оба так красивы, и даже похожи. И о том, какими красивыми будут ваши белокурые дети, «настоящий подарок фюреру».
На слове «дети» Элис остановилась и приложила ладонь к животу.
— Ты же понимаешь, что это просто сплетни?
Милн посмотрел на Элисон, будто спрашивая ее, как она может верить таким глупостям.
— Неужели? Тогда что это?
Эл подошла к креслу, открыла сумочку, и протянула Милну черную бархатную коробку.
Открыв ее, он с удивлением уставился на серебряный портсигар, а потом устало прикрыл глаза, уже зная, что увидит дальше. От нажатия на кнопку крышка отскочила в сторону, и он прочел аккуратно выгравированные строчки:
If your spirits
Start to sag
Kiss the wife
And light a fag(1).
Под рифмованными строчками стояла дата — 15 февраля 1933 года. День, когда Агна и Харри Кельнер приехали в Берлин, день их свадьбы.
— Я бы могла подумать, что речь идет об Агне Кельнер, но вряд ли Ханна Ланг имела ввиду ее, когда лично попросила меня передать Харри этот забытый им подарок.
Эл печально усмехнулась собственной фразе, и заходила по комнате, обняв себя руками. Эдвард покачал головой и отбросил портсигар в сторону.
— Нет, нет и нет! Даты не было, это обман!
Голубые глаза встретились с зелеными, умоляя не верить в эту ложь.
— Это уже не важно, Харри. Я просто хочу, чтобы ты знал, что я никуда не уеду, нравится тебе это или нет.
— Я не обманываю тебя! Это, — Милн кивнул, указывая на портсигар, — Ханна подарила мне, когда я уезжал, но я не принял подарок. Тогда там была только надпись, очевидно, дату она просила сделать позже. Черт возьми, Агна! Не верь им, прошу тебя! Ты же знаешь, что там все неправда, только сплетни и грязь!
Светлая прядь упала на лоб Эдварда, и Элис подумала, что впервые видит его таким взволнованным. Она кивнула, соглашаясь:
— О романах Рема с юными мальчиками, о недовольстве фюрера, о накрашенных мальчиках в притонах Кудамм и пристрастиях Гиринга… Да, знаю. Знаю уже слишком хорошо, Харри. Но дело как раз в том, что не все, о чем распускаются сплетни — ложь. Элисон остановилась, размышляя о чем-то. Потом она перевела на Эдварда взволнованный взгляд, и сказала тихим, сорвавшимся голосом:
— Я беременна.
Останавливая изумленного Эдварда, потянувшегося к ней, Элис прошептала:
— Надо убрать елку, я просила Кайлу не украшать ее. И игрушки с их знаками. Этого в моем доме не будет.
1) "Если вам станет грустно, поцелуйте жену и выкурите сигарету.
Милн замер, словно проверяя, верно ли он расслышал слова Элисон. Улыбка, не успев начаться, соскользнула с его губ, и через мгновение он уже кружил Элис по комнате, смотря на нее, — впервые, — снизу вверх. От неожиданности она вскрикнула, крепко схватила Эдварда за плечи и растерянно улыбнулась. Но вот кружение кончилось так же внезапно, как и началось. Эдвард осторожно, будто в один миг Эл стала хрупкой фарфоровой куклой, опустил ее на ковер, с нежностью глядя на нее.
— Я дурак! Наверное, тебе вредно…
Его голос снизился до шепота, от волнения он задерживал дыхание и, сам того не замечая, говорил обрывками фраз, снова и снова глядя на Эл. Длинные пальцы Эдварда осторожно обводили каждую черту ее лица, неровное дыхание едва уловимыми волнами касалось кожи.
— Боже мой, Эл, малыш!
В уголке его глаза собралась слеза и быстро, — он не успел заметить как, — упала вниз.
Элисон дотронулась до слезы, стирая ее след, как делал Эдвард, если она плакала. Но когда Милн потянулся к ней, чтобы поцеловать, узкие ладони легли на его грудь, устанавливая барьер между ними. Светлая бровь нахмурилась, удивляясь этому жесту, голубые глаза непонимающе взглянули на девушку, которая отрицательно покачала головой.
— Разберись с Ханной, сейчас я ничего не могу тебе обещать.
Уголок ее полных губ приподнялся в неловкой улыбке, как если бы хотел извиниться за такое поведение, и опустился вниз, мелко вздрагивая. Элисон вышла из библиотеки и скоро в гостиной послышался звон, — фрау Кельнер, как и обещала, добралась до новогодней ели, и теперь быстро снимала с ее раскинутых в разные стороны веток игрушки.
Когда Эдвард быстрым шагом вошел в гостиную, елка была почти полностью освобождена от стеклянных шаров и мишуры. Элисон, не заботясь о сохранности украшений, которым нацисты так старательно пытались придать новый особый смысл, разводя по радио долгие эфиры о древнем значении света и огня, встав на стул, сбрасывала в коробку все, что попадалось ей под руку. Огромная ель быстро становилась такой, какой была до всего этого маскарада — темно-зеленая, с пушистыми, бархатными ветками, она вызывала улыбку и восхищение. Вот только бы Элисон смогла дотянуться до огромной уродливой звезды на верхушке! Девушка вытянулась во весь свой небольшой рост, привстала на носки, — еще чуть-чуть, и она схватит прозрачную вершину, в неровной поверхности которой ее лицо отражалось одним огромным выпуклым глазом… Нога подвернулась, она падала назад, и, не окажись Милна рядом, Элисон угодила бы прямо в коробку с елочными игрушками, среди которых было заметно множество черных крючьев свастики.
Эдвард снова, почти так же, как несколько минут назад, аккуратно поставил Элисон на пол, быстрым взглядом проверяя, все ли с ней в порядке, и только после этого выдохнул, — долго, нервными толчками.
Смутившись, она отошла к столу, который Кайла уже накрыла к праздничному ужину. Уверенная, что хозяйке это понравится, домработница выставила в центре стола большое блюдо с печеньем, форма которого напрочь отбила у Элисон остатки аппетита. Покрытые шоколадной глазурью, мелкие свастики, выпеченные в специальных формах, чей выпуск был увеличен специально к Рождеству, полностью повторяли черные знаки с флагов, развешанных по всему Берлину буквально на каждом шагу. Прежде чем начать говорить, Милн прочистил горло, но на первых словах его голос все равно звучал хрипло.
— Мне нужно уехать, я вернусь к полуночи. Постарайся за это время не навредить себе и… ребенку.
Элисон слышала, как он вышел в прихожую. За плотным шуршанием пальто вскоре послышался ласковый щелчок дверного замка. Элис выпустила из пальцев печенье, упираясь рукой в белую скатерть. Левая ладонь накрыла правую, стараясь унять дрожь.
* * *
Если бы ему сказали, что этот маршрут преодолеть менее, чем за шесть часов невозможно, он оскалил бы свои белые зубы, — в насмешку над теми, кто не верит в способности «Мерседеса», — точно такого же, как у маленького фюрера с черной челкой, слетавшей на его круглый лоб нелепой кляксой всякий раз, когда он мотал головой из стороны в сторону. Пятьсот четыре километра по прямой, разделяющие Берлин и Мюнхен, Кельнер преодолел за два часа пятьдесят минут. Еще две минуты и тридцать секунд ушло на то, чтобы доехать до того кафе, в котором он и Агна останавливались на обратном пути в Берлин, после посещения лагеря в Дахау.
Ханна Ланг.
Харри не знал, где именно он сегодня найдет ее, но в том, что найдет, лично у него сомнений не было. Словно следопыт, идущий тропами, на которых только он способен был видеть оставленные знаки, Кельнер зашел в кафе и остановился на пороге, тяжелым взглядом осматривая зал. Его ноздри раздувались от быстрого дыхания, словно он уже учуял запах добычи. Впрочем, так оно и было, потому что Ханна Ланг стояла у барной стойки, справа от него. Улыбаясь бармену, она слегка вытянула губы, очевидно, произнося слово «zwei», потому что после этого слова она оглянулась на девушку, сидевшую за столиком позади нее.
Кельнер бесшумно подошел к Ханне и остановился за ее спиной так близко, что она едва не облила его светлым пивом, когда повернулась, намереваясь вернуться на свое место за столиком. Пена в кружке качнулась в сторону Харри и лизнула его черное пальто своим белым задорным язычком, оставляя на память о себе пивной запах. Перекрывая Ханне путь, Кельнер внимательно вглядывался в ее лицо. Когда-то оно казалось ему красивым, но теперь в этом и было препятствие: оно было слишком красивым. Приторным, как сладкая вата, которую так хочется попробовать в начале, но от которой еще скорее хочется пить. Усмешка растянулась на губах Харри, — с жаждой у него были особые отношения. После Марокко он не подпускал ее к себе, предпочитая и вовсе не есть сладостей, тем более тех, к которым так быстро теряется вкус и желание. Ханна радостно улыбнулась ему, точно такой же улыбкой, как тогда, в Дахау.
— Харри!
Она растерянно, с радостью, посмотрела на Кельнера, и, наконец, сообразив, поставила кружки с пивом на соседний столик, улыбаясь еще шире.
— Как я рада тебя видеть! Выпьешь с нами?
Ханна кивнула в сторону своей знакомой, и перевела вопросительный взгляд на блондина.
— Нет времени. Мне нужно поговорить с тобой.
Светлые глаза фройляйн Ланг весело блеснули, она быстро прошла к столику, сняла со спинки стула пальто, и что-то коротко шепнув девушке, ожидавшей ее, улыбнулась, подхватила сумочку и прошла мимо Харри, останавливаясь впереди него. Взгляд через плечо, и вот уже Кельнер следует за ней. Как легко!
— Где мы можем спокойно поговорить?
Ханна наслаждалась хмурым видом Харри и не спешила с ответом. Подойдя к нему совсем близко, она чуть-чуть приподнялась на носки. Под черными туфельками зашуршал гравий. Губы в красной помаде, оставляя на мочке его уха легкие следы, с жаром прошептали:
— У меня.
Кельнер кивнул, и пошел к «Мерседесу». Открыв дверь с пассажирской стороны, он подождал, пока Ханна, которую роскошный автомобиль привел в громкий восторг, устраивалась на сидении. Она разглядывала отделку автомобиля, прикасалась к каждой детали и радостно улыбалась, снова и снова обращая свое лицо к Харри. Деревянные панели, кожаные сидения, музыкальный проигрыватель, — Ханна прикоснулась ко всему. На лакированных деревянных панелях от ее изящных пальцев оставались легкие следы, которые, впрочем, мгновенно исчезали, стоило им только отразиться на поверхности.
В какой-то момент руки Ханны обвились вокруг Харри, и в темноте автомобиля послышался шепот:
— Так о каком срочном деле ты хотел со мной поговорить, если не удержался, и приехал ко мне в Рождество… — красавица поцеловала Харри в шею, отчего вена на ней напряглась и дернулась, —…оставив свою маленькую жену дома? — она рассмеялась, слегка покусывая мочку его уха.
Харри шумно вдохнул воздух, отодвинулся от Ханны и достал из внутреннего кармана пальто коробку с портсигаром:
— Это ты сделала?
Серебряная крышка переливалась в отблесках уличного света. Губы Ланг довольно изогнулись, она стукнула острым ногтем по крышке и взглянула на сосредоточенный профиль Кельнера.
— Отвези меня, пожалуйста, домой, я очень устала. В лагере сегодня был трудный день. Улица Таль, 19. Холодный дом.
Сглотнув, Кельнер нажал на кнопку зажигания, и мотор «Мерседеса» довольно зарокотал.
Дорога до старого центра Мюнхена заняла совсем немного времени, и скоро Харри и Ханна остановились у нужного дома, расположенного сразу за старой ратушей. Ее острый шпиль по-прежнему указывал в небо. Переживший несколько веков, начиная с четырнадцатого, и огромное множество людей, которые с большой высоты неизменно, на протяжении сотен лет, выглядели по-прежнему крохотно, шпиль молча приветствовал незнакомую пару, до которой, впрочем, ему тоже не было никакого дела. Стоило входной двери закрыться за ними, как круглые часы на вершине башни пробили полночь.
— Выпьешь?
Ханна прошла в комнату, на ходу снимая туфли и отбрасывая их в сторону. Харри отрицательно покачал головой.
— Нет времени.
— О, это я уже слышала, Кельнер! Блондинка откинулась на спинку высокого кресла и со смехом посмотрела на мужчину. — Какой ты стал скучный, Харри! Раньше ты был гораздо веселее… ладно-ладно!
Ханна улыбнулась, когда Кельнер сделал по направлению к ней пару шагов.
— Это я привезла в модный дом портсигар. Согласись, это хороший подарок. Мне обидно, что ты забыл его, когда уезжал от меня в прошлый раз. Поэтому… — блондинка выставила вперед длинные ноги и спустилась в кресле еще ниже, правой рукой расстегивая полупрозрачную блузку. — … я попросила Альму передать подарок тебе.
Блестящие голубые глаза, смеясь, смотрели на Кельнера. При виде его плотно сжатых губ, они заискрились еще больше.
— Агна. Мою жену зовут Агна.
— Пусть так, — прошептала Ханна, вытягивая ногу и касаясь пальцами стопы Харри. — Но я все равно не верю, что ты женат на ней. Она же совсем еще девочка, почти ребенок. А я, — Ланг наклонилась вперед, чтобы Харри лучше рассмотрел ее грудь, — нет. Помнишь, как мы занимались любовью в том доме, прямо на ковре, у камина? Я тогда снова зашила твой шрам, который тебе разрезали в уличной драке, а ты… Тогда ты был гораздо сговорчивее, Харри. И веселее. Гораздо…
Кельнер прикрыл глаза, и резко наклонившись к Ханне, прижал ее к спинке кресла.
— Да что с тобой?! Что с тобой стало?
Он тряхнул ее за плечи, и женский хохот раскатился по комнате. Несколько минут Ханна молча изучала злое лицо Кельнера, а затем отвернулась, стягивая на груди расстегнутые половинки блузки.
— Все меняется, Харри. Я изменилась тоже.
Кельнер замотал головой, словно отгоняя ее слова.
— Я ничего не хочу знать о тебе, Ханна.
Быстро осмотрев богато обставленную гостиную, он в упор посмотрел на бывшую любовницу.
— У тебя ни черта не получится. Я люблю ее, и с этим ни ты, и никто другой ничего не сделает. Мы оба прекрасно знаем, что у тебя есть довольно состоятельный любовник, чтобы… — Харри махнул рукой в сторону, будто адресуясь к комнате. — … содержать тебя и все это. Так было во время наших встреч, так, уверен, есть и сейчас.
При слове «любовник» Ханна изменилась в лице и нервно сглотнула.
— Именно поэтому ты меня бросил, Харри. Прошу тебя, пожалуйста...
— Нет! — лицо Кельнера исказилось. — Не смей подходить к моей жене. И оставь свои дешевые трюки для того, с кем ты спишь. Понятно?
Харри резко выпрямил руки и вытянулся во весь рост. На его высоких скулах горели красные пятна. Ханна нервно сжалась в кресле, и в комнате повисла тишина.
— Да, — губы со смазанной помадой разлепились, и он скорее понял, чем расслышал ответ.
Кельнер прошелся по большой гостиной, одернул воротник пальто, и снова вернулся к Ханне. Она по-прежнему сидела в кресле, неуклюже сжавшись, только теперь обнимая себя за плечи.
— Он заставляет меня, Харри.
Глаза, полные слез, с отчаяньем посмотрели на Кельнера. Харри присел перед Ханной.
— Кто?
Теперь его голос звучал тихо и так мягко, что слезы быстро-быстро побежали по щекам Ханны. Кельнер осторожно положил руку на ее плечо.
— Я могу тебе помочь?
— Нет! Нет, не можешь! Он готовит что-то страшное, Харри. Они, они-и-и-и-и…
Ханна крепко обняла Харри и громко заплакала. И вдруг, замерев, с силой оттолкнула его от себя, отчего он едва не упал на спину.
— Уходи! Уходи сейчас же! Они там!
Взгляд Ханны стал безумным, она толкала и била Харри.
— Они там! Ты должен быть дома!
* * *
«Ты должен быть дома!».
Эдвард все еще бормотал эту фразу себе под нос, когда вламывался в дом Харри и Агны. На первом этаже особняка было темно и тихо. Он поднес левое запястье к лицу, но в окружающей тьме не смог различить положение стрелок на часах.
«Ты должен быть дома!».
Ступеньки лестницы скрипнули под его тяжелым шагом и затихли. В правой руке Эдварда узким лучом засветился карманный фонарь. Ступая как можно тише, он обошел все комнаты второго этажа, начиная со спальни. Ничего.
И никого.
Его Эл исчезла.
Милн сбежал по лестнице вниз, рванул дверь на себя, и замер на пороге, едва не врезавшись в двух мужчин. Один из них выкинул горящую сигарету в сторону и посмотрел на Эдварда с улыбкой. Харри Кельнер не успел ничего спросить, — когда его руки одним ловким движением оказались завернуты за спину и скованы наручниками, вопросы задавать больше не требовалось.
Забранные решетками окна высокого грузовика не позволяли хорошо рассмотреть дорогу, по которой его и еще семерых человек, среди которых было две женщины, везли. И без того шаткий грузовик сильно трясло на булыжных мостовых, отчего скованные по рукам узники сильно бились о стены, разбивая лица в кровь.
Улица Принца Альбрехта, 8.
Огромное здание, где уютно расположилась тайная государственная полиция, в желтых отблесках ночных фонарей казалось еще внушительнее, чем при свете дня. Плачущих женщин выволокли на улицу первыми. Передав их в руки охраны, ожидавшей у входа в здание, которое, как и все в тысячелетнем рейхе, призвано было поразить воображение зрителя своим масштабом, конвоиры вернулись за мужчинами. Кельнера вывели последним и толкнули в спину. Под кольцами наручников его запястья давно стерлись, а из губы, разбитой в дороге, еще сочилась кровь, но все это было неважно перед одной мыслью.
«Где Эл?».
Кельнер послушно молчал, осматривая по пути, — насколько позволяло зрение, — коридоры гестапо, где усердно боролись с противниками режима. До той части здания, где проводили допросы, преимущественно ночные, было еще далеко. Но его вели именно туда, потому что чем дальше они продвигались по многочисленным коридорам, тем чаще и отчетливее были слышны сначала выкрики, а потом и хрипы допрашиваемых. Он и двое его конвоиров шли по огромному залу. Громадные окна, справа и слева от которых были развешаны флаги со свастикой, сочились темнотой.
Харри прошел мимо бюстов Грубера и Гиринга, на секунду задержав взгляд на ухмылке последнего, учредившего славную тайную полицию почти год назад. И снова вспомнил Эл: то, как дрогнула ее рука, когда он предложил ей выстрелить в него после нападения пьяного рейхсмаршала.
«Где ты?».
Должно быть, эти слова Харри произнес вслух, — один из полицейских ударил его прикладом в спину и дернул в сторону.
— Schweigen!
И он снова замолчал, морщась от боли и спрашивая себя снова и снова — где Эл, где Эл, где Эл? Словно отвечая на его мысли, из коридора, ведущего направо, послышался женский крик, и сердце Кельнера сжалось. Он потерял контроль, ему казалось только одно — они мучают Эл, и все крики, доносящиеся из бесчисленных, — близких, далеких и подвальных камер, — это все она, это ее голос!.. Когда новый женский всхлип донесся до него, он быстро обернулся, словно действительно ожидал увидеть Элисон Эшби. Белое платье и шляпка с вуалью. Но ее не было. Никого не было. Только призрачный ночной крик. Может быть, последний, — столько боли и нечеловеческого страдания было в нем.
Сколько пыток способен вынести человек? От чего это зависит? Он хотел задать этот вопрос своим охранникам, но они не удостоили его взгляда, — лишь втолкнули в одну из камер и, встав на пороге, сообщили о доставке на допрос Харри Кельнера. Те, кто был в комнате, ждали его. Эдвард запомнил улыбки на их лицах и в следующую секунду уже забыл о них и обо всем на свете. Справа от него, на стуле, сидела Эл. Милн счастливо улыбнулся и замотал головой, пытаясь этим движением откинуть с лица растрепавшиеся волосы. И когда ему это удалось, он, наконец, смог рассмотреть фигуру Элисон.
Темно-синее платье с белой линией на воротничке, которое она так часто носила дома, было расстегнуто до талии, а вырез белой сорочки засыпали капли крови. Милн или Кельнер, словно раздваиваясь, зашевелил губами, надеясь привлечь ее внимание, но услышал только одно:
— Schweigen!(1)
Человек в черной форме, проследив за взглядом блондина, подошел к стулу, на котором сидела Элисон, и ударил коленом по его спинке, отчего она выпрыгнула вперед, неестественно выгибая спину девушки. Скованные за спиной руки Элисон напряглись еще сильнее, до предела. Из ее груди вылетел хрип.
— Я Харри Кельнер, сотрудник компании «Байер» в Берлине. На каком основании вы задержали меня и мою жену?
Эдвард неотрывно смотрел на офицера в черной форме, уговаривая себя не поворачиваться вправо, чтобы еще больше не навредить Эл, себе и… ребенку.
— Ну да, а я — Херманн Гиринг!
Офицер рассмеялся, и присел на край письменного стола, наблюдая за Кельнером.
— Приятно познакомиться, герр Кельнер, я — рейхсминистр авиации!
Тонкая рука взлетела вверх, выдавая в воздухе движение, с каким много веков назад поданные кланялись королю.
— Кто вы? — мишура слетела с голоса, теперь он звучал чеканно, словно единый шаг сотен ног на очередном праздничном параде.
— Я уже сказал вам, что я — Харри Кельнер, сотрудник фирмы «Байер» в Берлине.
Офицер наклонился вперед.
— Надо же! Посмотри, Шульц, как они разговаривают, и какие только знают слова: «на каком основании», «задержаны»…
Снова послышался смех, раскатистый и громкий, на два голоса, — полицейский, стоящий у двери, вторил смеху первого. Должно быть, это и был тот самый Шульц. Кельнер повернул голову, чтобы посмотреть на него, когда получил мощный удар в висок слева. Его голова дернулась и наклонилась вперед. Пачкая кожу и белую рубашку, из раны на виске побежала кровь. Первый гестаповец зло выругался, рассматривая замазанный кровью Кельнера кастет.
— Ублюдок!
Рука в черном кителе размахнулась, ударяя Кельнера по другому виску. Голова Харри, которая под светом яркой потолочной лампочки казалась неестественно белой, снова дернулась. Светлые волосы быстро пропитались кровью. Теперь ее было так много, что офицер, изобразив на своем лице крайнюю брезгливость, отошел от блондина подальше.
Опустившись на стул, он подал знак Шульцу, и тот, подняв с пола ведро, облил Харри ледяной водой. Кельнер задохнулся и закашлялся, пытаясь увернуться или закрыться руками. Но руки были по-прежнему скованы наручниками, и потому он только нелепо скорчился на стуле, западая на правую сторону. Подождав несколько минут, первый офицер положил на стол грязный кастет, и снова вернулся к Харри.
— Я рад, что вы усвоили урок, и больше не задаете вопросов. Все… — он принялся ходить вокруг блондина, с улыбкой рассматривая неподвижную фигуру Агны. — …рано или поздно усваивают урок. Вот и ваша жена его тоже усвоила. Я надеюсь.
«Гиринг» подошел к девушке, которая все еще была без сознания. Отдав новый знак Шульцу, он подождал, пока тот подтолкнул стул с Агной к столу, и направил слепящий свет от настольной лампы ей в лицо. Девушка медленно пошевелилась, дернула скованными руками и посмотрела туда, где должно было быть лицо полицейского, хотя слишком яркий свет мешал ей разглядеть его. Офицер долго рассматривал Агну, будто решая какую-то занимательную задачу, и взяв ее за подбородок, повернул голову девушки из стороны в сторону. Кровь уже перестала бежать из раны над бровью, но глубокий порез сильно изменил ее лицо, отчего, должно быть, лже-министр счел фрау Кельнер некрасивой, и потому вряд ли достойной быть изнасилованной истинным арийцем.
Железный колокол настольной лампы отвернулся от лица девушки, и она прерывисто вздохнула, даже попыталась улыбнуться, но разбитые губы, слипшиеся от крови, почти не шевелились.
— Скажите, что же мне с вами сделать, фрау Кельнер? Вы и ваш муж ужасно несговорчивые, я бы даже сказал, скучные: говорите одно и то же, повторяя без конца: «Байер», «Кельнер», «Кельнер», «Байер»…
Гестаповец поднес указательный палец к губам и замолчал.
— Придумал! Шульц!
Он азартно взглянул на второго полицейского.
— Включите обогреватель, пусть он немного согреет фрау, она наверняка продрогла в камере, все-таки четыре часа…
«Гиринг» отошел к дальней стене и с интересом следил, как его коллега ловко включает обогреватель на полную мощность. Когда тот раскалился до предела, и Шульц с шипением отдернул руку от защитной решетки, Агну сняли со стула, уложили на живот рядом с обогревателем, предварительно развернув ее голову в сторону решетки, и снова защелкнули железные наручники за спиной. Когда она с неясным звуком попыталась отодвинуться в сторону, Шульц занес над ней ногу в черном блестящем сапоге.
И замер.
«Гиринг», увлеченно наблюдавший за происходящим, громко выругался, и быстро зашагал к двери, на ходу ругая того, кто посмел мешать ему во время допроса.
Дверь резко дернулась, и теперь уже друг Шульца застыл по стойке «смирно», провожая огромными от страха глазами секретаря самого Рудольфа Дильса, руководителя гестапо. Секретарь передал офицеру обрывок белой бумаги, дождался, пока тот прочел слово, написанное от руки, вскинул руку в нужном жесте, и удалился.
— Освободи!
«Гиринг» скомкал листок и швырнул его в мусорное ведро под столом.
— Обоих!
Шульц непонимающе взглянул сначала на напарника, а потом на Агну Кельнер, которую ему не удалось вдоволь помучить, хотя он очень этого хотел, ведь это он привез ее сюда. Вздохнув, он наклонился к девушке, освободил ее от наручников и вывел в полутемный коридор, где она медленно начала оседать вниз, стоило ему отпустить ее.
— Этого тоже! Они не те!
Первый офицер пнул стул, на котором сидел Харри, и, сжав руки на груди, отвернулся к стене, а затем раздраженно взъерошил волосы, отчего идеальный пробор сломался и спрятался где-то в жидких волосах, слишком сильно смазанных бриолином. Шульц вытолкал Кельнера в коридор, и, быстро подхватив под руку Агну, поволок их к выходу из здания. Они долго шли — полутемными, темными и слишком яркими коридорами. Смрадный воздух кружил вокруг, создавая иллюзию свежести. Но, может быть, именно благодаря ему, Харри начал приходить в себя, с трудом поворачивая голову из стороны в сторону, и пытаясь понять, что происходит. Ему повезло больше, чем Агне, которую Шульц тащил с явным усилием, очень досадуя на это обстоятельство.
К тому моменту, когда гестаповец выбросил их на улицу, к Харри вернулось достаточно сил, чтобы попытаться смягчить удар, который Агна получила при падении на булыжную мостовую.
* * *
Говорят, страх удивительно действует на человека. Эдварду Милну было плевать на это, он не думал о том, что именно заставило его преодолеть собственную боль, и, сцепив от напряжения зубы, оторвать Элисон от стертых до блеска камней.
С разбитой головой и с залитым кровью лицом он тащился по алой от восхода улице, изредка посматривая на Эл, — в надежде, что она уже пришла в себя. Высокая арка между двумя домами отчего-то показалась ему знакомой, и он медленно повернул к ней. Время ужасно сжалось, убегая вперед, и на путь, который он раньше легко преодолел бы за минуту, сейчас ушло целых одиннадцать. Если быть точным, как самый настоящий немец, — одиннадцать минут и девять секунд: он проверил время по циферблату разбитых наручных часов. Наконец, полумрак арки вновь сменился светом красного солнца. Судя по тому, как медленно оно поднималось в небо, ему вряд ли хотелось светить в этот день над Берлином, который и без его багряных красок все больше становился красным.
У подъезда старого двухэтажного дома Харри встретился какой-то старик, всплеснувший руками при виде двух окровавленных фигур. Кельнер медленно поплелся по направлению к нему, губы его шевелились, пытаясь произнести «я — немец!»: он рассчитывал, что эта фраза успокоит встречных людей, и они помогут Эл, которая по-прежнему лежала на его руках без сознания.
Но вот старик развернулся, ударил толстой палкой в землю и нелепо побежал прочь. Из переулка выглянула женщина с пустой корзиной, но заметив страшную пару, скрылась в том же направлении, что и седой старик. Ноги Харри задрожали, и он резко упал на колени, склоняясь над Эл. Если бы не кровь и раны на ее лице, могло показаться, что она просто спит. Кельнер прижал девушку к груди, накрывая ее своим телом, и затрясся в беззвучных, страшных рыданиях.
Его слезы падали на лицо Элисон, отчего застывшая кровь на ее коже ожила, и мутными, розовыми каплями побежала вниз. Эдвард гладил девушку по волосам и лицу, раз за разом повторяя нелепые слова: «Прости меня… я… немец… помогите… прости… не-не…мец… по-мо...по-мо…».
Он не знал, сколько прошло времени — минута или целый день, когда женская рука опустилась на его плечо. Легкое прикосновение ничего не дало, — сгорбленный мужчина с грязными волосами не обратил на него никакого внимания. Тогда рука отпрянула от его плеча, отошла в сторону, быстро-быстро махнула, и вернулась к Милну. Какой-то мужчина подошел, и попытался забрать у него Эл, но Эдвард лишь в безумии вцепился в девушку, отказываясь разжать руки. И только после того, как женские ладони осторожно обняли его за голову, а голос несколько раз настойчиво и спокойно повторил, что перед ним — Кайла, и она хочет помочь ему и Агне, Эдвард Милн медленно расцепил пальцы, и разрешил мужу Кайлы забрать у него Элисон Эшби.
1) "Молчать!"
Ветер мягкими, незримыми волнами окутывал лицо Харри, когда он подошел к Дану и остановился позади него. Кельнер глубоко вдохнул свежий январский воздух и закрыл глаза, наслаждаясь тем, как раннее солнце прикасается своими лучами к его коже. Время замерло, и только робкие трели утренних птиц напоминали о том, что оно движется. Вот к резкому выкрику сойки присоединился хор каких-то птиц, голосов которых Харри не смог различить.
— Уезжайте.
Голос Дану прозвучал ближе, и Харри показалось, что муж Кайлы повернул голову вправо. Он нехотя открыл глаза, щурясь от ярких солнечных лучей.
— Я пришел сказать вам спасибо, Дану. Вам и Кайле. Если бы не вы…
— Уезжайте скорее! Вы здесь уже три дня!
Дану оглянулся на Кельнера, втаптывая в землю носком старого ботинка сигаретный окурок. Глаза его горели ненавистью, когда он перевел взгляд на блестящую обувь немца.
— …Ребенок не выжил бы.
Лицо Харри вытянулось, и он посмотрел прямо в темно-карие глаза Дану, чуть наклонив голову вниз.
— И Агна тоже. Спасибо вам, вы нас спасли.
— Велика радость, — спасать нацистов!
Мужчина зло смотрел на блондина, буравя взглядом его худое, осунувшееся лицо до тех пор, пока Кельнер сам не отвел глаза в сторону, может быть, пытаясь различить в дали линию горизонта. Потом тощий кивнул, будто признаваясь в чем-то, и к удивлению Дану, хлопнул его по плечу, наклоняясь к нему так близко, что сказанные слова были слышны только им двоим.
— Если мы такие нацисты, то почему мы попали в гестапо?
По лицу Харри расплылась широкая улыбка, чуть подрагивающая в уголках тонких губ, и Дану со страхом подумал, что о Кельнере у него сложилось верное мнение: псих — он псих и есть.
— Спасибо за помощь, Дану. Я ваш должник.
Немец снова, на этот раз еще сильнее, хлопнул мужа Кайлы по плечу, и пошел обратно, к их дому, в котором он и Агна провели несколько дней, приходя в себя после посещения тайной полиции.
Дану Кац обернулся, удивленно разглядывая высокую фигуру Харри. Пиджак, вычищенный Кайлой от крови, висел на его широких плечах, а из висков все еще сочилась кровь, проступая небольшими пятнами через белую повязку на голове. Кац вспомнил то утро, когда торопливо занес его маленькую жену в их бедный дом.
Она была без сознания, и при каждом шаге Дану ее тело подрагивало в его руках, словно фигурка обездвиженной куклы. Сначала ему не было жаль их, — он оставил бы их там же, где они и были, — прямо на зимней улице, в порывах холодного ветра, который становился сильнее с каждой минутой, и осыпал пешеходов крупными хлопьями снега. Но Кайла… Кайла была такой упрямой! И слишком доброй. Если бы не она, он оставил бы их на улице, честное слово! Дану и его жена были евреями, и неприятности им были не нужны. А чего еще можно ждать от этих нацистов? Дану долго препирался с Кайлой, прежде чем подойти к Кельнерам, у которых она работала уже несколько месяцев. И она не выдержала: закутавшись в платок, выбежала на улицу, и косо, под порывами сильного ветра, побежала к чему-то, лежащему на земле.
А потом звала его, — кричала и махала руками. Дану не хотел идти, — им не нужны неприятности, но Кайла! Она все стояла и стояла там, у какого-то черного мешка на земле, и звала мужа по имени, хотя ее голос уносил ветер, и его совсем не было слышно.
Чертыхнувшись, Кац все-таки вышел во двор дома, и быстрым твердым шагом пошел по направлению к Кайле. Она перестала звать его и махать рукой только тогда, когда увидела коренастую фигуру мужа прямо перед собой.
Короткая радостная улыбка на миг осветила ее смуглое лицо, и взглядом больших карих глаз она указала на мешок, который, — когда Дану наклонился ближе к земле, — оказался человеком. Дрожащий, в крови и слезах, он что-то судорожно сжимал в руках, и Дану все еще хорошо помнил, как из разбитых губ сгорбленного над землей «мешка», вместе с кровью и слюной вылетали какие-то звуки, похожие на бред сумасшедшего.
— По-мо-по-мо… а-а-а…
Кац не был сентиментальным, но даже ему стало не по себе, когда он услышал эти, едва похожие на речь, стоны. А когда, присев перед окровавленным человеком на корточки, он различил в его скрюченных до судороги руках тело девушки, Дану почувствовал, как глаза его от изумления становятся больше, и кожа на макушке отъезжает назад. Может быть, именно тогда ему стало жаль этих пришельцев. Может быть.
— Быстрее, быстрее!
Кайла торопила Дану, размахивая руками. Она явно хотела помочь мужу, но не знала, с какой стороны подступиться к троице: дрожащему блондину, чьи волосы и лицо были залиты кровью, девушке, лежавшей у него на руках без сознания и онемевшему в удивлении мужу.
Наконец, Дану пришел в себя, оглянулся по сторонам, придвинулся к блондину и попытался забрать у него девушку. Но это оказалось не так легко, как рассчитывал Кац. Мужчина, еще недавно издали показавшийся Дану мешком, с какой-то невероятной силой вцепился в ее тело, притягивая его еще ближе к себе, и закрывая собой от посторонних глаз.
Первая попытка.
Вторая.
Третья.
В растерянности Кац развел руками в стороны и посмотрел на Кайлу, жестом подтверждая, что он ничего не может сделать с этим раненным психом, который отказывался от какой-либо помощи, и только сильнее сжимался в нелепую фигуру, сидя прямо на земле. Если бы не Кайла. Дану молча наблюдал за тем, как она наклоняется к раненному, и что-то тихо шепчет ему в лицо. Блондин пытался отвернуться от Кайлы, но она поймала его голову, и, крепко обняв руками, вынудила посмотреть ей в глаза. Немец дернулся, как от удара, — Кайла задела его раны на висках, не нарочно причиняя ему острую боль, от которой незнакомого Дану мужчину пронзило, словно током.
Он слышал, как Кайла, испугавшись, назвала блондина по имени, извиняясь за то, что сделала ему больно, а потом быстро-быстро зашептала ему какие-то фразы, которые Дану не смог разобрать. Должно быть, они успокоили пришельца, потому что он наконец-то разжал руки, пусть медленно и нерешительно, но достаточно для того, чтобы Кац сумел забрать из его скрюченных пальцев девушку.
Взяв ее на руки, Дану удивился тому, какая она легкая. Скосив блестящие глаза на лицо девушки, которое, как и лицо незнакомца, было в крови, он быстро отметил про себя, что она рыжая, и еще скорее побежал к дому. Хотя, если честно, он не рассчитывал, что она жива. Почему он положил ее на большой деревянный стол? Дану не знал. Не мог объяснить. Наверное, сумасшествие пришельца передалось и ему. Он едва успел поправить голову девушки, как в доме послышались торопливые шаги Кайлы и тяжелые, шаркающие — того психа. Когда в ярком свете кухонных ламп показалась его высокая, тощая фигура, в голове Дану мелькнул вопрос: как в таком состоянии он смог дотащиться до них, да еще и с девушкой на руках?
Кац чуть не спросил об этом вслух, но Кайла громко крикнула, привлекая его внимание. Вода, полотенца, бинты! И следить за тем, чтобы раненный псих не потерял сознание.
Последним ему совсем не хотелось заниматься, и Дану застыл на мгновение, обдумывая, как лучше отказаться от этой обязанности. Но Кайла крикнула снова, и он побежал. Споткнулся на пороге кухни, и чуть не упал, но, ощущая страх жены, который явно слышался в ее голосе, Дану быстро выпрямился и убежал в комнату.
Когда он вернулся, блондин сидел на стуле, и, не шевелясь, в упор смотрел на рыжую девушку. Изредка он переводил взгляд на Кайлу и на быстрые, уверенные движения ее рук. Посмотрев на немца, Кац поразился взгляду его глаз.
Невероятно яркие даже в залитой электрическим светом кухне, они горели каким-то неистовым светом. Белки глаз неровно окрасились кровью, должно быть, от ран на висках, подумал тогда Дану, внимательнее рассматривая блондина, что-то беззвучно шептавшего перед телом девушки, которая все еще была без сознания. А потом случилось то, о чем предупреждала Кайла: псих начал терять сознание. Глаза его медленно закатились вверх, и он бесформенно осел на стуле, свесив руки вдоль тела. Кайла не заметила этого, слишком занятая осмотром рыжей, а Дану, опасаясь гнева жены, все-таки пришлось подойти к блондину, и встряхнуть его за плечи. Но это не помогло, — Кац только замазался кровью, когда от толчка голова психа повернулась в его сторону, оставляя на руке мужчины кровавый, смазанный след. Тогда Дану пришлось, тяжело вздохнув, наклониться над психом, и отхлестать его по щекам, на которых уже была видна мелкая, светлая щетина.
Если бы кто-нибудь спросил Дану, он ответил бы, что приводил нациста в чувство не без удовольствия: удары по щекам были достаточно резкими и сильными, чтобы после нескольких пощечин блондин смог очнуться.
— Слава богу!
Голос Кайлы, полный облегчения, разнесся по кухне легким эхо, и она с улыбкой взглянула на мужа.
— С ней все будет хорошо. И с ребенком тоже.
Кац недоуменно посмотрел на жену.
— С ребенком? Но… — он указал рукой на блондина, подтверждая, что здесь нет никакого ребенка.
— Дану, она беременна!
Кайла на мгновение закрыла глаза, прошептав, как показалось Дану, что-то вроде благодарности, и велела ему отнести рыжую девушку в их спальню. Снова взяв незнакомку на руки, Кац заметил, что ее запястья перевязаны, а рана над бровью обработана какой-то жирной мазью. Им очень повезло, подумал он, что Кайла — профессиональный врач. И пусть сейчас, благодаря новым порядкам, она не могла работать по профессии, и нанялась домработницей в дом этих богатых нацистов, врачом она была хорошим. И если Кайла сказала, что с девушкой все будет хорошо, значит, это правда. Дану осторожно уложил девушку на кровать и вернулся на кухню, где на этот раз его жена ухаживала за раненным психом.
Он знал, что блондину хорошо досталось еще до того, как Кайла сказала, что его голова сильно разбита. Женщина легко двигалась вокруг раненного, умело обрабатывая раны сначала на одном, а потом на другом виске. Когда Кайла уже заканчивала бинтовать голову блондина, который по ее словам был не кем-нибудь, а самим Харри Кельнером, в доме которого она работала, псих вдруг странно дернулся и посмотрел на Кайлу снизу вверх, долгим, неотрывным взглядом. Губы его что-то шепнули, и из внешнего угла глаза быстрой строчкой вниз побежала капля. Дану видел, как Кайла взглянула на блондина и прошептала:
— С ней все хорошо. Агна жива, и ребенок тоже.
Псих еще немного посмотрел на Кайлу, а потом закрыл глаза и улыбнулся, коротко кивнув. Лицо его сморщилось от боли, что могло значить, что адреналин, бушевавший в крови все последние часы, начал утихать. Кельнер явно хотел что-то сказать, но не смог, и, опустив взгляд вниз, удивленно рассматривал свои запястья, которые были перевязаны в точности так же, как у Агны. Закончив, Кайла положила на кухонный стол остатки бинта, и оглянулась на Дану, который и без слов понял все: белого психа нужно было отвести в спальню и тоже уложить на кровать.
Если бы не Кайла.
Крякнув под тяжестью Кельнера, который неожиданно для Дану оказался очень высоким, — хотя может быть, так ему показалось в сравнении с его собственным ростом, — Кац медленно повел его в направлении своей супружеской спальни.
Уложив длинного психа на белое покрывало, и поморщившись при виде двух перевязанных людей, неровно дышавших рядом друг с другом на их с Кайлой кровати, Дану вышел из комнаты и облегченно вздохнул. Странно, что он так устал, ведь на самом деле с того момента, как они обнаружили недалеко от дома эту пару, прошло чуть больше часа. Дану снова выругался, напоминая себе, что это не просто «пара», а пара нацистов. Стало быть, у бога все хорошо с иронией, если в Рождество он привел их сюда, в еврейский дом. И заставил Дану помогать им.
— Спасибо! — Кайла обняла и поцеловала мужа. — Они хорошие люди, поверь мне. Это о них я тебе рассказывала.
— Они нацисты! — прошипел Дану, и осекся, замечая печальный взгляд жены.
— Вряд ли настоящие нацисты берут на работу бедную еврейку в отличие от всех остальных, — Кайла строго посмотрела на мужа. — Не будь дураком, Кац. Если бы не они, мы бы давно умерли с голоду!
Она отошла от него, побросала в медицинский лоток инструменты, остатки ваты, бинтов и пластыря, и вышла из кухни, зло стуча каблуками туфель.
* * *
Никаких вещей у Харри и Агны с собой не было, а потому сборы были недолгими. Харри как раз подошел к полуоткрытой двери спальни, чтобы сообщить, что их уже ждет такси, когда услышал:
— Он знает?
Кельнер различил голос Кайлы, и остановился у двери, сам не зная, почему ждет от Агны ответа на вопрос, содержания которого он даже не понимает. В пространстве между дверью и косяком он увидел профиль жены — кончик носа, склоненный вниз и задорные темные кудряшки. Они затанцевали из стороны в сторону, когда девушка отрицательно покачала головой:
— Нет. Я боюсь сказать ему.
Согнув указательный палец, Харри звонко постучал в дверь и остановился на пороге. При виде Кельнера Кайла покраснела, и, опустив голову вниз, вышла из спальни так быстро, что ему даже не нужно было просить ее оставить его наедине с Агной, которая сидела все в том же положении, — задумчиво глядя на свои руки и полукружья глубоких следов, оставленных наручниками на запястьях. Под весом Милна кровать прогнулась, и Эл почувствовала, как его прохладная рука коснулась ее щеки.
— Все хорошо? — Эдвард говорил шепотом.
Он всегда так делал, когда они оставались одни. Элисон любила эти моменты: ей казалось, что у них есть общая тайна, известная только им двоим, и больше никто не способен ее разгадать. А еще она думала, будто шепот Эдварда защищает ее от всего зла, которое только может быть в этом огромном, странном мире. Но так было раньше, а теперь она едва удержалась, чтобы снова не заплакать, сама не зная от чего именно: физическая боль уже меньше тревожила ее, а сердце… В него она еще не заглядывала.
Элисон кивнула, и крепко обняла Эдварда. Вдох застрял в груди, и она никак не могла сделать выдох, — получалась только какая-то рваная, нервная судорога. И только когда Эд положил ей руку на спину, между лопаток, она смогла выдохнуть. И все-таки заплакать. Они надолго обняли друг друга, а потом Эдвард, немного отстранившись, положил руку на живот Эл, и осторожно погладил его. От этого прикосновения девушка сжалась, и, опираясь на руки, отодвинулась от Милна.
— В чем дело? Тебе больно?
Он отвел руку в сторону, рассматривая бледное лицо Элис. Кудряшки снова отрицательно заплясали в разные стороны. С улицы послышался клаксон такси, и Кельнеры, поправив покрывало на кровати Кайлы и Дану, вышли из спальни, снова поблагодарили хозяев, и выглянули из маленького дома на улицу, где их нетерпеливо дожидался таксист.
Дорога до Груневальда заняла около тридцати минут, — время, которого было вполне достаточно для разговора. Но сколько бы Милн не порывался задать Элисон мучивший его вопрос, он этого так и не сделал. Однако стоило им зайти в гостиную дома Кельнеров, как слова вылетели сами собой.
— О чем ты говорила с Кайлой?
Девушка медленно повернулась к Эдварду, и устало посмотрела на него.
— Мы можем поговорить позже? Я очень устала.
Милн знал, что Элисон говорит правду, и лучше было бы не настаивать на разговоре именно сейчас, но ему не терпелось услышать ответ. Она крепче взялась за витые деревянные перила лестницы и поднялась на первую ступеньку.
— Пожалуйста, ответь мне, — Милн подошел к девушке, и крепко взял ее за руку. — Я помогу.
— Ты и так делаешь для меня слишком много, Харри. Помогаешь, даже когда я не прошу о помощи. И я очень благодарна тебе. Но сейчас… — Элисон провела пальцами по вершине скулы Милна, — …ты не можешь помочь, мне просто очень страшно.
— Они не тронут тебя! — с жаром шепнул Милн, сжимая руку Элис.
— Ну да… — она печально улыбнулась, оглядываясь на входную дверь. — Знаешь, мне кажется, что чем чаще я встречаюсь с ними, тем меньше боюсь. Хотя… — девушка прикоснулась к следам на запястьях, выглядывающих из-под рукавов пальто. — Может, мне только так кажется. Но дело не в них, Харри.
Обескровленные губы Элисон сжались в одну узкую линию, и до слуха Милна донеслись быстрые слова:
— Я боюсь рожать ребенка здесь.
Все так же стоя на ступеньке лестницы, девушка вытянулась, словно кто-то невидимый приказал ей встать по стойке «смирно!», и робко посмотрела на изменившееся лицо Эдварда. Он замолчал на несколько долгих, длинных минут, медленно прошелся по гостиной, и вернулся к ней, остановившись перед ступенькой, на которой она стояла не шевелясь.
— Что ты говоришь, Агна?
Милн покачал головой из стороны в сторону, и его виски пробил новый приступ боли, от которого он болезненно поморщился, а между его бровями пролегла ломаная линия.
— Что ты говоришь? Как ты можешь?
Эдвард взял Эл за плечи, и с такой силой тряхнул ее, что голова девушки закачалась из стороны в сторону.
— Как ты можешь?!
От крика в ушах зазвенело, и Элисон едва не упала, вовремя успев схватиться за край широких перил. Эдвард смотрел на нее в упор и не видел ее лица. Взгляд голубых глаз, сгорая тем же огнем, что уже раньше испугал Дану, смотрел в открытую только ему даль, не замечая ни Эл, ни всего остального, что окружало Милна.
— Признайся, — его голос стал вкрадчивым, и по спине девушки пробежала волна страха. — Ты просто не хочешь ребенка от меня, да? В этом все дело?
Эдвард навис над Элисон, и рассмеялся, проведя большим пальцем по ее сухим губам.
— Считаешь себя лучше меня?
Девушка нервно вздохнула и покачала головой.
— Мне страшно рожать ребенка здесь, Харри!
Эдвард был так близко к ней, что Элисон не хватало воздуха. Как не хватало сил хотя бы на попытку отодвинуть его в сторону, чтобы вздохнуть полной грудью. Голова Эл начала сильно кружиться, и она заговорила очень быстро, чтобы успеть сказать все, что тревожило ее, о чем она постоянно думала, начиная с того момента, когда узнала о своей беременности.
— Если… родится мальчик, он попадет в «Груберюгенд», а если де-е-вочка… она… станет потом рожать арийцев, словно племенная кобыла, радуясь любому, кто ее захочет и-ли… изнасилует. Ты знаешь, каково это, Харри? Тебя когда-нибудь пытались изнасиловать? Н-не… не смотри на меня так, я знаю, что многие из них… они… — не ты. Они не защищают, Харри, они калечат и бьют. И… война…
Элисон облизала пересохшие губы. Взяв Милна за воротник пальто, она слабо потянула Эдварда на себя.
— А если будет война… как думаешь… наш мальчик выживет? А девочка? Что… что ты молчишь, Кель… что ты…
Элисон смолкла, и с трудом наступив ногой на следующую ступеньку, начала медленный и шаткий подъем вверх по лестнице.
* * *
— Черт возьми, чем они заняты, Баве?!
Начальник внешней разведки развел руками.
— На связь не выходят, информацию не предоставляют. Сколько они находятся в Берлине?
— Го-о-д. Почти…
Рид Баве прочистил горло и ослабил узел галстука.
— В этом месяце будет год, как Эдвард Милн и Элисон Эшби находятся в Берлине.
Генерал обвел покрасневшими от бессонницы глазами кабинет начальника и снова посмотрел на свои руки.
— И за этот год мы не узнали ничего ценного, Рид! Ни-че-го! Вот я и спрашиваю тебя: чем занимаются твои агенты под самым носом у Грубера?!
Голос начальника взревел, поднимаясь к высокому потолку кабинета.
— Мы урежем их содержание в Берлине. Да-а-а, да!
Хью Синклер утвердительно кивнул головой и довольно скрестил руки на животе.
— Сэр, это ни к чему не приведет, — начал Баве после небольшой паузы. — Финансово эти резиденты мало зависят от нашей разведки. Все, чем они обязаны нам, фактически сводится к тому, что перед поездкой в Берлин им был предоставлен в пользование так называемый Grosser Mercedes, анонимно заказанный нашими людьми у Daimler-Benz AG. Не скрою, автомобиль шикарный, в точности такой же, как у Грубера, но…— Рид развел руки в стороны, — это все. Оба резидента — из состоятельных семей, и…
Синклер торопливо взмахнул рукой, приказывая своему подчиненному молчать.
— Перед их назначением в Берлин ты сказал мне, Рид, — проницательные глаза сэра Хью обратились к генералу, — что Милн — один из твоих лучших агентов. Так что же он за все это время сообщил нам? Про девчонку я не спрашиваю, насколько я помню, это ее первое задание, смешно было бы ожидать от нее хоть что-то вразумительное.
Баве снова ослабил галстук и нервно сглотнул слюну.
— Довольно много, сэр. Я бы сказал, — с учетом нынешней обстановки, — очень много. Я напомню вам, что в первый же день своего пребывания в Берлине агенты столкнулись с министром Гирингом. Из их последующих донесений я делаю вывод, что они, вернее, Элисон Эшби… понравилась рейхсмаршалу, иначе бы он не стал приглашать их на вечера, где собирается только избранный круг Грубера. Может быть, это, как и предполагают сами резиденты, было сделано только ради забавы, но на сегодняшний день они лично знакомы с приближенными фюрера. Милн занимает должность сотрудника филиала фармацевтической компании «Байер», влиятельной в плане промышленности Германии настолько, что, по сути, ее руководители, вместе с Круппом и небольшим кругом других промышленников, диктуют Груберу свои условия. Милн также предполагает, что Карл Дуйсберг, глава «Байер», наряду с руководителями других компаний, спонсирует партию Грубера, НСДАП. Но власть его еще не настолько прочная, чтобы…
— Короче, Рид.
Синклер поднялся из кресла и отошел к высокому окну, из которого открывался великолепный вид на город. Но короче не получилось, потому что Рид Баве, — неожиданно для самого себя, — подробно рассказал сэру Хью Синклеру обо всем, что ему следовало знать относительно пребывания Милна и Эшби в столице Германии.
Кроме того, напомнил он, — будто это могло быть не очевидно для руководителя внешней разведки Великобритании, — разведчика, чья работа часто не бывает быстрой, нигде не ждут. Тем более его не ждут в Берлине, к которому сейчас, так или иначе, приковано внимание всего мира, хотя он, этот мир, старательно делает вид, что это совсем не так. Все это сказано к тому, заметил Баве, что присутствие иностранных нелегалов-разведчиков в нынешней Германии, а тем более с таким заданием, какое получили эти двое — попытка внедрения в ближайший круг Грубера, — чрезвычайно опасно, и не может быть выполнено «быстро» просто потому, что никто не может знать, насколько это в принципе возможно. У этих разведчиков, — подчеркнул Баве, указав на папки с личными делами Милна и Эшби, — все получается гораздо лучше, чем можно было бы ожидать, а потому сокращение бюджета, выделяемого на содержание агентов или, что многократно хуже, закрытие миссии и отзыв агентов из Берлина, лишит МI-6 одного из главных источников оперативной информации о том, что сегодня происходит в столице рейха.
Увлекшись рассказом, — что с генералом бывало не так уж часто, просто потому, что ему было скучно, а разведка и опасность, пусть и преследовавшие уже других, а не его лично, убивали эту скуку, — Рид Баве разложил перед адмиралом наиболее важные, на его взгляд, донесения агентов: описание верхушки Рейха, от Гиринга и до Гиббельса, вплоть до того момента, как последний, танцуя с Эшби на одном из вечеров, предложил ей работу в доме мод, который курирует его супруга, красавица Магда; вылазка Эдварда и Элисон в лагерь Дахау и далее, далее, далее, — вплоть до новой шифровки Милна, полученной сорок минут назад, в которой он сообщал, что в ближайшем кругу Грубера все последнее время обсуждаются одни и те же слухи относительно подготовки чрезвычайной, масштабной операции. Никаких точных данных у Милна еще не было, но слухи о ней повторялись разными людьми настолько часто, что, по его мнению, к ним стоило прислушаться.
— А этот лагерь, в Дахау. Что ты думаешь об этой информации?
Синклер подошел к Баве, и остановился перед ним, скрестив руки на груди.
— Возможно ли, чтобы лагерь, такой, как его описывают твои агенты, был создан за столь короткий срок? Менее чем за два месяца с момента прихода Грубера к власти. И насколько вероятно, что там происходит именно то, о чем они сообщают?
— Если честно, адмирал, сведения о лагере и мне кажутся преувеличенными. Власть может быть жестокой, но не настолько. Тем более, в целом у нас очень хорошие отношения с Берлином…
Баве вытянулся перед адмиралом и щелкнул каблуками.
— Да, да… ну что ж, у каждого бывают ошибки.
Глаза Синклера, похожие на глаза мудрой жабы, позволили себе немного улыбнуться.
— Мы оставим агентов в Берлине, но прежде вызови их сюда под предлогом того, что их миссия окончена. Посмотрим, что они еще нам расскажут, если их напугать.
* * *
Первая полоса «Фолькишер беобахтер» молчаливо поприветствовала Харри огромной фотографией фюрера и жирным готическим шрифтом, после которого следовала статья о том, как славно было отмечено первое Рождество третьего рейха.
— Je t’emmerde!
Фрау Кельнер смяла главную нацистскую газету и отшвырнула подальше от себя, вздрогнув при виде мужа.
— Обычно ты говоришь «merde!», — Кельнер рассмеялся.
— Тебе лучше знать, Харри.
Губы девушки растянулись в искусственной улыбке, она поднялась из-за стола, оглянулась по сторонам, и, убедившись, что Кайлы нет в столовой, наклонилась к нему.
— Ты отправил сообщение?
Голова Харри утвердительно опустилась вниз.
— Надеюсь, ты не сообщал о том, что я беременна? — Агна опустила ладонь на край стола и тяжело вздохнула. — Это мое личное дело.
— Нет… Твое личное дело?
Светлая бровь поднялась и застыла на занятой высоте.
— Да! Мое личное дело, Кельнер. Но спасибо, что не сообщил. И да, в следующий раз, когда будешь отправлять информацию в Центр, потрудись сказать об этом мне.
Девушка начала обходить стул, на котором сидел Харри, когда он резко схватил ее за руку.
— Что это значит, Агна? Что ты придумала?
— «Что это значит, Агна?», «Как ты можешь, Агна?», «Что ты говоришь, Агна?», «Считаешь себя лучше меня, Агна?», «Что ты придумала, Агна?»
Фрау Кельнер попыталась вывернуть руку из хватки мужа, но у нее ничего не вышло, и она звонко рассмеялась.
— Слишком много вопросов, герр Кельнер, но… — она с улыбкой наблюдала за тем, как Харри быстро поднимается и снова, как несколько дней назад, нависает над ней. — … у тебя ничего не получится, я тебя не боюсь.
Резко опустив локоть вниз, Агна освободилась от руки Харри, и вышла из дома.
Глаза Кельнера сузились. От удара по столу фарфоровый сервиз задрожал и зазвенел на разные голоса, а Харри молча наблюдал за тем, как Агна садиться в машину и выезжает на дорогу.
Рабочий день Агны в доме мод, впрочем, как и день Харри на заводе «Байер» прошел до идиотизма нормально. Каждый из них придумал несколько причин для своего недавнего, трехдневного, отсутствия. Но на заводе, похоже, всем было на это плевать, — подчиненный Кельнера встретил Харри так же, как и всегда: пожав руку, он коротко и четко доложил ему о том, что поставки героина и аспирина в аптеки города планируется увеличить. Далее следовал подробный и скучный доклад о повседневных рутинных делах, и беспокойство Кельнера о том, почему его отсутствие было воспринято так спокойно, если не исчезло вовсе, то, по крайней мере, стало меньше.
И пока он выслушивал монолог о том, какие бумаги ему следует подписать в первую очередь, его жена, утверждая окончательные эскизы новой, весенне-летней коллекции для женщин, с удивлением отметила про себя, что даже Магда Гиббельс не выказала никакого недовольства по поводу ее отсутствия в модном доме.
Наоборот, при виде Агны супруга крохотного министра улыбнулась, — видимо, настолько доброжелательно, насколько позволял ее характер, но ее глаза по-прежнему остались «ледяными», — как однажды о них сказал какой-то эсесовец. В конце дня, привычно обходя свои владения, Магда спросила у Агны, все ли с ней в порядке. И, получив утвердительный ответ, кивнула, возвращаясь в кабинет. И когда Элисон уже показалось, что все события этого дня исчерпаны, а впереди ее ждет только поездка в Груневальд и вкусный ужин, приготовленный Кайлой, она столкнулась с Гирингом: на том же самом месте, что и в прошлый раз.
Правда, теперь она успела сесть в салон «Хорьха», но при виде тучной фигуры поднялась с сидения, придерживая рукой дверцу автомобиля. Один только взгляд на министра, медленно подходившего к ней, заставил ее нервничать. Ладони Агны вспотели, сердце забилось гулко и часто, но уличные фонари все еще горели очень ярко, и когда Гиринг остановился напротив нее, она еще успела подумать, что, может быть, на их свет не стоит слишком рассчитывать.
— Добрый вечер, фрау Кельнер.
Гиринг, по своему обыкновению, церемонно произносил слова. В вечерней темноте Агна видела лишь половину его лица, но, — она была уверена, — глумливая улыбка, как и прежде, исказила в этот момент его тонкие губы.
— Приношу вам мои извинения.
— Ваши… что?
Голос девушки прозвучал хрипло, может быть, от огромного удивления. В конце концов, не каждый день от учредителя тайной полиции можно услышать извинения, по крайней мере, словесные. Козырек форменной фуражки Гиринга блеснул в луче электрического света, и Агна почувствовала, как по ее щеке проходит волна от его дыхания.
— Мне сказали, вы были в гестапо. Прошу извинить моих ребят, они ошиблись. У них сейчас очень много работы.
Улыбка, показавшаяся на рыхлом лице министра, должно быть, могла обворожить многих женщин. Тех, кто на многочисленных шествиях и парадах, захлебываясь слезами и настоящими истериками, вытягивал руки вперед, — в нацистском приветствии, и в надежде на то, что, может быть, именно сегодня им удастся прикоснуться к одеждам того, кого они боготворили. Агна не нашлась с ответом и только коротко кивнула, делая шаг к открытой дверце «Хорьха». Гиринг смерил ее довольным взглядом, прикоснулся к краю козырька, и, по своей привычке, исчез в темноте. Фрау Кельнер долго вглядывалась в вечернюю темноту, — туда, куда ушел рейхсмаршал.
Волна судорог, начавшись с лодыжек, прошла по ее ногам, выкручивая мышцы. А потом резко заболел живот, и Агна, вскрикнув, упала на водительское сидение.
* * *
— «Ты должен быть дома!»
Харри влетел в квартиру Ханны так быстро, что она едва успела отойти в сторону.
— «Он готовит что-то страшное». Так ты сказала в прошлый раз. Почему?
Кельнер резко развернулся, рассматривая лицо Ланг.
— Я… я не одна, Харри!
Блондинка плотнее запахнула шелковый халат с рисунком из темно-розовых пионов, и испуганно посмотрела на бывшего любовника.
— Не ври мне. Ты слишком долго шла к двери. Что вполне достаточно для того, чтобы успеть поправить волосы и накрасить губы.
Мужчина с ухмылкой наблюдал за тем, как наигранный страх расслабляет лицо красавицы, и на ее губы наползает улыбка.
— Так что все это значит? Кто «он» и что «страшное» он готовит?
Вместо ответа Ханна подошла к Кельнеру и прикоснулась к его вискам.
— У тебя кровь. Что случилось?
На этот раз испуг блондинки выглядел убедительнее. «Какая разница, настоящий ее страх или нет?» — подумал Харри.
— Что тебе известно?
«Я тебя не боюсь!».
Ханна медленно зашагала по комнате, зная, что Кельнер внимательно наблюдает за ней, и мысленно радуясь тому, что сейчас, — она это знала, — она выглядит очень соблазнительно. Помедлив несколько минут, Ланг вернулась к Харри, медленно прошептав ему на ухо:
— Па-па.
Кельнер непонимающе взглянул на Ханну.
— Ну же, Харри! Теперь ты и загадки разучился отгадывать?
Глаза Ланг горели насмешкой.
— Мне, как ты говоришь, известно кое-что, как раз то… — ее пальцы медленно развязали пояс халата, а потом пробежали по груди Кельнера, быстро снимая с его плеч пальто и плотный пиджак, остановились на шее и снова побежали вниз, расстегивая маленькие белые пуговицы рубашки, — …что тебе нужно. Ты знаешь, кого называют «папой»?
Ханна рассмеялась, глядя на замкнутое лицо Харри.
— Хочешь, я дам тебе подсказку?
Ее поцелуй оставил на шее Кельнера красный след от помады, и она довольно улыбнулась, когда услышала хриплое:
— Хо… хочу.
— Там я ношу белый халат, а «папа»… придумал все, что там есть.
«Мне страшно рожать малыша здесь, Харри!».
— Лагерь Дахау? Эйке? — Кельнер отодвинул от себя Ханну, приподнимая ее лицо за подбородок. — Это он готовит что-то страшное?
Красавица кивнула, снова обнимая Харри.
— Им кое-кто мешает, мой дорогой. Им мешает Рем… и они готовы его убрать.
Ханна в замешательстве посмотрела на мужчину, и снова улыбнулась.
— Но не будем о грустном. Это их игры, пусть делают, что хотят. А я буду делать то, что хочу я.
Ее рука легла на обнаженную грудь Кельнера и начала медленно спускаться вниз.
«Я боюсь рожать ребенка… это мое личное дело!».
— Я хочу тебя. А она… Она тебя хочет?
Ланг расстегнула пояс его брюк и страстно поцеловала Харри в губы.
Нет.
Харри обнял Ханну и ответил на ее поцелуй.
Ты должен быть дома!
Ступеньки лестницы скрипнули под его тяжелым шагом, и затихли. В правой руке Эдварда узким лучом засветился карманный фонарь. Ступая как можно тише, он обошел все комнаты второго этажа, начиная со спальни. Ничего. И никого. Его Эл исчезла. Улица Принца Альбрехта, 8.
Где Эл?
Человек в черной форме, проследив за взглядом блондина, подошел к стулу, на котором сидела Элисон, и ударил коленом по его спинке, отчего она странно выгнулась вперед, неестественно выгибая спину девушки. Скованные за спиной руки Эл напряглись еще сильнее, до предела. Из ее груди вылетел хрип.
Ну да, а я — сам Гиринг!
Schweigen! Schweigen! Schweigen!
Это похоже на клятву, не так ли?
Агна делает глубокий вдох и закрывает глаза.
Посмотри, посмотри на меня! Посмотри на меня своими глазами!
Нервное дыхание Гиббельса обдает ее жаром, а влажные поцелуи оставляют на коже слюну. Не веря собственной удаче и совершенно обезумев, он пытается руками, взглядом и губами охватить как можно больше тела Агны, и от дикого вожделения его трясет, словно в лихорадке. Вот Агна открывает глаза и смотрит вверх, вытягивая шею. Горячая слеза катится по ее щеке и падает вниз. В приступе страсти карлик сжимает ее лицо обеими руками, с силой опускает вниз вздернутый подбородок… Ее спина неестественно выгибается вперед, Эдварду остается до нее пара шагов, он хватает Гиббельса за ворот пиджака, стягивая его на худой шее министра… Жажда душит Милна, как удавка. Тело Себастьяна Трюдо скорчено судорогой на холодном песке.
Ты хочешь жить, мальчик?
Плеть в руке Гиринга заносится над ним, но он не чувствует удара. Только кивай головой Себ, только кивай головой. Рейхсмаршал смотрит на него черными глазами и безумно хохочет, а там, справа от него, они мучают Эл. Себ переводит взгляд на Гиринга, — по лицу министра потоком бежит кровь, марая парадный, белый мундир.
Его любимый, такой никто еще не носил!
Женщина опускается на колени перед маленьким Херманном, ласково гладит его по волосам.
Мой дорогой сын станет великим человеком. Или великим и добрым, или великим и злым.
Гиббельс склоняется над обнаженной Элис. Его Элис!
Эдвард тянет к ней руку, но горло ссохлось от жажды, язык отказывается ему служить.
Хрип-хрип-хрип…
Ты хочешь жить, мальчик?
Концом свернутой плети Гиринг приподнимает за подбородок голову Себастьяна Трюдо.
У тебя кровь, что случилось?
Эдвард прикасается к разбитым вискам. Слишком много крови! Она бежит красной волной на его руки, на холодный ночной песок… Яркий прожектор бьет потоком света ему в глаза. Справа от него в голодном безумии трясется овчарка.
Что ты хочешь, мальчик?
Он хочет, чтобы Эл отпустили.
Ответ неверный, Эдвард Милн. Скажи мне лучше, а она тебя хочет?
Светлые волосы Ханны Ланг выглядят совсем белыми в свете лагерного прожектора. Она смеется, глядя на Кельнера и на его потрескавшиеся от жажды губы.
«Я боюсь, Харри! Ты хочешь воды?Ты должен быть дома!».
Ланг склонилась над ним, закрывая обзор.
— Ты хочешь воды?
Кельнер рывком садится в постели, одним резким движением прижимая Ханну за горло к белой простыни. Она хрипит, бьется в испуге, и он ее отпускает.
— Харри, что с тобой?!
Ее глаза блестят, она ничего не понимает, только пугается, и молча наблюдает за тем, как он быстро поднимается с постели, натягивает брюки и рубашку, поднимает с пола пиджак, пальто, ботинки. Хлопок по карманам, кивок светлой головы и, несколько секунд спустя, — шум отъезжающей от дома машины.
* * *
— Автомобиль фрау обнаружили недалеко от нашей больницы. Мы предполагаем, что часть пути она смогла проехать самостоятельно, но когда фрау Кельнер стало совсем плохо, и она уже потеряла сознание, ее заметил мужчина. Он и привез вашу жену к нам. Сейчас она вне опасности, но, к нашему огромному сожалению, ребенка спасти не удалось. Просто удивительно, как она смогла сама…
Харри Кельнер с трудом понимал слова врача. На дорогу от дома Ханны Ланг до Груневальда у него ушло два часа и сорок пять минут. На пять минут меньше, чем в прошлый раз. И точно так же, как в прошлый раз, гостиная в доме Кельнеров оказалась пустой, — только на блестящем столике у двери лежала записка от Кайлы: «Фрау Агна в «Шарите», я еду туда». Написано торопливо, с ошибками.
Заводя «Мерседес», Милн посмеялся над собственной педантичностью: даже сейчас его наблюдательность, заточенная годами разведки, продолжает верно служить ему. В больнице он встретил плачущую Кайлу Кац. Это нормально, напомнил он себе, глядя на ее опухшее от слез лицо. Нормально, когда люди плачут, — они плачут, когда им страшно. Кайла плакала. А Элис научилась этому только недавно. Она сама сказала об этом однажды, и улыбнулась, все еще шмыгая носом.
Кайла рассказала, что пришла к ним домой раньше обычного, — трамвай приехал в Груневальд необычно быстро, и, чтобы не ждать на улице, она позволила себе воспользоваться давним предложением Агны, и зашла в дом. Потом зазвонил телефон, усталый мужской голос со вздохом сообщил ей, что фрау Агна Кельнер поступила в больницу «Шарите» в тяжелом состоянии. С тех пор прошло двенадцать часов.
И вот теперь врач, может быть, тот самый, что звонил к ним домой, сказал Харри, что ребенок погиб. Но Эл жива.
Мозг Милна работал против него. Так, сопоставив события минувших вечера и ночи, он с детальной педантичностью сообщил Эдварду, что, по его расчетам, в то время, когда
Элисон стало плохо, он занимался сексом с Ханной Ланг.
— Je t’emmerde!
— Простите?
Врач вопросительно взглянул на Харри.
— Герр Кельнер, вам плохо?
Нет, нет, заверил его Харри, — с ним все в порядке. Он просто изменил той, которую любил, потерял ребенка и едва не потерял ее. Но с ним все в порядке, ведь он все еще хороший разведчик. С новым заданием от Баве в кармане, которое он успел расшифровать перед тем, как поехал сюда: «Приезжайте в Лондон. Срочно».
Элисон вздрогнула и проснулась. Солнечные лучи резко светили в узкое больничное окно, заставляя ее открыть глаза и осмотреться: белые стены, белый потолок.
— Видишь, ничего необычного… — тихо прошептала она сама себе, снова закрывая глаза.
Странные сны не оставляли ее ни на секунду, и у нее не было сил с ними бороться. Рука Эл скользнула вниз, упираясь во что-то. Нужно было снова открыть глаза. Поморщившись от боли во всем теле, Элисон медленно повернула голову влево. В этой стороне солнца было меньше, и она облегченно вздохнула, ускользая от лучей, и чувствуя, как они, не дотянувшись, оставляют ее в покое прохладной тени.
С третьей попытки ей удалось сфокусировать взгляд на стенах палаты, неотличимых друг от друга. Если бы не дверь, которая, впрочем, была такой же белой, она не знала бы, как отсюда выбраться. Но как она попала сюда? Голова заболела, стоило ей начать вспоминать о том, что было до того, как она оказалась в больничной палате. Пустая попытка. «Лучше просто осмотреться», — подумала она. Ее взгляд остановился на спящем Милне. Он заснул сидя на стуле и наклонившись вперед, — положив голову на кровать, рядом с ней. Элис осторожно улыбнулась, надеясь, что хотя бы это движение не вызовет в теле ноющей боли, и погладила Эдварда по волосам, долго наблюдая за тем, как светлые на кончиках, они постепенно меняют тон, темнея у корней и напоминая оттенком полевой мед. Эл наслаждалась ощущением того, как они мягко скользят сквозь ее пальцы. А потом она посмотрела на узкую, бугристую полосу.
Шрам.
Едва касаясь, она осторожно очертила его пальцем, ведя от окончания шрама — к виску, туда, где он когда-то начался, и почти вплотную подходил к новым ранам Милна, оставшимся после допроса в гестапо. Следы от кастета заживали быстро, но все еще немного кровоточили, частично покрытые багровой коркой. Медленно наклонившись вниз, Элис поцеловала шрамы, и откинулась на подушки, снова закрывая глаза, — голова даже от небольшого наклона сильно закружилась, а низ живота стянуло спазмами, словно железными обручами, снова опрокидывая ее в ноющую, медленную боль.
…Это все были глупости, — она и сама не понимала, почему так ведет себя с Эдвардом, и когда через несколько минут после его ухода в дверь постучали, Элис радостно подумала, что это он: вернулся, и передумал уезжать в Рождество. Быстро повернув ручку на входной двери, Эл застыла, не успев ничего сказать. Зато двое мужчин в черной, красивой форме, похоже, чувствовали себя прекрасно, когда, оглядев ее с ног до головы, медленно прошли в дом, и остановились так близко от нее, что в ярком свете электрических ламп она не могла четко рассмотреть их лиц. Вместо того, чтобы ясно осветить их, лампы скрадывали углы и овалы гестаповских ищеек. Так, у одного из них, черные провалы, казалось, высосали левый глаз и всю левую половину лица, а у второго закрались под нижние веки, высвечивая их чернотой, и делая глаза такими же черными.
Это заняло всего несколько секунд, но ни тогда, ни потом Эл не могла сказать, почему она так четко запомнила именно этот момент. Может быть, размышляла она, это потому, что в следующий миг все изменилось: и ее, резко развернув лицом к стене, обыскали?
По крайней мере, так это назвали они. Элисон успела заметить, как красиво переливаются серебряные нашивки на их черной форме, а потом, все еще удивляясь этому дикому сочетанию зла и красоты, почувствовала, как руки одного из гестаповцев скользят по ее телу, задерживаясь на груди и талии.
— Дай я!
Голос прозвучал совсем близко, и руки другого полицейского ощупали ее тело, скользя и поднимая темно-синюю ткань платья. К горлу подступил ком, и Элис попыталась сглотнуть его как можно тише, ничем не нарушая почти полную тишину, в которой слышались только движения мужчин, скрип сапог и едва различимое шуршание от соприкосновения мужских рук с ее платьем, на котором не было ни одного кармашка, а единственными «потайными» отделами можно было считать разве что белый кружевной воротничок с брошью у длинной шеи и такие же манжеты на рукавах.
Она хорошо помнила, как ее снова ловко повернули, и сально усмехаясь в испуганное лицо, бросили в нее пальто, резко сорвав его с вешалки, отчего петля на воротнике порвалась, и оно упало к ногам Эл черной, бесформенной лужей. Она ничего не спрашивала. Это было ни к чему, и, к тому же, огромный страх, скрутивший горло, и, — как казалось Эл, — все внутренности, не давал ей говорить. Страх проговориться. Сказать не то. Быть понятой не так.
Девушка с трудом надевала пальто, долго путаясь в рукавах, чем изрядно разозлила поздних гостей. Не выдержав, один из них шагнул к ней и ударил по лицу. От тяжелой пощечины левая половина лица разгорелась огнем, на глазах выступили слезы, но Эл выдержала первую волну боли, запрещая себе прижимать ладонь к щеке: ей казалось, что так она покажет им, что ей больно, даст повод для смеха. Поэтому она, смирив желание прикоснуться к щеке, только посмотрела на ударившего ее мужчину блестящим взглядом, и крепче сжала губы.
— Пойдем, некогда! — крикнул второй, и Агну Кельнер выволокли из дома, предварительно защелкнув на ее запястьях наручники.
Этот щелчок от двух замков она слышала и сейчас, беспокойно мотая разгоряченной головой из стороны в сторону, в больничной палате «Шарите». Потом ее, и еще нескольких людей, бывших вместе с ней в кузове грузовика, долго везли в главное здание гестапо.
Элис видела, как от тряски на булыжных мостовых люди болтались по кузову из стороны в сторону, и была рада тому, что, сидя спиной к окну, она успела зацепиться пальцами за какую-то железную перекладину, которая теперь не давала ей пораниться. Да, перехватывать поручень приходилось очень часто, — судорожно и быстро, больно выворачивая в сторону правую руку, но Элисон считала, что ей очень повезло, и всю дорогу старалась думать только об одном: они успели схватить Харри Кельнера, или он уехал до их прихода?..
* * *
— Какая ты глупая, Элисон Эшби! — со смехом сказала высокая темноволосая девочка, вырывая у одной из одноклассниц, окруживших их, тетрадь, в которой были личные записи Эл.
— Только послушайте!
Скривив мокрые губы, тощая громко произнесла: «А потом он меня поцеловал! Знаю, это такие глупости, но все теперь кажется таким невероятным… Может быть, он тоже меня любит?». От хохота волосы на голове одноклассницы Элисон, — которую про себя она называла Шваброй,— упали назад, за спину своей хозяйки.
Благодаря эху, в коридоре с высокими сводами колледжа Челтенхэм, раздался оглушительный смех семи девчонок. Одернув форменную клетчатую юбку, Элисон сделала новую попытку вырвать из костлявых рук Швабры свой дневник, но ей это не удалось. Зато веселье одноклассницы стало еще громче.
— Смотри, Марта, она хочет забрать у меня свой дневник!
Швабра помахала тетрадью перед лицом Элисон, злорадно улыбаясь, и прекрасно зная, что невысокая Эшби не сможет ей помешать.
— Ты правильно сделала, когда взяла у нее эту тетрадь. Теперь наша милая Элли будет знать, что доверять никому нельзя… Да и кому можно доверять, если тебя никто не любит? Правда, мисс Эшби, психованная сиротка? Родители умерли, брат бросил, а теперь и Эдвард! — Темноволосая произнесла это имя с приторным придыханием, видимо, претендуя на искусную актерскую игру. — Ты, правда, думаешь, — Швабра скривилась, наклоняясь к Элисон и высовывая язык изо рта, — что тебя может кто-то любить?
Эшби схватила одноклассницу за длинные распущенные волосы, и со всей силы дернула вниз. А когда Швабра, ошалевшая от боли и неожиданности, начала клониться в ее сторону, рыжая девчонка толкнула ее коленом в живот.
— Дрянь! — Эшби с ненавистью посмотрела на Швабру, скрюченную от боли.
Обведя бешеным взглядом всех ее подруг, Элис добавила:
— Не смейте меня трогать!
Клетчатая юбка задела Швабру по лицу, и исчезла из поля зрения. Маленькие каблуки черных лаковых туфель отдавались гулким эхом в ушах онемевших девчонок: оно стучало дробью все время, пока Эшби грозно шагала по галерее, сжав в руке тетрадь с голубой обложкой.
Оказалось, она провела в подвальной камере гестапо четыре часа: Эл помнила, как один из тех двоих, что забрали ее из дома, сказал об этом.
Шульц.
Это он с усмешкой смотрел на нее. Это он бросил в нее пальто. Это он дал ей пощечину, от которой на щеке Эл остался четкий след от его толстых пальцев. Это он запер ее в камере. Хотя в этом не было особой необходимости: люди, с которыми она оказалась заперта в душном подвальном квадрате, были больше похожи на бесплотные тени, чем на тех, кто способен устроить мятеж и выбраться на свободу. Новенькие, как она, еще пытались быть поплотнее, оставаться людьми, но их спесь быстро сбивали. Палками, плетью, ремнями.
В соседней камере вместо стен была решетка. Она позволяла не только хорошо слышать, но и видеть то, что происходило за ее толстыми, железными прутьями. Тактика устрашения гестапо. Человек на стуле. Его руки связаны так же, как скоро будут связаны руки Агны Кельнер, — за спиной. Чтобы мог дернуться, но — не вздохнуть. Вместо голоса — бормотание воды в горле, и отчаянные попытки избавиться от железной воронки, вставленной в рот. Человек захлебывается и шипит. Пытается что-то сказать, но на самом деле только стонет и мычит.
Когда Элис, неотрывно следившую за ним воспаленными глазами, выталкивают из камеры, он все еще жив: она слышит, как он хрипит, пытаясь увернуться от воды. Но вот цвет стен постепенно меняется, — от темных, много раз крашенных, — и все-таки тайно-кровавых под многими слоями краски, — они становятся сначала синими, а потом невероятно белыми. «Значит, здесь не убивают…» — скользит в мыслях Эл.
Агну Кельнер приводят в кабинет, сажают на стул, пытаются завести скованные руки за спину. Но тот, кто позже назовет себя «Гирингом» и будет много смеяться, — «прямо как Швабра», — крикнет на Шульца и добавит:
— Не ломайте руки! Она нам нужна!
«Вы с ума сошли, юнкер?» — звучит в ее памяти голос Эдварда.
Элисон морщится, пытаясь вспомнить, когда он сказал эту фразу. Ну, конечно. Дахау. Она видела, как он испугался, когда охранник замахнулся на нее, и с какой силой он вцепился в руку мальчишки. Еще чуть-чуть повернуть, и… «Гиринг» ударил ее, рассекая бровь, и теплая кровь невесомо побежала вниз, красиво приземляясь каплями на белый воротник платья.
Кап-кап.
Как, как?
— Как вас зовут?
«Министр» ходил взад и вперед как метроном, — так громко стуча сапогами, что ей хотелось попросить его сесть. Она как раз собиралась сказать ему об этом, как дверь открылась, и в затхлый смрад кабинета ворвался воздух из коридора. Эл постаралась повернуть голову влево, ближе к зазвучавшим голосам. Опять не получилось. Почему он ей не верит? Агна, Агна, Агна. Она уже столько раз назвала свое имя, и так громко, как только могла. Слушая свой голос, говорящий про Агну-Агну-Агну, Элис мысленно хвалила себя: только Агна. Эл нет. Эл никто не любит.
Они, одноклассницы, долго дразнили ее. Как тогда, в галерее. Всегда примерно также: иногда больше, иногда меньше. «Психованная сиротка». Эл казалось, что это слишком длинно для удачного прозвища. То ли дело «Швабра»: коротко, и сразу понятно, о ком речь. Они не пытались с ней дружить, и она долго этому удивлялась — «почему?», «за что?» — такие вопросы она снова и снова задавала себе, гуляя в свободное время по галереям и паркам, разбитым рядом с колледжем. Сначала ей казалось, что с ней не дружат, потому что она из богатой семьи. Потом, — потому что она хорошо учится. Или потому, что все вокруг часто говорили ей, что она очень красивая.
— Ты странная, Эшби. Психованная сиротка, вот ты кто! Никто не хочет с тобой дружить!
Тогда Швабра выхватила у нее из рук новый учебник, пытаясь разорвать его. Но прежде, чем ей это удалось, Элисон схватила с парты ее книгу и ударила одноклассницу по голове.
— Эшби! Вон из класса!
Учительница развернула указку в сторону Эл, словно длинный деревянный перст, и держала ее так до тех пор, пока Элисон, зло сверкнув зелеными глазами, не ушла.
— Дрянная девчонка! — раздалось ей вслед.
Однажды Эл перестала их слушать. Время шло, а они говорили одно и то же, редко меняя даже интонации, с которыми выкрикивали оскорбления в ее адрес. И все было бы хорошо, ведь чем старше становилась Элис, тем более замкнутой, и вместе с тем независимой, она росла. Но… «психованная сиротка!». На «психованную» ей было плевать, — она и сама знала, что у нее взрывной характер, который, впрочем, служил ей отличной защитой от нападений: хоть сверстников, хоть старших, — неважно. Она не боялась отвечать взрослым на равных, она даже перестала бояться Швабру. Но она боялась одиночества. Может быть, это было странно — быть всегда одной, и бояться этого, и все же…
«Гиринг» уже дважды ударил Эдварда, а она все еще была без сознания. Ну же, Эл! Где твои силы? Почему ты такая слабая? Вынырнув из обморока, она увидела комнату. А чуть ниже, там, дальше — Эдварда. Может быть, он тоже меня любит? Какая ты глупая, Элисон Эшби! Она повернула голову влево, чуть-чуть, но достаточно, чтобы видеть, как шевелятся в шепоте его губы. Что ты говоришь, Эд? Скажи громче, я не слышу. Горячая слеза опять бежит по лицу. Эл, ну же! Сколько можно плакать? Перестань, иначе он подумает, что ты плакса!.. «Так оно и есть, я — плакса…».
Почему ее уносит от Эдварда? Это река? Она тонет? Чьи-то руки опускают ее вниз, и внезапно тело расслабляется. Странно, что нет больше ненастоящего Гиринга или Шульца, — куда они ушли? Она смогла сбежать? Жар электрических ламп. Это хуже воронки с водой?
...Она просыпается от прикосновения. Белая рука гладит ее по щеке. Когда взгляд проясняется, она снова видит перед собой Эдварда, и слабая улыбка растягивает ее губы в стороны. Почему-то он весь — белый. Кроме белых волос — белая голова, а теперь и руки. Не плачь, Эдвард, все хорошо. И все было хорошо: они остались целыми, вернулись домой. Да, глупо поссорились, но она не хотела причинять вред ребенку.
Вред? Рука Эл опускается на живот. Перед тем, как заснуть под наркозом, она смотрит на врача. Он старый и сморщенно-белый. Совсем седой. А глаза — удивительные. Добрые и мудрые. Глаза, которые говорят то, что пока не могут произнести губы. Вот и он, седой лунь, горько качает головой, когда медсестра спрашивает его про их малыша. Медленный поклон над Эл, и перед тем, как она закроет глаза, Элис еще успевает заметить, как светло-голубой глаз доктора подергивается слезой. Как морская волна. Интересно, знает ли он, что седой лунь — это хищная птица? Эл знает. Знает, что малыш не выжил.
Неужели он плачет из-за меня?
— Какая ты глупая, Элисон Эшби! Тебя никто не любит, это ты во всем виновата!
Элисон согласна. Она кивает головой и закрывает глаза.
— Харри? — Агна остановилась на нижней ступени лестницы, удивленно глядя на мужа. — Что ты делаешь?
Плечи Кельнера чуть вздрогнули при звуке ее голоса. Обернувшись, он с улыбкой ответил:
— Я думал, что успею до того, как ты спустишься вниз.
Внимательно осмотрев новую входную дверь, которая теперь украшала их дом в Груневальд, и проверив замки, он поднялся с колен, поправил рукава рубашки, подвернутые до локтей, и подошел к Агне.
— Не совсем такая, как в твоей лондонской квартире, но тоже с витражными стеклами. И замки. Новые, мне сказали, очень надежные.
Девушка улыбнулась, разглядывая красивое лицо Харри.
— Выглядит так, словно узор рисовали эльфы. Сначала пианино, сделанное на заказ, теперь витраж… герр Кельнер, вы странно себя ведете. Что происходит?
— Я… — Харри посмотрел вниз, избегая взгляда Агны. — Я хотел сказать тебе… — отстранившись, он положил руки на плечи ее плечи, снова и снова нервно проводя большим пальцем по бархатному рукаву ее платья.
— Что? Что случилось?
«Я переспал с Ханной», — фраза мелькнула перед мысленным взором Милна, и убежала, обжигая его стыдом. Натянуто улыбнувшись, Кельнер проговорил вслух:
— Ночью ты опять говорила во сне.
Агна опустила голову вниз.
— Что я сказала?
Теперь она отклонилась назад, сжимая губы в жесткую линию.
— Агна, это не твоя вина.
— Харри, что я сказала?
Голос Милна прозвучал нехотя, совсем тихо:
— «Это я его убила».
Помолчав, он горячо сказал:
Ты ни в чем не виновата, слышишь? Ни в чем! Это просто случай!
— Случайностей не бывает, Харри. Я боялась его появления, и потому он умер. Это я виновата. Прости меня!
— Нет! — Кельнер упрямо затряс головой. — Мы говорили об этом столько раз! Это не твоя вина! Не твоя!
Обняв ее, он нервно выдохнул, крепче сжимая Агну в объятьях. Так, словно хотел собрать ее в одно целое, и цельность эта зависела лишь от силы его рук. Кайла, выглянув из кухни, смущенно посмотрела на них, и, встретившись взглядом с Кельнером, кивнула, давая понять, что завтрак готов. Ему пришлось отпустить Агну, но во взгляде, которым он посмотрел на нее, идущую на шаг впереди, смешались горечь, стыд и что-то вроде пары капель облегчения.
Завтрак прошел в молчании, под звон столовых приборов фирмы «Золинген». Тяжелые, с позолотой, они вызывали улыбку и восхищение, их было приятно держать в руках, а красота, с которой они были сделаны, будила смутную надежду на то, что люди, способные ее создать, не способны на нацизм.
Положив белую салфетку на край стола, Агна отодвинула стул.
— Я хочу поговорить с тобой вечером.
Она поцеловала Харри, и направилась к двери, но, не дойдя до нее нескольких шагов, остановилась, поворачиваясь к нему.
— Напомни, что ты сказал про меня в доме мод фрау Гиббельс?
— Что ты в больнице, — последовал быстрый ответ.
— И больше ничего?
— Ничего. Я не говорил, что… — Кельнер замолчал, не зная, как закончить фразу.
Но этого и не потребовалось: Агна коротко кивнула, сказала «спасибо», и вышла из дома. А Кельнер снова остался в столовой, как в тот самый день, когда после мелкой ссоры, за которую он себя до сих пор не мог простить, она точно так же, как сейчас, села в машину и поехала на работу. Только платье на ней было другое. И ребенок был жив. И Эдвард еще не предал ее.
С той ночи, которую Харри провел с Ханной, прошло несколько недель. Его можно было бы счесть педантом, но дело было не в этом, — он считал время по привычке. Но если бы его спросили, зачем он это делает, вряд ли бы он смог ответить. После ночи в Холодном доме он больше не встречался с Ланг, и она перестала искать встреч с ним, что привело его к мысли о четком плане, который был у нее относительно него.
Мысль о том, что его использовали, мало занимала Милна: в конце концов, в этом он с Ханной был на равных. Но все прошедшее с тех пор время показало Эдварду то, о чем он не мог забыть: он предал Эл. Неумолкающий стыд, следующий за этим фактом, бил в его памяти и сердце нудным и мерным колоколом, не разрешая забывать и о том, когда именно он предал Элис.
Не желая скрывать правду он, тем не менее, все чаще откладывал признание. Сначала повторяя себе, что Эл все еще слишком слаба после допроса в гестапо и выкидыша, а позже, когда ее выписали из больницы, — что ей нужно время, чтобы прийти в себя.
На самом деле, он просто боялся. Он очень любил и очень боялся потерять Эл.
После того, как Агна уехала, Кельнер еще долго сидел за столом, расчерчивая по скатерти рукоятью столового ножа какие-то знаки. Движения были резкими, обрывистыми. В какой-то момент, уже находясь в глубокой задумчивости, которая недавно так испугала Эл, — в эти минуты он словно смотрел сквозь людей и само пространство, — Харри поднес лезвие ножа к руке, остановив его чуть ниже сгиба локтя. Надрез можно было сделать мгновенно: рукав рубашки был по-прежнему закатан, а фирма «Золинген» славилась тем, что их лезвия, — будь то лезвие бритвенного станка или столового ножа, — одни из самых острых. Хорошо различимая вена была прямо под ножом: стоит только посильнее надавить, и… Харри со злостью отшвырнул в сторону нож, и он, слетев со стола, звонко упал на паркетный пол. Резко подняв голову, Кельнер с отвращением взглянул на свое отражение в зеркале, и, опрокинув стул, вышел из дома.
* * *
Вечером, после ухода Кайлы, Милн, уже по давней привычке, обошел весь дом в поисках подслушивающих устройств. Ничего не найдя, он вернулся в библиотеку, где Элис читала книгу. Услышав Эдварда, она спросила:
— Что ты знаешь о Стиве?
Заметив его непонимающий взгляд, девушка добавила:
— Может, он что-то говорил о своих планах после окончания Итона или… Каким он был?
Эдвард внимательно посмотрел на Элис.
— Обычным, Эл. Он был обычным. Говорил, что хочет возглавить фирму вашего отца. И, насколько я знаю, он это и сделал, и все шло хорошо…
Элис вздохнула.
— Я знаю только, что после Итона он вернулся в Ливерпуль, чтобы занять в компании место, которое раньше принадлежало папе. Он писал мне письма, когда я училась в колледже, рассказывал, что если дело пойдет дальше так же успешно, то «железные дороги довезут тебя до самой луны, Эл»…
Она устало опустилась в кресло, закрыла глаза и продолжила:
— Но они не довезли… Стив управлял компанией вместе с компаньоном папы, Джорджем Стивенсоном, и сейчас я все чаще думаю…
Здесь ее голос дрогнул, и она замолчала на несколько секунд, но, упрямо покачав головой, заговорила снова, резким движением убирая за ухо непослушную прядь волос.
— …Думаю, что… Если Стивенсон не захотел делить управление компанией со Стивом, и… и… убил его?
Она закрыла лицо руками и замолчала.
— Это только страх, Эл, — прозвучал рядом с ней голос Милна. — Ты действительно считаешь, что Стивенсон мог так поступить? Да он был бы первым подозреваемым, если бы все случилось так, как ты говоришь!
Эл покачала головой.
— Я не знаю, что думать. И что делать...
— Иди ко мне.
Эдвард наклонился и обнял Элис. Ее ладони, за которыми она спрятала свое лицо, уткнулись в плечо Милна, и после нескольких всхлипов Эл надолго затихла, а Эдвард не торопил ее. Она отклонилась назад, только для того, чтобы крепко обнять его, — и снова затихла, крепко сжав в кулак ворот его рубашки, расстегнутой у горла. Прошло много времени, прежде чем Эл отпустила его, и Эдвард шепнул:
— Ты об этом хотела со мной поговорить?
— Да.
Девушка уперлась подбородком в плечо Милна и медленно открыла заплаканные глаза.
— Если хочешь, мы можем поехать в Лондон, а потом, после разговора с Баве, — в Ливерпуль. Ты сможешь увидеться со своей тетей и узнать, есть ли новости о брате.
Элис отклонилась назад.
— Правда?!
Ее взгляд заблестел радостью, но вот в зеленых глазах скользнула какая-то мысль, и улыбка слетела с лица.
— Ты сам сказал, что уже отправил Баве шифровку с отказом от поездки в Лондон. Это и правда очень опасно, и… Что мы скажем здесь? Какой предлог придумать для этой поездки? А если нас не выпустят?
— Эл, — Милн мягко взял ее за подбородок, заглядывая в глаза. — Они не могут нас не выпустить, все получится, решайся!
— Нет! — Элисон резко поднялась из кресла. — Это очень опасно, мы не можем! Не можем!
— Эл…
— Нет, ничего не выйдет! Даже если у нас получится уехать и вернуться, они потом придут за нами снова, и снова заберут в гестапо, и это уже не будет «ошибкой», как сказал Гиринг. Хотя я и в нее не верю.
* * *
— Как это «не приедут»?! — Рид Баве уставился на офицера. — Коттлер, вы идиот?! Как они могут не приехать, когда я отдал им приказ?!
Генерал развернулся в кресле, и кожаная обивка с готовностью отозвалась на его движения противным скрипом, который разнесся по всему кабинету. Лицевой протез Баве начал медленно ползти вниз, обнажая разъеденную газом половину лица.
Он получил ранение в апреле 1917 года, в той самой «бойне Нивеля», когда против официальных ста шестидесяти трех тысяч погибших немцев одни только англичане потеряли сто шестьдесят тысяч человек, не считая ста восьмидесяти — союзной Франции, и пяти — русского экспедиционного корпуса. Риду было тогда двадцать три. Он добровольцем ушел на фронт, и с нетерпением рвался в каждую битву, пока звон в ушах, контузии, пули и осколки не выбили из него всю эту бравадную муть. Выходит, он был немногим младше сегодняшнего Милна, этого сумасшедшего, который смеет ему, генералу Баве, ветерану Великой войны, присылать на протяжении двух месяцев одну и туже дрянную шифровку: «приехать не можем». Да кем он себя возомнил, кретин?!
Баве снова возмущенно поерзал в кресле, но с усмешкой подумал о том, что у этого агента крепкий удар и выдержка, — ведь хватает же ему наглости не подчиняться приказам начальства. А если он что-то знает о поручении Синклера?.. Но откуда?
— Прочитай еще раз, полностью.
Генерал махнул рукой в сторону застывшего в страхе офицера, и сигаретный пепел серо-белой крошкой просыпался на паркет.
— «П-п-приезд в Аа-а-аннн..» — снова, с возрастающим страхом начал секретарь.
Баве закатил глаза, спрашивая всех богов мира о том, почему ему все чаще попадаются такие идиоты, как этот Коттлер?! Что он, Рид Баве, не сделал не так, в чем виноват? Слишком часто ходит в бордели? Забыл подать милостыню уличному попрошайке? Не попробовал пирог жены?
— Громко и четко! Читай, черт тебя подери!
«Приезд считаю невозможным из-за сложной обстановки в Берлине. Уехав отсюда, мы рискуем потерять или нарушить нынешние связи, и навлечь на себя подозрения. В гестапо уже были, не понравилось. Грубер готовит убийство Эрнста Рема, о сроках пока неизвестно. В Лондон не приедем.
Француз».
— «В Лондон не приедем»… как же! — Рид хлопнул в ладоши и посмотрел на мальчишку-докладчика. — Когда мы отправляем им следующую шифровку?
— В смысле, от-т-вет? — запинаясь, уточнил бедолага.
— Это они отвечают мне, а я, я — задаю вопросы и отдаю п-п-п…!
Баве взбесился так сильно, что гневная тирада закончилась сильным кашлем. Когда приступ утих, он продолжил чуть тише.
— Так когда?
— Не ранее, чем через три дня, генерал! — Коттлер щелкнул каблуками сапог, пытаясь произвести хорошее впечатление.
— Три дня… много, Коттлер, много… но! — Баве засмеялся. — Делать нечего, придется ждать. Свободен!
Офицер направился к двери, но Баве остановил его.
— Коттлер, напомни, сколько раз мы получаем от них подобные ответы?
— Этот пятый, мой генерал!
Рид махнул рукой, наконец-то выпуская офицера из своих мягких генеральских лап.
— Пятый раз…сукин ты сын!
А в это время «сукин сын», — Эдвард Милн для Великобритании, Себастьян Трюдо для Франции или тот, кого в Берлине знали как Харри Кельнера, стоя на углу Александеплатц, выбирал букет для своей жены. Выбор был обычным: темно-красные розы.
Переступив с ноги на ногу, Харри подумал, что, может быть, следовало выбрать другие цветы, но Эл любила именно такие розы, и даже если они будут выглядеть банально, она все равно его извинит, тем более сегодня, — 15 февраля, когда Харри Кельнер пригласил Агну Кельнер в лучший берлинский ресторан, Zur letzten Instanz, чтобы отпраздновать первую годовщину со дня их свадьбы. Солнце светило Кельнеру прямо в лоб, и он был совершенно ослеплен предвкушением прекрасного вечера. Ресторан располагался на Вайзенштрассе 14-16 и славился сначала своей давней историей, которая началась в 1621 году, и успела накормить очень многих исторических лиц, в том числе самого Наполеона, а потом и великолепной кухней: суп с креветками, свиная рулька с гороховым пюре, яйца, фаршированные ветчиной, домашний яблочный пирог с ванилью и холодным кремом… Вне всяких сомнений, — это будет замечательный вечер.
Перебежав узкую дорогу, Харри остановился, поправил волосы, и, перепрыгнув ступеньку, вошел в ресторан, где его уже ждала Агна. Осмотрев зал, Кельнер улыбнулся при виде жены. Она сидела за дальним столиком у стены, в центре которого уютно горела белая свеча, а чуть дальше, за ее спиной, на окне стояла фигура какой-то богини: Харри было лень разбирать какой именно, — ее левая рука была поднята вверх, а меч, зажатый в правой, упирался в землю.
Увидев Харри, Агна мягко улыбнулась, и сердце Кельнера-Милна, которого и в Берлине и в Лондоне считали сумасшедшим, забилось летучим стаккато. Легкий поцелуй в губы, смешанный с улыбками Харри и Агны, еще не закончился, а услужливый официант уже стоял позади них, с вазой, наполненной водой.
— Для букета фрау, — с торжественной улыбкой добавил он, и, отчего-то изобразив неловкий поклон, протянул им меню.
Рассмеявшись, Агна поблагодарила официанта, и принялась изучать предложенный список, а Харри украдкой наблюдая за ней, весело хмыкал каждый раз, когда, — видимо, встретив в меню блюдо, которое ей не нравилось, — она забавно морщила нос, и опускала глаза вниз, в поисках чего-нибудь другого.
Вскоре на столе появился заказ: домашний яблочный пирог перед Агной и свиная рулька — перед Харри. Из напитков они выбрали «Зект», вернее, — как дотошно напомнил Харри слишком услужливому официанту, который принялся было подробно рассказывать им обо всех существующих видах шампанского, — «Винцерзект».
— Отличный выбор, герр…— у Харри не было никакого желания называть свою фамилию, и официант в отчаянии замолчал, переводя взгляд на его красивую спутницу. — Шампанское мы подаем в узких высоких бокалах. Какие вы предпочитаете, фрау, — прямые или в форме тюльпана?
Прижав пальцы к губам, чтобы не рассмеяться и не обидеть официанта, которого, судя по значку, прикрепленному к форме, звали Людвиг, Агна, едва сдерживая смех, ответила:
— В форме тюльпана, пожалуйста.
Людвиг просиял, улыбаясь в ответ. И кто знает, сколько бы еще продлилась возникшая пауза, если бы не красноречивое хмыканье неприветливого спутника фрау. Извинившись, Людвиг направился к барной стойке, успев прошептать: «Mein Gott, надеюсь, он ей не муж!». Агна, услышав замечание, развеселилась еще больше, и, запрокинув голову вверх, звонко рассмеялась, привлекая внимание окружающих, а Харри, пробурчав что-то в ответ, занялся поисками сигарет.
— Я забыл спички, сейчас вернусь.
— Харри…— начала Агна, показывая на зажженную в центре столика свечу, но он был уже далеко и не услышал ее.
— Вы так очаровательны, фрау Кельнер!
Фройляйн Ланг остановилась рядом с Агной, и ядовито улыбнулась, успев оценить все, что только может заинтересовать одну женщину в другой: фигура, красная помада и красное платье, сияющее счастьем лицо, и, наконец, цветы. От взгляда Ханны ничто не ускользнуло, и, завершив свое небольшое исследование, она снова взглянула на жену Кельнера.
— Наверное, у вас особый случай, если Харри дарит вам цветы? По крайней мере, мне он ничего не дарил во время нашей недавней встречи, хотя мы провели ночь вместе, и я сообщила ему весьма ценную информацию.
Ланг протянула руку к букету роз, и, нежно погладив краешек бордового лепестка, оторвала и скомкала его. Заглянув в глаза Агны, она медленно произнесла:
— Так похоже на кровь на висках Харри! Ну, знаете, эти раны… Как, уже зажили?
Губы Агны открылись и закрылись, не выдав никакого вразумительного ответа, а на щеках выступили яркие пятна румянца.
— Вижу, для вас это стало новостью? Это, должно быть, не слишком приятно, — узнавать об измене мужа?
Блондинка рассмеялась, довольным взглядом наблюдая за все большим смятением Агны.
— Следите за Харри лучше, моя дорогая.
Наклонившись к фрау Кельнер, Ханна с удовольствием добавила, что желает ей и Харри приятного вечера.
Аромат приторно-сладких духов Ланг еще витал в воздухе, когда Кельнер вернулся к столику с зажженной сигаретой. Он сел на свое прежнее место, напротив жены.
— Сегодня замечательный вечер, не находишь?
Харри посмотрел на Агну, любуясь тем, как пламя свечи отбрасывает тени на ее лицо. Она кивнула, растягивая губы в закрытой улыбке, и встала из-за стола. Сняв с вешалки черное пальто, девушка неторопливо надела его, тщательно завязала широкий пояс на талии, и, посмотрев на удивленного мужа, тихо сказала:
— Лучше не бывает.
Массивное обручальное кольцо Агны засверкало потоком искр, когда она аккуратно сняла его и положила на стол перед Харри. Девушка не торопясь вышла из ресторана и резко побежала по улице, стуча каблуками туфель. Тряхнув головой, и что-то прошептав себе под нос, Кельнер выбежал за ней, осматривая бульвар и противоположную от ресторана улицу, но Берлин, ставший ужасно шумным и многолюдным с тех пор как Грубер пришел к власти, спрятал ее от него.
* * *
Агна бежала изо всех сил, не разбирая дороги. Перебежав мост, она резко остановилась, не в силах двигаться дальше: от слишком быстрого бега дыхание сбилось, а область под ребрами словно пронзило острыми иглами. Она согнулась пополам, и ее вырвало, — только желчью, потому что поужинать в ресторане она так и не успела, лишь выпила бокал шампанского. Достав из сумочки платок, она тщательно вытерла губы, медленно выпрямилась и огляделась. Перед ней величественной панорамой расположился Старый музей.
Подойдя ближе, Эл начала читать надпись, вынесенную на фасад здания: «Omnigenae et artium libera…». Ее губы медленно шевелились, пока она читала фразу на латыни, пытаясь вспомнить перевод. Буквы и слова сливались в одно целое, и она, разозлившись, подумала, что никогда не любила латынь. «Это Эдвард знает этот мертвый язык».
Закусив губу до крови, Эл направилась к широкой лестнице, но когда, наконец, дошла до нее, поняла, что у нее нет сил подняться по ступеням. Солнце горело нещадно, словно прожигая кожу на голове, и Эл вспомнила, что ее шляпа осталась в ресторане. Махнув рукой, она сделала шаг в сторону и споткнулась. Какая-то женщина посмотрела на нее, и даже что-то начала говорить, но Элис не поняла слов: все окружающие звуки слились в жуткую какофонию, летая над ее головой словно рой назойливых пчел. Она с трудом села на скамью, и, опустив голову вниз, закрыла уши руками.
Когда жужжание пчел стихло, Элис поднялась и зашагала в сторону отеля, который был совсем близко. За год, проведенный в Берлине, она сумела неплохо изучить город, а чтобы не привлекать внимание во время наблюдений за берлинцами или за тем, кто казался ей подозрительным, и мог, как она думала, следить за ней, Агна всегда носила с собой карту города. Свернутая в несколько раз, она была не больше четверти газетного листа, и не раз выручала ее. Именно из этой карты она узнала о Старом и Бранденбургском музеях, и об отеле, до которого теперь ей осталось дойти всего несколько шагов.
Переступив порог отеля, поприветствовавшего ее звоном дверного колокольчика, Агна почувствовала новый приступ слабости. К счастью, метрдотель, заметив ее состояние, не стал задавать лишних вопросов, и, быстро оформив нужные бумаги, протянул ей ключ от номера.
Дверь плавно закрылась за ее спиной. Сумочка упала на пол, туфли удалось снять с третьей попытки, а пальто так и повисло на плечах. Агна легла на кровать, медленно перевернулась на спину и развязала пояс на талии. Голова снова ужасно кружилась, глаза закрывались сами собой, но ей казалось, что пояс нужно непременно развязать: это он, как змея, сдавливает ее живот, скручивая все внутри одним невыносимым жгутом. Но вот ей становится легче, она медленно дышит и проваливается то ли в обморок, то ли в сон.
Эдвард обыскал все ближайшие переулки и арки. Подъезжая к светофору, он вдруг понял, где может быть Элис, и, не дожидаясь зеленого сигнала, круто развернул машину, оставляя за собой след от шин, сумасшедший слитый звук автомобильных клаксонов и недвусмысленную ругань водителей.
Кайла открыла дверь и поежилась от порыва ветра. Перед ней был Кельнер. Задыхаясь, он пробовал что-то спросить, но дыхание было слишком сбивчивым, и он долго тянул только одну букву: «Ааа…!». Она подумала, что он снова ранен, и шагнула ему навстречу, но он вытянул руку вперед, останавливая ее. Наконец, у него получилось договориться с собственными легкими, и он хрипло выдохнул:
— А…гна… здесь?
Кайла обеспокоенно покачала головой.
— Ее здесь нет, герр Кельнер. Если хотите, осмотрите дом.
Она уже развернулась, отступая в сторону и пропуская Харри вперед, но он, отмахнувшись, пошел прочь. Мотор «Мерседеса» взревел, Кельнер умчался прочь.
…Он искал ее всю ночь, но так и не смог найти, снова и снова, как заезженную пластинку, повторяя одни и те же вопросы: «Куда ты пошла? Куда ты могла пойти?».
Не различая времени, Эдвард кружил на машине по беспокойно спящему Берлину. Солнце проснулось и разбудило первых людей, медленно ползущих по тротуарам улиц, а он, смотря на себя в зеркало, начал говорить сам с собой. Получалась, конечно, одна чушь, — невразумительная, как у пьяного. Бензина в баке не осталось, и мотор «Мерседеса» заглох, не довезя водителя до дома. Выйдя из машины, Милн со всей силы пнул колесо автомобиля, зашипел от боли в ноге и поплелся домой.
Поднимаясь по лестнице, он думал о том, где сегодня станет искать Элис, и застыл на верхней ступени, глядя на приоткрытую дверь спальни, где Эл, стоя посреди комнаты, разбрасывала в разные стороны свою одежду. Сделав вдох и выдох до предела легких, Эдвард резко зашагал в сторону спальни, но, будто передумав, остановился на пороге, достал сигареты и закурил, сквозь дым рассматривая фигуру Элис, завернутую в белое полотенце.
В свете раннего солнца, уже заглянувшего в окно, ее мокрые волосы казались темнее обычного, а вода, собираясь на кончиках, падала вниз, оставляя бесцветные, блестящие капли на плечах и спине Элис.
— Может, объяснишь, что происходит?
Вздрогнув от голоса Милна, Эл молча продолжила разбирать одежду.
— Агна?
Эл, не взглянув на Эдварда, вернулась к раскрытому шкафу. Остановившись перед ним, она упорно делала вид, что рассматривает одежду, и по-прежнему чувствовала на себе взгляд Милна. Пристальный, в первые минуты он медленно осматривал ее, а теперь застыл в одной точке на спине Эл, — между лопаток, на небольшом пространстве нежной кожи, прикосновение к которой всегда действовало на Элис успокаивающе. Милн, конечно, знал об этом. Именно его прикосновение к этой точке всегда утешало ее, помогая ей дышать и легче переживать острую боль. Элис заставила себя стоять на месте. Смотреть на Эдварда она не могла.
Одна минута.
Две.
Три.
Пять.
Надежда на то, что Милну надоест ждать, и он просто уйдет, оставит ее в покое, не оправдалась. Он был здесь, за ее спиной. Безмолвный, как всегда бесшумный, злой и надменный. Закрыв глаза, Элис сделала глубокий вдох и такой же глубокой, очень медленный, выдох. Не поворачиваясь, она, как можно спокойнее, произнесла:
— Выйди, мне нужно одеться.
Фраза прозвучала так, как хотела Эл: отстраненно, спокойно, холодно. И это можно было бы считать маленькой победой или свидетельством того, что она смогла успокоиться, если бы ее рука, которой она держалась за шкаф, не дрогнула, выдавая невероятное волнение. Посмотрев на руку, Элис резко вытянула ее вдоль тела, но тут же схватилась за узел полотенца, завязанного на груди.
— Одеться? — Милн переспросил так, будто стал глухим. — Ты убегаешь из ресторана, не сказав ни слова, неизвестно где проводишь ночь, появляешься утром и говоришь, что тебе «нужно одеться»?! Я объехал весь город, пока искал тебя!
— Выйди!
Эл бросила на Милна блестящий взгляд, отвернулась, сорвала с плечиков блузку, и брезгливо посмотрев на нее, швырнула на кровать.
Старательно размяв сигарету в пепельнице, оставленной на тумбочке с той стороны кровати, где он спал, Милн, быстро взглянув на Элис, подошел к ней и грубо схватил за руку, разворачивая лицом к себе.
— Какого черта, Эл?!
От неожиданности ее повело в сторону, и она наконец-то посмотрела на Милна, хотя в этом взгляде было больше растерянности и удивления от грубого жеста, чем злости. Элис поморщилась от боли, и нервно сглотнула, спрашивая хриплым, сорвавшимся голосом:
— Ты спал с Ханной, когда мы были женаты?
Хватка на руке ослабла. Эдвард беспомощно и нелепо оглянулся по сторонам, опустил голову вниз, потом вдруг резко поднял ее, и посмотрел на Эл.
— Да.
— Когда?
— Ли́са, не надо.
— Когда?
Она вплотную приблизилась к нему, схватила за рубашку, и потянула вниз.
— Это ничего не значит!
— Когда?
Милн шумно вздохнул и медленно произнес:
— В тот вечер, когда ты потеряла ребенка.
Повисла долгая пауза. Милн видел, как в глазах Элис собираются слезы, — словно мелкие волны у моря, с каждым мгновением они становились все больше и больше, а потом вышли за край, — прозрачные, соленые и горячие.
— Прости меня! — зашептал Эдвард, проводя дрожащими пальцами по ее щеке.
— Не смей называть меня «Ли́са», так звал меня только Стив!
Встряхнув Милна, — как ей показалось, сильнее, — Элис другой рукой схватилась за полотенце, которое уже сползло вниз, обнажая ее маленькую, красивую грудь. Взгляд Эдварда загорелся, и он застыл на месте, завороженно глядя на Эл. Глаза его с великой и печальной нежностью медленно скользили по фигуре и груди Элис, по ее светлой, нежной коже. Не смея коснуться, Милн приблизил руку к плавному плечу девушки, но когда она, смутившись, поправила полотенце, он отвел глаза в сторону.
Элис отпустила Эдварда, и его рубашка теперь выглядела так, будто из нее хотели надуть воздушный шарик, но ткань оказалась слишком тяжелой для этого, и, зря скомкав, ее бросили и убежали дальше, в поисках более подходящего материала.
* * *
Эдвард надеялся, что они смогут поговорить на следующий день, когда первая злость Элис утихнет. И не то, чтобы он сильно ошибся, — скорее, не слишком хорошо предугадал ее действия, потому что в следующие несколько дней, — к его немалому удивлению, — она выстроила свой распорядок дня так, чтобы как можно меньше встречаться с ним. Теперь он завтракал без нее, и на все его вопросы Кайла отвечала одним или двумя-тремя словами: «уехала», «будет поздно», «ничего не сказала». Конечно, о том, куда она уезжает с утра пораньше, он мог спросить и саму Эл, но для этого ему сначала нужно было ее увидеть. Что теперь, учитывая недавний разговор, стало большой редкостью.
В один из таких дней Эл приехала домой раньше обычного. Радостная и возбужденная, она тихо напевала какую-то песенку, когда столкнулась в коридоре с Эдвардом. Улыбнувшись чему-то, она оглянулась, остановила взгляд на газете, зажатой в его руке, и хмыкнула, словно спрашивая: «Как тебе не надоело таскаться с этой нацистской чушью?». Проследив за взглядом, он тоже посмотрел на газету с жирными готическими заголовками, положил ее на столик и пошел следом за Элис, которая уже настраивала радиоприемник на волну, где передавали музыкальные концерты. Время шло, а концерт все не начинался. Вместо этого Кельнеры долго слушали, как где-то далеко, надрываясь в механических радиоволнах, Йозеф Гиббельс выступал с новыми воззваниями.
Повернувшись, Эл взглянула на закрытую дверь, заметила Эдварда и пожала плечом. В правой руке у нее был зажат листок с какими-то записями. Она перечитала написанное, зажгла спичку, и, положив листок в глубокую пепельницу, медленно подожгла его с двух сторон. Язычки пламени, переходя из синего в желтый, резво побежали по плотной бумаге, и скоро от написанного ничего не осталось. Высыпав пепел в камин, Элис присела перед ним, перемешивая пепел. Потом поднялась, расправила широкую юбку и шагнула вперед, где Милн, словно часовой на посту, стоял без движения.
— Я видел записку. О какой поездке в Лондон идет речь?
Элис подняла на него глаза и весело рассмеялась:
— Харри, ты говоришь как телеграфный столб. — Она улыбнулась. — Я уезжаю в Лондон, герр Кельнер. И так как возвращаться сюда не планирую, то…
Эшби помолчала.
— … Была рада познакомиться. Не могу сказать, что работать с вами мне понравилось, но было довольно занимательно. Обещаю, — голос Эл зазвучал торжественно, словно было Рождество, и она обращалась к гражданам Соединенного Королевства вместо королевы-матери, — что никому ничего не скажу!
Эдвард скрестил руки на груди и прислонился к двери.
— Не припомню в сообщениях ничего подобного.
— И не нужно, Кельнер. Я вернусь в Лондон, скажу, что не хочу больше служить на благо отечества, и вы снова будете работать в гордом одиночестве. Надеюсь, останетесь здесь и разделите свою жизнь с Ханной Ланг.
Глаза Элис заблестели, она даже попыталась сделать книксен, но запуталась в своих двух ногах и эффектно упала на пол, громко хохоча.
Милн наклонился над ней, пытаясь поднять, но она оттолкнула его руки, и осталась лежать на ковре, устраиваясь поудобнее.
— Жаль, что ты мне не веришь, Харри. Я же не могу врать тебе, — старшему, такому большому агенту!
Элис подняла руки и попыталась изобразить в воздухе необъятную, — судя по изображенным очертаниям, — фигуру Эдварда, но снова рассмеялась, раскинув руки в стороны.
— Сама фрау Гиббельс отпускает меня, Кельнер. Представляешь, она помнит, — тут Эл подняла руку, вытягивая вверх указательный палец, — что Агна мечтала пройти обучение у Аликс Бартон!
Девушка приподнялась, опираясь на локти, и улыбнулась все еще немому Эдварду.
— Это модельер, если ты вдруг не знаешь. И вот Агну Кельнер официально отпускают в Лондон. Поэтому скоро я уезжаю.
Последнюю фразу Эл произнесла шепотом, затем поднялась и подошла к двери, рассматривая лицо Эдварда. Он отошел в сторону, пропуская ее, и о чем-то сосредоточенно размышляя.
* * *
Харри Кельнер успел на рейс Берлин-Лондон только благодаря тому, что самолет задержали на четыре часа. А за эти четыре часа он, — благословение полному баку и быстрым шинам «Гроссер-Мерседеса», — узнал, что несколько работниц дома мод Магды Гиббельс, среди которых была фрау Агна Кельнер, действительно сегодня вечером вылетают в Лондон, для того, чтобы принять участие в обучении, организованном Аликс Бартон.
Позже она станет легендой модного мира, — мадам Гре, — и войдет в историю как «королева драпировок». И если к каждой складке на платье, носившим ее имя, мадам предъявляла строгие требования, заключавшиеся в красоте и элегантности, то Милну уже на втором отрезке его внезапного маршрута потребовалась молниеносная скорость, — как физическая, так и мыслительная. Именно благодаря последней он вспомнил о командировке в Лондон, в которую никто не горел желанием отправляться. Несколько дней назад решать нудные дела о взаимных поставках лекарственных препаратов поручили его коллеге, с которым теперь Кельнеру очень нужно было поменяться местами. К удаче Харри, этот вопрос решился легко и быстро, — начальство не было против, а коллега, узнав, что остается в Берлине, пожал Харри руку, и горячо поблагодарил за избавление от нежеланных обязанностей.
Подбегая к центральному входу в аэропорт, Кельнер был уверен, что достиг цели. Но когда выяснилось, что все билеты на нужный ему рейс проданы, и что, даже заплатив тройную цену, он не сможет вылететь этим рейсом в Лондон, Харри заметно притих. Даже мысли, такие быстрые и находчивые на протяжении всего этого пути, теперь отказывались помогать ему.
Пассажиры рейса «Берлин-Лондон» уже выстраивались в ленивую очередь, медленно подползая к выходу из терминала, а герр Кельнер все еще был без билета.
Фройляйн за стойкой регистрации, которую он до этого несколько раз уговаривал помочь ему вылететь в столицу Королевства, вздохнула при виде беспокойного мужчины и закрыла окошко перед его носом.
Отказываясь верить, что сегодня вечером, через несколько часов, именно ему не суждено увидеть Биг-Бен, Харри подбежал к упитанному мужчине, который десятью минутами ранее, благодаря его же заботам, уже разбогател, и вновь взмолил о помощи. Но верный служитель аэропорта только развел пухлыми руками в стороны, потому что заоблачная для него сумма уже звенела у него в кармане, а взять еще больше у сумасшедшего блондина ему не позволили ошметки совести.
Кельнер медленно выдохнул и растер лицо ладонями. Он как раз начал думать, что «все кон...», как вдруг кого-то, кто стоял в черепашьей очереди на нужный ему рейс, вырвало. Прямо на блестящий, подобно зеркалу, пол шикарного и самого большого аэропорта Темпельхов, который останется берлинцам на очень долгую память и будет катать их по миру до невероятного 2008 года.
Звук, который услышал Харри, — да и все, кто был поблизости, — прозвучал так, что Кельнер не сомневался: человек, издавший его, сначала вывернулся наизнанку, а потом ввернулся обратно. Так оно было или нет, он, конечно, проверять не стал. Но убедившись, что теперь одно место в самолете будет свободным, он ринулся к стойке регистрации так стремительно, что девушке, которую до этого от него спасало закрытое окошко, не оставалось ничего иного, как оформить Харри Кельнера на рейс до Лондона, и, указав на все такую же медленно ползущую вперед очередь, радоваться, что этот белый высокий псих с блестящими от беспокойства глазами, наконец-то от нее отстал.
* * *
Похоже, пассажир, который в последние минуты перед вылетом рейса Берлин-Лондон решил вывернуться наизнанку в аэропорту нерушимой Германии, продолжал приносить Милну удачу: его место в салоне самолета, располагалось рядом с тем, где сидела Эл. Он наблюдал за ней, не рискуя быть замеченным, — еще до того, как шасси оторвались от аэродрома в Темпельхов, она заснула и проснулась только тогда, когда стюардесса попросила пассажиров пристегнуть ремни и приготовиться к посадке в аэропорту Кройдон.
Милн догнал Элис на выходе из терминала, и предложил проводить домой, но она, посмотрев на него как на вездесущего призрака, появления которого в эту минуту точно не ожидалось, смерила его острым взглядом, и после короткого молчания объявила, что он может ехать куда угодно, — она отправляется на встречу с Баве. И Эдвард Милн, который, к слову сказать, был вполне осязаемым, — по меньшей мере, потому, что окружающие люди видели его предельно четко, — поймал высокое темно-синее такси Austin, и предложил Элисон Эшби, — если, конечно, ее это не слишком сильно убьет, — доехать до генерала в его компании. Судя по тому, что Элисон села в такси, — правда, проигнорировав галантно протянутую ей в помощь руку, — умирать она не планировала.
Лондон шумел голосами прохожих, громкими фразами уличных торговцев и автомобильными клаксонами. Взрослые люди и непоседливые мальчишки почти так же, как в Берлине, переходили улицы с одной стороны на другую, но во всем этом было одно невидимое отличие от столицы третьего рейха: тишина. Лондон мог шуметь как угодно громко, — голосами людей, лаем собак, руганью продавцов или плачем детей, но в сравнении с Берлином он оставался таким тихим, что в первые минуты Элис, словно зачарованная, медленно следила за всем, что происходило по ту сторону автомобильного стекла, не понимая толком, что случилось. А дело заключалось просто в том, что в Лондоне не было Грубера и калеки, министра пропаганды, орущего на Берлин и всю Германию день и ночь напролет.
Генерал встретил их излишне радостно, в той привычной для него эксцентричной манере, которую Эдвард и Элис уже успели забыть. По тому, как они зашли в кабинет Баве, было видно, что большие дороги и перелеты давно стали для Милна обычным делом. Но Элис выглядела так, как будто переступив порог кабинета Баве, она оказалась в ином, потустороннем измерении. Ее лицо было серьезным и растерянным, но, даже несмотря на некоторую бледность, Эшби вызвала в Баве непривычное даже для него оживление, и когда он подошел к ней, чтобы потрясти ее руки в приветствии, обнять и поцеловать в обе щеки, внешне она не высказала никакого удивления, все еще оглядываясь по сторонам просторного кабинета.
Оставив вступления и громкие слова соплякам-офицерам или самым высшим эшелонам власти, Рид Баве перевел оживленный взгляд с Эшби на Милна, и, растерев ладони, приготовился слушать новости, доставленные прямо из Столицы Мира.
Все еще удивляясь отсутствующему взгляду Эл, Милн начал свой доклад об обстановке в Берлине с общих сведений, которые наверняка уже были известны генералу.
— Оставшиеся противники Грубера ждут смерти президента Гинденбурга: они надеются, что это поможет свержению фюрера. Учитывая состояние здоровья, ждать им осталось не так уж долго…
— А Грубер? — быстро спросил Баве, подгоняя Милна.
— Ему нужна поддержка армии и штурмовых отрядов, иначе оппозиция может стать опасной.
— Насколько сильно нужна?
Генерал сомкнул руки в треугольник, увенчав его вершину своей круглой головой. Эдвард прочистил горло, помолчал, взвешивая каждое последующее слово, и, посмотрев на Рида Баве в упор, четко произнес:
— Позарез. Как и Эрнст Рем, начальник штурмовиков. Уже сейчас ему подчиняется более трех миллионов человек, а это значительно превосходит те силы, которые служат Груберу.
— Великолепно!
Баве всплеснул руками, перевел взгляд на молчаливую Элисон, и снова спросил Милна:
— А Гиринг? Я помню, вы — он сделал непонятное движение руками по кривому кругу, которое, видимо, означало, что он говорит о Милне и Эшби, — много сообщали о нем, особенно в первое время.
При имени рейхсмаршала Эл резко повернула голову в сторону Эдварда, а он, наклонившись вперед, ровно ответил:
— Сейчас ему подчиняется только гестапо в Пруссии, все остальные подразделения этой организации взял под свое начало Генрих Гиллер. По сведениям, которые мне удалось достать, — на этих словах Эл, подразумевая Ханну Ланг, коротко рассмеялась, внимательно рассматривая свои руки, — Грубер дал главе гестапо личное поручение: собрать компромат на Рёма и его друзей.
— Но зачем же? — протянул Баве, поднося палец к подбородку.
— Генерал, вы правда такой идиот, или настолько плохо играете свою роль? Если так, то вам стоило бы взять уроки актерского мастерства у Рудольфа Валентино. Жаль, что он уже умер.
Если бы громы и молнии могли разрываться в тишине, то это был бы тот самый случай. Рид Баве и Эдвард Милн в немом изумлении уставились на Элисон, повернув головы в ее сторону как по команде, одновременно. А она продолжила:
— Грубер хочет избавиться от Рёма, только и всего.
Поморщившись, Элисон грациозно поднялась со стула и надела пальто, явно собираясь уходить.
— Мне это все надоело, я ухожу из МI-6.
От этих слов Баве, еще не успевший реанимироваться после первого словесного выпада в свою сторону, окончательно растерялся, теряя на глазах все свое достоинство начальника.
— Зачем же вы приехали?
— Сказать, что я больше не работаю в разведке.
— Но-о… по-почему?! А как же мое объявление о том, что ваше задание окончено, и вы должны вернуться из Берлина в Лондон?
Генерал расставил руки в разные стороны, что выглядело так, будто через секунду он рухнет на колени прямо посреди кабинета и начнет молиться господу богу.
— Что?! — на этот раз не сдержался Милн, поднимаясь со стула и вытягиваясь во весь свой великанский, — с точки зрения небольшого Баве, — рост. — Задание окончено?! Да вы тут что, с ума сошли?! Выдернуть нас из Берлина, чтобы сказать, что все закончено, вот так, без предупреждения?!
Мужчины пораженно смотрели друг на друга, пока с той стороны, где стояла Эшби, не раздался веселый хохот.
— Ну… во-о-от, видите-е-е, — задыхаясь от смеха, пыталась сказать она, — все-е-е к лучшему!
Приступ веселья внезапно стих, и в абсолютной тишине она повторила:
— Генерал, я не шучу. Можете закрывать это задание или придумывать новое, мне наплевать. Из меня вышел плохой агент, я ничего не умею, и если бы не Милн, я провалила бы все ваши поручения еще в январе прошлого года. Поэтому я ухожу из разведки. Наверняка нужно подписать бумаги об увольнении, это я сделаю позже. Сейчас мне нужно уехать.
Резко развернувшись на каблуках, Элис вышла из кабинета. Не говоря ни слова, Баве грузно опустился в кресло, открыл тумбочку, и, плеснув в бокал бренди, залпом осушил его, жестом приглашая Милна присоединиться к нему. Но тот отрицательно покачал головой и, снова посмотрев на дверь, через которую только что вышла Эшби, предпочел закурить, затянувшись до треска сигареты.
— Ты знал? Что происходит?
— То же самое я хотел спросить у вас, генерал, — медленно протянул Эдвард, отвечая на второй вопрос. — Вам не кажется, что это очень дурная шутка: закрывать задание в Берлине?
Маленький генерал замахал руками на Эдварда.
— Ладно-ладно, признаю, это было слишком. Все дело в том, что Синклер поручил мне «проверить» вас. Согласен, — он тяжело вздохнул. — Это была глупость… Но если я пошутил, то она?..
Милн покачал головой не вынимая сигареты изо рта.
— Как бы там ни было, ваше задание продолжается, и эта девчонка мне нужна в Берлине. Поэтому делай что хочешь, но верни ее. — Рид замолчал, чему-то улыбнувшись. — Не знаю, что ты там с ней сделал, или она сразу такой была, но, — он пошло рассмеялся, — девчонка просто огненная!
— Это очень забавно, генерал.
— Уверяю тебя, если бы я все еще мог бегать так же быстро, как раньше, она бы от меня не ушла.
Рид налил новую порцию виски, но пить не стал, судя по его мечтательному взгляду, очарованный какими-то своими фантазиями.
— Я о том, как настойчиво вы и многие другие, даже в Берлине, отказываетесь видеть в Грубере опасную, реальную силу.
— Он всего лишь ефрейтор, временно получивший власть!
Усмехнувшись, по привычке, краем губ, Милн внимательно посмотрел на Баве.
— Знаете, что недавно сказал пьяный Рём?
Генерал отрицательно закачал головой, и Эдвард продолжил:
— «То, что рассказал этот смешной ефрейтор, нас совершенно не касается! Если мы не сработаемся с Грубером, то прекрасно обойдемся и без него». Вам не кажется, генерал, что все это может обойтись слишком дорого?
* * *
В Ливерпуле было только шесть утра, когда Элис постучала в дверь дома, в котором она провела свое детство. Сначала послышался звон разбитых тарелок, а потом — приглушенные причитания ее тети. Кэтлин Финн открыла дверь, растерянно глядя на раннего гостя, и закричала так громко, что Эл вздрогнула и рассмеялась.
— Элис?! Моя Элис?
Кэтлин крепко обняла Эл и надолго замолчала, но, опомнившись, отошла назад.
— Ах, я глупая! Что же мы стоим здесь, на пороге? Проходи, проходи скорее! — приговаривала она, взяв племянницу за руку.
Элис улыбнулась, чувствуя, как наворачиваются слезы. Она не была в этом доме шесть лет, и, глядя сейчас на Кэтлин, думала, что за это время здесь вряд ли что-то изменилось: все тот же уютный солнечный свет, скользящий сквозь низкое окно, укладывает свои лучи на кресло, в котором тетя любит заниматься рукоделием. «Мои глаза уже не те!» — часто говорила она, сетуя, что не может вышивать так же быстро, как раньше. Словно отвечая на мысли Эл, с кухни потянулся знакомый аромат.
— Сконы! Ты по-прежнему печешь их каждое утро?
Кэтлин задорно рассмеялась, глядя на племянницу.
— А как же иначе?
Она подошла к девушке и крепко сжала ее руки.
— Я так рада тебя видеть, так рада, что ты дома!
На ее глазах выступили слезы, и она быстро смахнула их рукой.
— Я тоже, тетя, я тоже…— прошептала Элис, крепко ее обнимая.
Они долго пили чай на кухне, и, забыв о завтраке, все больше болтали и смеялись, пересказывая друг другу то важные новости, то воспоминания из детства Эл и Стива. Узнав, что Элис пробудет в Ливерпуле «всего неделю!», Кэтлин успела и расстроиться из-за столь короткого визита племянницы, и обрадоваться тому, что снова может обнять эту рыжую непоседу, кудряшки которой она раньше так долго по утрам пыталась заплести в аккуратные косы.
— Ты очень изменилась, — заметила как-то Кэтлин.
— Это хорошо или плохо? — с веселым смехом спросила Эл, сама не сумевшая разобраться в тоне ее голоса.
Тетя отложила вышивку в сторону, и внимательно посмотрела на девушку.
— Моя дорогая, что у тебя случилось?
Элис попыталась улыбнуться, но почувствовала, как к глазами поступают слезы. «Прекрати, Эл!» — мысленно ругала она себя, крепче сжимая руки, но слезы все равно бежали по лицу все чаще и чаще.
— Не нужно прятаться.
Кэтлин положила теплую руку на судорожно сцепленные пальцы Элис, и мягко попросила:
— Расскажи мне о нем.
Эл взглянула на нее огромными от удивления глазами, и женщина мягко засмеялась:
— Я уже слишком старая, чтобы не понять, что происходит на самом деле.
Она замолчала, но увидев, что племянница все еще не решается довериться ей, добавила:
— Ты с детства была такой: маленькая, колючая и замкнутая для большого мира, но, — она похлопала девушку по руке, — я знаю, что ты очень добрая, ранимая и отважная.
На переплетенные женские руки закапали слезы. После долгого молчания Кэтлин услышала:
— Я очень хочу рассказать тебе, но я… не могу. Не могу, понимаешь?
— Скажи мне только, ты его любишь?
Горло Эл перехватило судорогой, и женщина сильнее сжала ее руки, наклонившись вперед, почти касаясь лбом ее головы.
— Любишь?
— Да!
Это слово, такое маленькое, с тяжелым, горячим вздохом слетело с губ Эл, вызывая улыбку на лице ее тети.
— Тогда все будет хорошо, маленькая Ли́са.
Кэтлин произнесла это точно так, как это делал Стив, и плечи Эл задрожали. Из ее груди вырвался стон, и женщина изумилась тому, как долго, и как много девушка могла держать замкнутой в сердце такую боль. Когда дыхание восстановилось, Эл робко посмотрела на тетю.
— А Стив? Он был здесь?
Вместо ответа Кэтлин заботливо погладила ее по волосам, и, решившись, произнесла:
— Нет. Но он писал мне, спрашивал про тебя.
Предупреждая поток слов, вот-вот готовый сорваться с раскрытых в удивлении губ Эл, она добавила:
— Про него ходят скверные слухи.
— Какие слухи? О чем? Он жив?!
— Жив, конечно, жив. С ним все в порядке, насколько мне известно. А слухи…— тетя помолчала, — после окончания Итона он вернулся сюда, начал управлять компанией вашего отца наравне с его компаньоном, Джорджем Стивенсоном. Но два года назад мистера Стивенсона убили, виновных так и не нашли, а со временем имя Стива начало обрастать разными слухами. Говорят, что он сейчас в Европе, может быть, даже в Италии. Или во Франции, связался с кем-то… В убийстве подозревают его, считают, что тогда, после большого скандала с мистером Джорджем он не сдержался и…
Кэтлин отпила воды из стакана, и торопливо продолжила:
— А год назад я получила от него письмо. Он спрашивал о тебе, о том, где ты. Мне показалось, что он хотел тебя увидеть.
Элис встала из высокого кресла и медленно прошлась по комнате. Обняв себя за плечи, она, наконец, спросила:
— Но почему он сам мне не написал?! Я уже два года ничего не знаю о нем! Убийство?! Стив?
Подбежав к тете, Эл опустилась перед ней на колени.
— Неужели ты думаешь, что он мог убить? Это же Стив! Он всегда защищал меня в детстве, говорил, что я могу ему доверять!
Тетя хотела обнять ее, но Эл, смотря в какую-то точку за ее плечом, говорила все быстрее и быстрее.
— Он любит футбол и твой вишневый пирог, он… Он научил меня стрелять из рогатки и играть в футбол… Нет, не может! Он не может сделать ничего такого, Кэтлин, ничего такого!
— Я знаю, моя дорогая, я знаю, — повторяла тетя, обнимая Элис. — Стив был хорошим мальчиком.
— Он и сейчас хороший! — с горячностью заявила Эл.
— Конечно. К тому же, не стоит верить всему, что говорят.
Весь следующий день Эл ходила по дому не находя себе места. Письмо Стива, которое он написал тете, она успела выучить наизусть: «…Как там Эл? И где она сейчас? В этом году ей исполняется восемнадцать, совсем взрослая!». А на вопрос о том, почему Кэтлин раньше не сообщила ей новости о брате, услышала: «Я и подумать не могла, что он перестал отвечать на твои письма из колледжа, а потом… Милая, я и сама не знала, где ты».
Вечером, не выдержав в Ливерпуле и трех дней, Элис быстро собрала свои немногие вещи, и, поцеловав на прощание расстроенную тетю, уехала в Лондон, где вот уже несколько дней ее выжидал Эдвард. Все его догадки о том, куда она могла поехать, оказались ложными, и все, что он мог делать, — это подпирать своими широкими плечами дверь ее квартиры на Клот-Фэйр-стрит.
* * *
Милн проснулся от громкой музыки. Растерев глаза, он вытянул руки вверх, почти сразу же упираясь ими в крышу автомобиля и сонно отметил про себя, что если Эл не вернется, и он продолжит спать в машине, то совсем скоро водительское кресло станет для него удобнее кровати. Стрелка на циферблате часов застыла на цифре «4», а музыка продолжала звучать легкой, красивой волной, выбегая на улицу, — как теперь заметил Эдвард, наклонив голову, — из приоткрытой двери в квартире Элис.
Переступая порог дома, Милн засунул руку в карман пальто и вытащил пистолет, готовый к выстрелу, — стоило только снять его с предохранителя. Ступая мягко и беззвучно, он быстро обошел первый этаж, но не заметил ничего необычного. Половица на верхней площадке второго этажа скрипнула под его весом, и, отойдя ближе к стене, он заглянул в спальню.
Мелодия, похожая на сказочную, продолжала звучать из большого граммофона, который стоял прямо на полу. Милн успел заметить уголки конвертов, в которых продавали пластинки, и перевел взгляд вправо, где были разбросаны осколки тех пластинок, которым повезло меньше. Вдруг на черные, острые осколки, подсвеченные электрическим светом откуда-то сверху и справа, наступила нога, оторвалась от пола и исчезла из поля зрения Милна. Через несколько секунд в комнате раздался оглушительный грохот, и первое, что увидел влетевший в спальню Эдвард, была Элис. Сильно покачиваясь на стуле, она вцепилась рукой в дверцу шкафа и удивленно смотрела вниз, на большой деревянный короб. Разбившись при ударе об пол, он щедро рассыпал перед Эдвардом ноты, записные книжки, тетради и письма, целое море писем.
Спрыгнув со стула, Эл прикоснулась к разбитому виску, с выражением досады смотря на свои пальцы, измазанные в крови.
— Черт!
Оглянувшись по сторонам, она не нашла ничего, чем можно было бы промокнуть рану, и, махнув рукой, опустилась на пол рядом с разбитым ящиком.
Эдвард, которого она до сих пор не заметила, хотел дать знать о своем присутствии, но что-то в движениях и в выражении лица Элис насторожило его, и он тихо опустил руку, уже занесенную для стука в дверь, продолжая наблюдать за девушкой. Мелодия, которую он услышал еще на улице, закончилась, и пластинка с недовольным шипением закрутилась в проигрывателе.
Выпустив из рук письма, Элис повернулась к граммофону, встала на колени и передвинула иглу. Черный блестящий диск закружился снова, в комнате зазвучала новая мелодия, — светлая и печальная, она гораздо больше подходила к этому странному раннему утру в Лондоне.
— Это Элгар. Его тоже зовут Эдвард, как тебя.
Элис посмотрела на Милна большими блестящими глазами и продолжила перебирать конверты с письмами. Сделав шаг вперед, он присел перед ней, прикасаясь к ее ране на виске.
— У тебя кровь, Эл.
— А у тебя? Твои раны зажили?
Она придвинулась к Эдварду, положила руки ему на голову, склоняясь по очереди к вискам, сначала слева, потом справа. Наслаждаясь ее прикосновением, Эдвард устало закрыл глаза.
— Ханна спросила меня в ресторане, как твои раны, и я поняла, что не знаю, как они теперь. — Элис выпрямилась, возвращаясь в прежнее положение. — Когда вернешься, передай ей, что все в порядке.
Резко вытащив из открытого конверта письмо, она начала его читать, беззвучно шевеля губами.
— Ты тоже должна вернуться, Эл. Разреши мне тебе помочь, — сказал Милн, имея ввиду кровь, все еще бежавшую по ее лицу.
— Нет, — она покачала головой. — Лучше скажи, зачем ты пришел?
Неестественно блестящий взгляд пробежал по лицу Милна в ожидании ответа. Какое-то смутное предчувствие нашло на него, когда он внимательнее всмотрелся в эти чудесные, темно-зеленые глаза.
— Чтобы сказать, что ты не можешь уйти. Баве против. И я… Я хочу, чтобы ты осталась.
Элис поднялась на ноги.
— Подожди, мне нужно кое-что сделать.
Она вышла, шлепая босыми ногами по полу, и Милн, который и без ее просьбы не собирался никуда уходить, тяжело вздохнул, снова осматривая комнату. Здесь был беспорядок, но какой-то странный, как будто случайный, похожий на тот, — в их спальне в Груневальд — разбросанная одежда, разбитие пластинки, ящик с письмами… Взгляд Эдварда зацепился за угол тетради в голубой обложке, похожую на те, в которых он писал в колледже.
«…Сегодня я получила письмо от Стива! Но его я прочитаю потом. Сначала, как всегда, я прочитала записку от Эдварда Милна. Помнишь, он обещал, что напишет мне правила игры в футбол? Так вот, он выполнил обещание, и теперь у меня есть его забавный рисунок, где нарисовано футбольное поле и игроки обеих команд…»
Запись оборвалась, а внизу этого же листа рукой Эл было аккуратно выведено «Элисон Милн». Эдвард долго смотрел на запись, перечитывая ее снова и снова, и почти физически ощущая, как давняя головоломка, которую он уже и не думал собрать, начала сама подбирать нужные детали. Неужели Эл действительно была влюблена в него? А он?..
Он не помнил ни своего обещания написать ей правила игры, ни своих рисунков, вложенных в письмо Стива. Но он до сих пор отчетливо видел Элис такой, какой она была в первый день их встречи здесь, в Лондоне. Утром того дня он едва успел вернуться из Берлина, где снова разыгрывал из себя Харри Кельнера, который тогда и не подозревал о том, что скоро ему предстоит жениться.
— Ты читаешь мои дневники?
Элис остановилась на пороге комнаты.
Посмотрев на нее, Эдвард отметил, что волосы на виске девушки стали влажными, а следы крови исчезли. Но вот из раны снова, друг за другом, побежали вниз узкие красные капли.
— Да, — хрипло ответил он, и мысль о том, что с девушкой что-то не так, снова забилась где-то в глубине его сознания.
Эл стала бледной и еще более беспокойной, на лбу выступили крупные капли пота, а блестящие глаза хаотично осматривали комнату. Облизав сухие губы, она подошла к Эдварду, вытащила из его руки тетрадь со своими записями, отбросила ее в сторону, прильнула к Милну всем телом и поцеловала в губы.
Кровь забилась в его голове горячими волнами. Крепко обняв Эл, он приподнял ее, сцепил руки, почти слепо, на ощупь, пронес по комнате, пока ее спина не коснулась дверцы высокого шкафа, — того, с которого совсем недавно упал тяжелый деревянный ящик.
Эдвард торопливо расстегнул лиф ее платья, жадно покрывая поцелуями тело Элис. Прерывистое дыхание коснулось его лица. Она целовала его медленно, — и страстно, и нежно, и в какой-то момент Эдварду показалось: его сердце не выдержит этих безумных, прерывистых тактов, сбивающих вдох и выдох в рваную нить. И чем дольше она целовала его, тем больше он желал продлить это безумное наслаждение, которое, казалось, рушило все преграды, отделяющие одно сердце от другого.
Не заметив, как поцелуи Эл изменились, Милн продолжал целовать ее в ответ, все крепче сжимая в объятьях. И вдруг Элис, больно укусив его за губу, открыла глаза и, смеясь, оттолкнула Эдварда, расслабленного нежностью и лаской, от себя.
— Ее ты целовал так же? Или так ты реагируешь на каждую?
Глаза Эл разгорелись ярче. Прерывисто вздохнув, дрожащими пальцами, она начала застегивать пуговицы на платье, когда Эдвард, ошеломленно, — как будто издалека, — смотря на нее, коснулся ее руки, — там, где от его пальцев остались следы с момента их утреннего разговора в Груневальде.
— Прости меня.
Эл неловко наклонилась, пытаясь пройти под рукой Милна, и из кармана платья что-то выпало, укатилось за ворох бумаг. Со страхом посмотрев на Эдварда, она начала разбрасывать в разные стороны письма, ноты и осколки разбитых пластинок, но он оказался быстрее, и прочитав надпись на найденном флаконе, побледнел.
— Решила стать наркоманкой, Эл? Ты хоть знаешь, как на организм действует эта дрянь?! Где ты взяла первитин?
— Слишком много вопросов, Эдвард. Это же ты учился на врача, изучал химию, вот и расскажи мне про эти таблетки, которые, кстати, в Берлине никто не называет наркотиками! Их даже выписывают кормящим матерям, и считают обыкновенным крепким кофе.
— Но у тебя нет ребенка! — резко сказал Милн и замолчал.
Но было уже слишком поздно.
— Не смущайся, Эдвард!
Элис засмеялась, останавливаясь, и завела руки за спину. Затянув платье на спине, она продемонстрировала абсолютно плоский живот и тонкую талию.
— Ребенка, и, правда, нет. Сначала был, а теперь нет…
Она замолчала, опустив глаза вниз.
— Ничего не получилось, Эдвард… Почему ты мне ничего не сказал? Ждал, когда я все узнаю от нее? Или наоборот надеялся, что я ничего не узнаю?
— Элис, пожалуйста! Давай…— Эдвард остановился, пытаясь подобрать нужные слова. — Я не знал, как сказать тебе, я… струсил. Я боюсь тебя потерять! Но я хотел, чтобы ты знала правду, я собирался…
Зеленые глаза с усмешкой взглянули на него.
— Решил облегчить свою совесть за мой счет, Милн? Рассказать «правду»? Я надеюсь, это вся правда или есть что-то еще?
Элис устало закрыла глаза, обнимая себя за голову и пытаясь унять боль.
— ...Вряд ли у нас что-то получится, Эдвард. Понимаешь, я совсем не умею любить.
— Но здесь ты… — Милн отыскал все ту же тетрадь в голубой обложке. — …Ты пишешь, что любишь меня. Это — правда?
— Да, — Элис говорила, не отводя от его лица пристальный взгляд. — Но это было очень давно, а сейчас слишком больно. И я не знаю, не понимаю, что происходит.
Она провела рукой по плечу и задрожала. Сделав круг по комнате, Элис резко остановилась.
— Ты сказал, что хочешь, чтобы я осталась?
— Да.
— Я вернусь, но при одном условии.
Эдвард облегченно вздохнул и улыбнулся, но стоило ему услышать следующую фразу, как улыбка сползла с лица.
— Харри и Агна Кельнер должны развестись.
Вздохнув, Эл перевернула подушку на холодную сторону, и устало закрыла глаза. Она снова не могла заснуть. Сквозь неплотно задернутые шторы в окно проникал свет от электрических фонарей. Преломляясь в темноте спальни, он становился светлее, укладываясь на ковре и стенах комнаты мягкими, светлыми линиями. И длинными, словно лучи прожектора. Элис следила за одним из таких лучей.
Пробежав сквозь стекло в оконной раме, луч осмотрелся в окружившей его тьме так робко и бледно, словно боялся, что черный цвет поглотит его и заставит исчезнуть. Но проходили секунды, за ними — минуты, а он все не таял и не исчезал. Задумчиво остановившись на месте, в круглом светлом отблеске на ковре, луч подбежал к дверце шкафа, и, осмелев, — ярко, со всей силы, на которую, может быть, он был способен, — высветил ее своим сиянием: лаковый угол приоткрытой дверцы, за которой жили платья Элис, и красивую резную ручку на двери платяного шкафа.
Проследив за электрическим лучом блестящими глазами, Элис отвернулась. Но луч не был глупым: он успел заметить этот тревожный взгляд. Может, именно этой девушке принадлежал ковер, и даже весь этот шкаф, и, увидев, что он без приглашения проник в ее спальню, она разозлилась? Беззвучно пробежав по стене, луч остановился прямо над темными волосами девушки. Конечно, в темноте все могло казаться черным, но отчего-то луч был уверен, что ее волосы темные, но не черные. Желая это проверить, он наклонился ближе, и высветил кончики коротких волос. Увидев, что волосы — темно-рыжие, как густой огонь, луч восхищенно вспыхнул и разгорелся еще ярче. Ему хотелось зашипеть, хотя бы чуть-чуть, чтобы выразить свой восторг и дать ей знать, что ее волосы — такого чудесного цвета, который ему еще не приходилось освещать прежде.
Да, наверняка все дело было в его молодости и неопытности, ведь он стал заглядывать в это окно совсем недавно, — чуть больше месяца назад, после установки нового высокого уличного фонаря, от которого он мог тянуться в разные окна, проникать сквозь стекла в рамах, и путешествовать по комнатам. Но ни этой девушки, ни ее оранжевых кудряшек он отчего-то раньше здесь не замечал.
Луч задумчиво постоял на месте, и скользнул еще дальше, к лицу Элис. Ему стало любопытно, как она выглядит, и он засветился на месте, осторожно, чтобы не испугать ее своим слишком ярким свечением. Протянувшись вперед узкой линией, он загорелся в полную силу, выхватывая из темноты бледную кожу девушки. Луч очень долго наблюдал за ней, а вот она все никак не отзывалась на его свечение.
Это его удивило. Ведь обычно люди, и большие, и маленькие, — стоило ему проникнуть в их комнаты, — быстро просыпались от его света и недовольно морщились в темноте, закрывая руками сонные, помятые лица. Но это лицо не было помятым, и не было сонным. Оно было только отчего-то очень грустным и печальным. Луч понял это, когда зацепился за каплю на щеке девушки. Капля медленно скатилась вниз, пересекая его свечение, а потом девушка быстро смахнула ее куда-то в сторону, и она исчезла. Но на ее месте появилась новая, а за ней — еще и еще. Они бежали по лицу неровными прозрачными дорожками, — вниз и в сторону, и, оставляя за собой следы, снова и снова исчезали за ладонью девушки с бледной кожей и темно-рыжими, как огонь, волосами.
Луч подкрался ближе, отмечая своим сиянием ее красивые глаза, которые от слез поменяли цвет, и стали еще ярче. Теперь они светились темно-зеленым, как густая трава, растревоженная порывами ночного, грозного ветра. А потом… Луч исчез, потому что несмотря на темноту комнаты, за оком стало светло, и фонарь, от которого он разбегался по комнатам дома на Клот-Фэйр-стрит, выключили.
* * *
Эдвард заметил Эл сразу, как только она вышла из-за угла дома. На ней было черное платье с вышитым красным цветком и светлое пальто. Здесь, в Лондоне, она почему-то перестала носить шляпки, и, отходя от стены здания, которое в это утро он выбрал в качестве наблюдательного пункта, Эдвард с удовольствием наблюдал за тем, как рыжие волосы Элис блестят в лучах утреннего солнца.
На какое-то время она пропала из виду, скрытая толпой прохожих, но через несколько секунд он снова ее увидел, быстро отмечая про себя все детали внешнего облика: торопливый шаг, большую папку, которую Элис прижала к груди и держала за край, очевидно, для того, чтобы ее содержимое не выпало на тротуар, и улыбку, с которой она смотрела в сторону, на девушку, шагающую рядом с ней. Они увлеченно о чем-то говорили, — пару раз до Милна донесся их громкий смех, — а потом он вышел вперед, и Эл, которая до этого момента его не замечала, врезалась в Эдварда. Смех оборвался, папка упала на землю, укрывая ее рисунками, нанесенными на большие, белые листы.
— Ты?..
В первую секунду, от неожиданности, Элис посмотрела на Милна растерянно. Но вот взгляд переменился, стал печальным, злым и замкнутым. Она замолчала и присела, торопливо собирая рисунки. А ее знакомая с интересом смотрела на блондина, который, присев напротив Эл, помогал ей собрать бумаги. Аккуратно сложив листы, он протянул папку Элис, и она вырвала ее из его рук.
— Агна, ты нас не представишь? — спросила девушка, рассматривая лицо Милна, который при звуке псевдонима Элис удивленно, с улыбкой, посмотрел на «фрау Кельнер».
— Нет времени, — резко ответила Эл, избегая внимательного взгляда голубых глаз. — Пойдем, мы опаздываем.
Эшби обошла Милна и успела сделать пару шагов, когда услышала за своей спиной вежливую фразу:
— Харри Кельнер. Приятно познакомиться.
— Как… а разве…
Девушка перевела удивленный взгляд с блондина на Агну, которая, недвусмысленно посмотрев на Кельнера, добавила, разглядывая его лицо:
— Случайность. Однофамильцы.
— Но, может быть, пригласим его на сегодняшний вечер?
Не дождавшись ответа Агны, которая ушла вперед, и теперь ожидала зеленого сигнала светофора, ее знакомая быстро пояснила, доставая из сумочки приглашение и протягивая его Харри:
— Прошу простить ее, обычно она… сегодня в Кенсингтонском дворце состоится торжественный вечер, приходите! Я тоже там буду!
Девушка покраснела и оглянулась в поисках Агны, которая успела уйти далеко вперед.
— Я обязательно приду, спасибо!
Кельнер улыбнулся, наблюдая за тем, как его однофамилица быстро шагает по противоположной стороне улицы. Он перехватил ее взгляд, когда она украдкой взглянула на него. Отвернувшись, Элис побежала вперед, вспугнув стаю утренних птиц, завтракавших хлебными крошками у пекарни, и, испугавшись поднятого ими шума, который состоял из клокотанья и резких взмахов множества крыльев, скрылась за поворотом.
* * *
Залы Кенсингтонского дворца, открытые для посещений королевой Викторией еще в 1899 году, были залиты светом. Немногочисленные гости, приглашенные на закрытый вечер модельера Аликс Бартон, — будущей мадам Гре, — который она устроила в завершении своего курса для начинающих модельеров из Великобритании и нескольких других европейских стран, неспешно скользили по блестящему паркету парадных комнат, любуясь их роскошным убранством. Показав на входе приглашение, любезно подаренное ему сегодня утром, Эдвард прошел через главные двери дворца, надеясь перед началом вечера найти Элисон и поговорить с ней. Отвечая улыбками на приветствия незнакомых ему людей, он обошел несколько комнат, но ни Элис, ни той девушки, которую он видел с ней сегодня утром, Милн так и не нашел. Когда время аперитива подошло к концу, гостей пригласили в небольшую залу, где по случаю торжества была установлена сцена, окруженная столиками.
На некоторых из них Милн заметил таблички с цифрами от одного до пяти. На столиках поменьше, очевидно, предназначенных для гостей, не было никаких обозначений, и, оглянувшись по сторонам, он сел за один из дальних, под номером двадцать семь. Официант, до этого безмолвно стоявший у двери, подошел к нему, интересуясь, не желает ли он заказать что-нибудь из напитков, и Милн попросил принести бутылку шампанского и два бокала.
«В форме тюльпана, пожалуйста».
Верхний свет погас и теперь лица и фигуры гостей освещались только небольшими светильниками, установленными в центре каждого стола. На сцену вышла невысокая женщина. Остановившись у стойки с микрофоном, она неторопливо осмотрела зал строгим взглядом темно-карих глаз, и, помолчав, начала свою речь, в которой, после того, как Аликс Бартон, — а это была именно она, — представилась, было сказано о моде как об искусстве.
— …Мода способна удивительно тонко передать любовь. Любовь к красоте человеческого, женского тела. На протяжении нескольких недель я обучала начинающих модельеров тому, что умею и люблю сама, прививая им любовь к изысканному стилю и навыки скульптурного обращения с тканью. В последние годы некоторые известные кутюрье, такие как Мадлен Вионне и Жан Пату, ввели популярную сейчас технику, основанную на драпировке по косой. Тому, насколько чувственным может стать наряд благодаря умелой драпировке, и посвящен сегодняшний вечер. Я привыкла драпировать ткани на моделях, а не на безжизненных манекенах, и то, что сейчас вы увидите как самые обычные, на первый взгляд, отрезы материи, станет на ваших глазах великолепными платьями. Наряды, в которых девушки выйдут на сцену, сделаны ими, а я, если сочту платье достойным, добавлю к нему драпировку. И прежде, чем мы начнем, я прошу поднять руки тех гостей, которые желают выступить в качестве жюри этого небольшого конкурса.
Мадам Бартон замолчала в ожидании ответов, а гости, удивленно переглядываясь, начали обсуждать это неожиданное предложение, которое застало Милна как раз в тот момент, когда официант принес его заказ, — ведерко с шампанским, засыпанное крупными кубиками льда, и два высоких бокала. Следуя интуиции, на секунду остановившей его пульс, Эдвард вскинул руку вверх, и стал первым среди жюри конкурса. Он неторопливо прошел по залу под общие аплодисменты, занимая место за центральным столом в первом ряду, на котором были разложены те самые таблички, которые он уже заметил раньше. Перевернув одну из них, он увидел цифру «5», и модельер, словно прочитав его мысли, пояснила, что на табличках указаны баллы, которые члены жюри должны будут выставить каждому из семи представленных сегодня платьев. Примеру Милна последовали еще несколько человек, и скоро все свободные места в жюри были заняты. Вечер объявили открытым.
Девушки выходили на сцену поочередно. Сначала они делали полный проход перед гостями, демонстрируя свои собственные платья, созданные под руководством Аликс Бартон, и, вернувшись к центру сцены, останавливались. Их педагог, критично осмотрев платье, либо объясняла, почему на той или иной модели сделать драпировку невозможно, либо, — что служило негласным признанием способностей ученицы, — подходила к девушке, и, похожая на бойкого маленького воробья, добавляла к платью драпировку. Пальцы мадам Бартон колдовали над тканью так быстро, порывисто и страстно, что даже если у дам, бывших среди гостей, и возникало желание подсмотреть данную технику, чтобы позже применить ее для своих нарядов, это казалось едва ли возможным.
Агна Кельнер была последней, седьмой участницей показа. Она вышла на сцену в длинном вечернем платье ярко-оранжевого цвета. Левое плечо осталось обнаженным, а на талии уже была сделана небольшая драпировка, в которой основная, оранжевая ткань платья была переплетена в широкие жгуты с темно-фиолетовой тканью той же фактуры. В полной тишине девушка медленно прошла по сцене и, вернувшись к ее центру, остановилась прямо напротив Милна, замершего на своем месте с тех пор, как она вышла из-за кулис.
Сердце громко отбивало глубокие удары где-то в груди, и они были такими шумными, что Милну казалось, будто их слышат все вокруг. Весь его мир вытянулся в линию. На одном конце этой черты была Элис в чудесном платье, подчеркнувшим ее редкую, аристократичную красоту, — светлый тон кожи и рыжие волосы, которые в сочетании с платьем казались огненными, и в отблесках мягкого света блестели темно-красными и желтыми искрами. А на другом окончании черты стоял он сам, Эдвард Милн, — неотрывно наблюдающий каждое движение Эл, — от первого плавного шага до легкого, едва заметного, дрожания тонких пальцев, когда мадам Бартон, рассмотрев ее платье, подошла ближе, и начала делать драпировку на груди.
Эдвард видел, как при первом прикосновении модельера к платью, Элисон вздрогнула, закрыла глаза и что-то прошептала. И в этот миг, — каким бы пошлым и изношенным ни было это сравнение за все время, что существует мир, и каким бы новым оно не казалось для того, кто полюбил впервые, — для Эдварда Эл была подобна божеству, — неземному, невероятно прекрасному. И наблюдать за ней здесь, на земле, было сродни галлюцинации или разгоряченному наваждению, а может, и тому, и другому одновременно.
Милн нервно сглотнул, когда Аликс Бартон, отступив в сторону, показала зрителям свою драпировку. Сплетенная из тонких, узких складок ткани, она начиналась на правом плече Эл, и, пробегая по лифу платья наискосок, великолепно, идеально вплеталась в драпировку, уже сделанную «фрау Кельнер» на талии. Зал зазвучал аплодисментами, а модельер и модель улыбнулись зрителям со сцены. Когда овации стихли, жюри выставили оценки последней конкурсантке, и, по итогам показа, именно она стала победительницей этого маленького показа мод. В завершение вечера мадам Бартон объявила танец, и ушла за кулисы.
Милн подошел к сцене, намереваясь пригласить Элис, но перед ней уже стоял другой мужчина. Вытянув руку вперед, он как раз был в процессе произнесения долгого и галантного приглашения на танец. Оглянувшись на Милна, и сбитый со взятого им тона сначала хмыканьем блондина, а потом и его взглядом, в значении которого можно было ошибиться только будучи полным идиотом, мужчина неловко отошел в сторону, освобождая путь. Эдвард, как и его предшественник, протянул руку Элис, но она, проигнорировав его жест, подошла к лестнице и, приподняв подол платья, спустилась со сцены.
— По-прежнему не оставляете другим выбора, герр Кельнер? Убеждены, что из всех будут выбирать только вас?
Элис усмехнулась и прошла мимо. Она была в центре зала, когда Эдвард взял ее за руку и увел в танец. Окруженная другими парами, Эл не успела понять, что происходит, и машинально положила руку на плечо Милна. Обнимая ее за талию гораздо сильнее, чем того требовал танец, Милн неотрывно смотрел на Элис. На ее плотно сжатые, полные губы, и глаза, направленные вверх и в сторону, — куда угодно, только чтобы избежать его взгляда; на ямочку у основания шеи, в которой быстрыми толчками бился пульс, и которая, — когда Элис повернулась, — выделила на шее изящную линию, уходящую вверх; на грудь, которая от прерывистого дыхания поднималась слишком часто, и светлую кожу, — обнаженную на плече, и бледную, — на красивом лице, созданным из тонких черт.
— Выслушай меня, Эл. Пожалуйста.
Темно-зеленые глаза посмотрели на Милна.
— Теперь ты хочешь со мной говорить?
Элис убрала руку с плеча Эдварда, выставляя ее как барьер между ними, и почти вырвалась из его объятий, когда к ним подошла Аликс Бартон.
— Простите, что помешала. Агна, я приношу вам свои извинения. Когда вы появились в моей учебной группе, я была настроена к вам весьма скептически, даже враждебно. Виной всему мое неприятие… Германии, — мадам Бартон помолчала, — сегодняшней Германии. Но вы, — она окинула острым взглядом фигуру девушки, — приятное исключение. У вас есть чувство красоты и вкус. Для модельера это очень важно, и я желаю вам удачи.
— Спасибо, мадам!
Агна радостно улыбнулась, с благодарностью смотря на педагога. Аликс кивнула и перевела взгляд на блондина.
— Вы очень красивый мужчина, — позвольте говорить без обиняков.
Мадам Бартон сделала шаг вперед, собираясь уйти, но, повернувшись к застывшей на месте паре, добавила:
— А вместе вы просто прекрасны.
Темные глаза Аликс внимательно разглядывали Агну и Харри.
— Берегите друг друга.
После этих слов женщина обошла танцующих и вышла из залы, а Элис, растерянно улыбнувшись, посмотрела на Эдварда.
— Я выслушаю тебя. Только не здесь.
Она оглянулась на дверь, которая выходила в сад. Обрадованный переменой, Милн крепко сжал ее руку, и повел за собой.
* * *
Как только они вышли, Элис, отстранив руку Милна, пошла впереди, останавливаясь у высокой живой изгороди, и проводя кончиками пальцев по мелким бутонам цветов. Эдвард, не успев остановиться, и больше не сдерживая себя и не делая паузы, быстро проговорил:
— Я люблю тебя, Эл. Всегда любил, с первого дня нашей встречи, здесь, в Лондоне.
Он остановился рядом с ней.
— Я не хочу, не могу без тебя. Ты мне очень нужна. Я скучаю по тебе.
— Этого мало, Эдвард.
— Что?
Милн нахмурился, непонимающе глядя на нее.
— «Я люблю тебя». Этого мало. Ты говоришь, что полюбил меня в первый же день. Если это правда, то почему твоя любовь ко мне не помешала тебе переспать с Ханной? — глухим голосом спросила Элис, сосредоточенно рассматривая цветы.
֫— Это ошибка, Эл. Моя страшная, глупая ошибка. Я предал тебя, и мне очень жаль. Не проходит ни дня, чтобы я не думал о тебе, о нашей жизни в Берлине. Мое предательство не дает мне покоя, и я это заслужил.
Элис сорвала крохотный темно-розовый бутон, и посмотрела на Милна через плечо блестящими от слез глазами.
— Это всегда так, да?
— Как?.. Что, Эл?
Дрожащие губы Элис растянулись в мучительной улыбке, едва успевшей показаться на ее лице.
— Это. Все это… Измена, ложь, признание, боль, раскаяние, слезы, и прощение… Это всегда так, да? Всегда, Эдвард?
— Я… — растерянно, шепотом протянул Милн, не находя слов, не зная, что сказать.
— С начала времен, для всех и всегда, правда? Ничего нового, «с кем не бывает!», да? — Элис посмотрела на Милна, и горько заплакала, прижимая руку к груди. — А я не хочу так, Эдвард, не хочу! Не хочу этой боли, не хочу, чтобы ты просил у меня прощения, не хочу, чтобы ты ждал его или считал себя обязанным. Зачем причинять такую боль, если любишь?... Это так больно, так больно!
Элис задрожала и схватилась рукой за изгородь, удерживая равновесие.
Почувствовав, что Эдвард обнимает ее, она сжалась всем телом, отстраняясь от него как можно дальше. Милн отступил назад, с болью наблюдая за ней.
— В тот вечер я потеряла нашего ребенка. Я знаю, это моя вина, хотя ты и говорил обратное. Но мысль о том, что он умер, когда ты…
Элис замолчала, не в силах закончить фразу. Горло свело судорогой. Наступила долгая, мучительная тишина, прерываемая только хриплым дыханием Эл. Придя в себя, она быстро, единым дыханием, произнесла:
— Когда ты спал с ней, с этим… — она оглянулась на Эдварда, — я не знаю, что делать. И я не знаю, как верить тебе. Ты просил верить тебе, но я не могу, у меня больше не получается.
Снова послышались судорожные, рваные всхлипы, после которых Элис, собрав силы, сказала:
— И нет больше никакой нашей жизни в Берлине. Этот город… он… как будто на другой планете, кровавой и мрачной. Я туда больше не вернусь. Нет!
Элис покачала головой, убирая волосы от лица.
— Эл, прошу, прости меня!
Девушка посмотрела на Милна, и в ее взгляде было столько боли и горечи, столько сочувствия к себе, к нему, к ним обоим, запутавшимся во всем, что у Милна перехватило дыхание.
— Эл…
— Знаешь, что самое гадкое?
Проследив за тем, как по лицу Эдварда скатилась и упала слеза, Элис сдавленно прошептала:
— Я не могу тебя ненавидеть, Эдвард Милн. У меня это тоже не получается. — Элис усмехнулась. — Я пробовала.
Она подняла глаза вверх, заглядывая в бледное, больное лицо Милна.
— Ты еще любишь ее?
— Нет! — Эдвард так резко затряс головой, словно это движение могло помочь ему уничтожить даже само предположение о том, что он любит Ханну. — Я никогда ее не любил. Мы поссорились с тобой в тот вечер, ты сказала, что боишься рожать, боишься за ребенка, и я…
Он сделал глубокий вдох, быстро, одним ударом, заканчивая фразу:
— Решил, что ты не любишь меня, и не хочешь этого ребенка, потому что он — от меня, и я…
— Ты…— Эл задохнулась и схватилась за горло. — …Так меня понял, да?! Я сказала, что боюсь за него, но не говорила, что не хочу его!
— Я знаю, Эл, знаю! Прости меня!
Элис засмеялась, и почувствовала, как огромная усталость наваливается, вытягивая из нее силы.
— Я не успокоюсь, пока ты меня не простишь, — горячо прошептал Милн, глядя на нее.
— Делай, что хочешь, ты абсолютно свободен. Скоро ты уедешь в Берлин, а оттуда тебе будет довольно сложно следить за мной, как было неделю назад или сегодня утром.
По молчанию Эдварда Элис поняла, что застала его врасплох.
— Или ты думал, я ничего не замечаю?
Милн закрыл глаза и с отчаянием спросил:
— Тогда зачем ты назвалась Агной Кельнер здесь, в Лондоне, если не хочешь возвращаться в Германию?
— Потому что это Агна Кельнер ходила на занятия к мадам Бартон. И потому что будет жаль, если у Харри Кельнера, когда он снова приедет в Берлин, будут неприятности из-за такой ерунды. Хотя гестапо достаточно и меньшего, сам знаешь. — Эл передернула плечами от холодного ветра. — Просто скажи им, что с Агной что-нибудь случилось, или что она оказалась негодной женой, изменявшей Харри, истинному арийцу, с каждым встречным… Недавно я слышала, как Магда Гиббельс сказала, что с точки зрения настоящего патриота Германии бесплодие женщины недопустимо. Скажи им это, они проглотят.
— Нет! Эл!
Заметив, как она вздрогнула от холода, Милн снял смокинг и укрыл им Элис, задерживая ее в своих руках как можно дольше, чтобы успеть достучаться до ее сердца.
— Что мне сделать, чтобы ты простила меня?!
От подступившей боли ее лицо снова исказилось. Элис отошла от Милна, взглянула на него, и убежала.
Было около шести утра, когда Элис вошла в кабинет генерала Баве. От стука каблуков и громких торопливых шагов Коттлера, бежавшего следом за ней, Рид вздрогнул и случайно сбросил со стола свой лицевой протез. Накладка, днем закрывавшая половину его лица и раздробленный нос, похожая на бабочку плавной, причудливой формы, со стуком упала на пол.
— Какого чер… — Баве сонно посмотрел на Эшби, перевел взгляд на протез, и резко отвернулся. — Вас не учили хорошим манерам Эшби?! По какому праву вы врываетесь в мой кабинет без предупреждения, в такую рань?!
Генерал кричал, сидя на стуле. Его очки, как и протез, лежали на полу, и Баве слепо шарил рукой по паркету, раздражаясь с каждой секундой все больше.
Быстро обогнув стол, Элис присела перед генералом, протягивая ему в одной руке протез, а в другой — очки. Руки ее слегка дрожали, когда она вытягивала их вперед.
— Прошу простить, что испугал вас своим внешним видом!
Рид хлопнул себя по ноге, вырывая у Элис протез и очки. Снова отвернувшись от нее, он молча смотрел на свои руки. В правой — очки, в левой — эта чертова маска, похожая на кусок пластилина, выдержанный в формальдегиде. Она казалась слишком бледной, но, на самом деле, ее цвет «идеально повторял тон кожи» Баве, как заверила его Анна Лэдд, — скульптор, изготовившая ее для него по индивидуальному заказу.
Индивидуальный заказ.
Битва при Сомме, газ в Ипре, сжигающий внутренности, — это ведь тоже «индивидуальный заказ»? Черт бы подрал этих немцев! Уйдя вслед за своими мыслями, Баве долго, недвижно сидел в своем генеральском кресле. Наконец, тихие шаги Эшби вернули его из воспоминаний в действительность, и он быстро нацепил прохладную маску на лицо, и сверху, — на появившийся благодаря ей нос, — очки.
— Извините, генерал. Мне не стоило приходить так внезапно.
Элис остановилась перед Баве, и в поле его зрения появился подол платья, напомнивший ему своим цветом кожуру спелого апельсина.
— Да, вам не стоило!..
Рид закашлялся и наклонился вперед. Апельсиновое платье почему-то не исчезло, а, наоборот, даже, кажется, приблизилось к нему, покачиваясь перед ним яркой, мягкой волной. И откуда-то сверху, — как знать, может, с самого неба? — до него долетел вопрос:
— Я могу вам помочь?
Ему хотелось выругаться. Закричать во всю силу поврежденных хлором легких, чтобы она проваливала отсюда к чертовой матери! Выругаться грязно, по-солдатски. Как тогда, в окопах, среди таких же, как он, измазанных грязью, кровью и мочой, новобранцев.
Рид сделал глубокий вдох. С тех пор прошло много лет. Он даже умудрился стать генералом. А генералы тем и отличаются от перепуганных солдат, что ругаются не всегда, как того хочется.
Мутные ото сна глаза Баве остановились на Элисон Эшби. Губы, отказавшись подчиниться генералу, довольно чмокнули, когда мозг, быстро проанализировав ее внешний вид, доложил ему по всей форме, что она по-прежнему весьма привлекательна. Впрочем, он это помнил еще с первой встречи. Вот она, стоит перед ним, чуть наклонившись вперед, и смотрит на него с таким выражением, словно и правда хочет помочь. Не отвечая на ее вопрос, Рид трясет тяжелой головой, и спрашивает именно то, что интересует его в этот момент больше всего на свете:
— Вам разве не страшно?
Его рука рисует в воздухе поломанный круг, пытаясь адресоваться к увечьям лица, уже скрытым полумаской и очками так искусно, что их почти не видно. Но апельсиновая девочка молчит, смотрит на него все с тем же вроде-бы-сожалением, и чуть-чуть качает головой. Нет.
Генеральские полные губы, которые только что вынесли ее внешности высокую оценку, растягиваются в стороны. Он бы очень хотел поговорить об этом «нет», и о том, что она смотрит на него вот так, слишком пристально. Настолько, что это он, — пошлый, старый и грузный, испытывает от ее взгляда что-то чужеродное, вроде забытого в далекой юности смущения, и потому отводит глаза в сторону. Нужно сделать что-то, прекратить этот въедливый взгляд пытливых зеленых глаз! Рука генерала касается лба, покрытого каплями холодного пота, проводит по нему, и указывает куда-то вперед и в сторону.
«Да, именно так. Отойди от меня, апельсиновая девочка. Так ты не сможешь пялиться на меня своими глазами».
Она уходит, садится на стул, прежде расправив платье, вздрагивает и ведет плечом в сторону. Переводит взгляд за окно, пытается в нем что-то рассмотреть, но, набрав в легкие побольше воздуха, — Рид отметил, как ее грудь поднялась чуть выше, — говорит:
— Я хочу подписать бумаги о моем увольнении.
Позвольте, как? Увольнение?
А как же разведка, задание, на худой конец, — служение Ее Величеству и Великобритании?
Нет.
Баве кричит Коттлера, который, запнувшись обо что-то, подобно косой пуле, влетает в его кабинет. Генерал не лишен вежливости, а потому он предлагает Элисон Эшби чай.
И как бы ей не хотелось быстрее уйти, она натянуто улыбается, остается.
One cup of tea.
Идиот Коттлер хочет уйти, но вовремя слышит шипение генерала, и, — о чудо! — правильно его понимает! Слушает пару слов, сказанных ему на ухо, и мгновенно исчезает за дверью. Конечно, чтобы через несколько минут принести блестящий серебром чайный сервиз, свежий чай и бисквиты. Рыжая девочка удивленно смотрит на них и отказывается попробовать. Изящно берет в руки только крохотную чайную пару, и отпивает крохотный глоток черного чая.
Свет, проходя сквозь окно, красиво высвечивает ее фигуру и лицо. Все портит только какой-то неудачный, неуместный черный пиджак, вернее, смокинг, — слишком большой, чтобы она могла носить его всерьез. Рид объявляет ей, что документы почти готовы, нужно только чуть-чуть подождать. Быстро кивнув, она ставит чашечку на блюдце и потом, — на маленький столик слева.
Готовится ждать, догадывается Баве, и довольно улыбается. Ему нравится наблюдать за этой девочкой. Есть в ней что-то помимо красоты… То, ради чего можно претерпеть многие и многие трудности.
Неужели сердце?
Забавно.
Она морщит носик в ответ на какие-то свои мысли, взгляд из задумчивого и ожидающего становится тревожным, возвращается в кабинет Баве. И вот она хлопает ладонями по карманам странного большого смокинга, накинутого на плечи, словно чужое врановое крыло, и достает из правого кармана сигареты и зажигалку. От звонкого щелчка и вспыхнувшего за ним огонька сигарета зажи… нет. Рука застывает в воздухе, недоуменно останавливаясь на полпути, и отходит назад. Блестящие зеленью глаза внимательно рассматривают узкую серебряную зажигалку, и рука снова подносит ее к кругу сигареты.
Слышится легкое шипение, за которым следует дым и неловкий кашель того, кто курит в первый, самое большее, во второй раз. Часы на стене услужливо тикают, носки туфель, выглядывая из-под платья девушки, нетерпеливо раскачиваются, и Баве смотрит на дверь, которая, — то ли сама по себе, то ли от силы наложенного на нее генералом гипноза, — наконец, открывается, тихо пропуская высокого блондина и мелкого, костлявого даже в военной форме, Коттлера.
Рид умудряется одной рукой раздать знаки обоим мужчинам, — высокому и худому «проходите, скорее!», а костлявому и неуклюжему — «вон отсюда и не мешать!». Послушные люди, словно шахматные фигурки, занимают предложенные им места.
Вот он, Милн. Про таких говорят «статный». Тот, кто, появляясь в комнате, притягивает к себе внимание, которого становится все больше потому, что таким как он, — кажется, всегда выдержанным, с ироничным отношением ко всему, — оно не нужно.
Про таких говорят… Про таких много всего говорят. Дамы сплетничают и шепчут, мужчины часто завидуют, — легкости, небрежности, какому-то неуловимо-наплевательскому шарму, которого у них, почему-то, нет, а вот у него, почему-то, есть. Короче говоря, такие, как Милн пользуются успехом в человеческом обществе. Этакий Ретт Батлер на службе Ее Величества. Только без усов и бриолина, и вообще, — блондин. Но зажечь спичку о подошву ботинка наверняка сумеет. Как и сломать челюсть, если что-то пойдет не так. Рид видел, как однажды, на тренировочных занятиях, этот агент, — тогда еще курсант, которого только планировали привлечь к какому-нибудь делу, а пока просто хотели посмотреть, на что он способен, — по-видимому, не рассчитав силу, сломал челюсть своему сопернику. Парня вынесли из зала двое. А этого с тех пор некоторые стали обходить стороной. Мало ли что.
Баве повернул голову, рассматривая Милна. Поглощенный своими мыслями, он, тем не менее, моментально почувствовал на себе взгляд генерала, и вопросительно посмотрел в ответ. Что ж, действительно пора.
— Эшби, вы хотите уйти из разведки, не так ли?
Торопливый кивок головой.
— Я не могу вас отпустить. Видите ли, я против.
Присев на край стола, Баве сводит пальцы пирамидой, и с готовностью смотрит на Элисон. Опять она хмурится. Не понимает! Теперь улыбка растягивается на лице генерала.
Но когда становится ясно, что к ней он не прибавит ни единого слова, Эшби задает новый вопрос, и голос ее в начале дрожит и сбивается:
— Что это значит?
Господь всемогущий, сколько раз он слышал подобное! Рид вздыхает, опуская голову вниз, и неторопливо рассматривает свои руки. Подышав на ухоженные ногти, он проводит ими по мундиру, демонстрируя своей широкой улыбкой, что вся эта ситуация ему очень нравится.
— Ровно то, что все это, — он обводит руками свой кабинет, — значит. Я вас никуда не отпускаю. Вы мне нужны. Мне нравится, как вы работаете.
Хмыкнув, Эшби неуверенно смеется.
— Что за вздор, генерал? Я не умею работать в разведке. Спросите хотя бы моего напарника.
Баве согласно кивает, бормочет «спрошу, спрошу» и начинает свой первый круг возле Эшби.
Пташка весьма напугана. Крутится, вертится на стуле.
Боится, что не выпустят.
Правильно.
Она выглядит уже не так уверенно, как прежде. Даже не поправляет большой смокинг, который тихо сполз с ее плеч и уютно устроился за спиной, словно черный, блестящий кот.
Когда Баве делает второй круг, с удовольствием рассматривая ее обнаженное вырезом платья плечо, она неотрывно следит за ним. Еще чуть-чуть, и слова сами сойдут с ее губ.
— Вы не можете держать меня силой!
Поцокав языком, генерал кивает, — что правда, то правда, не может. Опять возникает длинная пауза. Как длиннота.
Неудобная.
Неловкая.
Вязкая.
Очень тяжелая, — не вздохнуть.
Завитки ее рыжих волос, темнея у шеи, легко покоряются его дыханию, когда наклонившись, он медленно произносит:
— А как же ваш брат?
Вот оно!
Испуганный, взволнованный, резкий взгляд!
— Вы еще хотите его найти?
Она кивает прежде, чем он успевает закончить вопрос. Ну ладно, для первого раза довольно. Хлопнув в ладоши, генерал возвращается к столу.
— Это ты рассказал?!
Лицо рыжей девочки резко поворачивается в сторону Милна, на которого она до этой минуты даже не смотрела.
— Элисон, успокойтесь, милая! К чему такие нервы?
Елейный голос Баве перебивает ее гнев.
— Агент Милн ничего мне не говорил. Да и зачем, если я все знаю сам? У вас есть брат, и вы его ищете, что вполне похвально, семья — это очень важно. Может быть, это и есть та самая причина, по которой вы сейчас находитесь здесь, в нашем скромном мужском обществе?
С губ Элисон срывается какой-то неразборчивый хрип, она хватается за горло, и на несколько секунд закрывает глаза. А когда снова смотрит на генерала, — ему кажется, что как-то неоправданно зло, — то быстро спрашивает:
— Что вам нужно?
— Ну, наконец-то! Поговорим о деле!
Предвкушая, Баве растирает ладони и делает энергичный вдох.
— Вы оба возвращаетесь в Берлин как Агна и Харри Кельнер, и продолжаете сообщать мне все, что касается Грубера и его окружения. Ну а я, — Рид эффектно бьет себя в грудь, — помогаю вам найти брата, Стивена Эшби. Ну как? Правда, хорошо я придумал?
— Генерал, я…
— Та-та-та-та-та! — Баве отрицательно качает головой, призывая Милна молчать. — Элисон, вы согласны?
Зеленые глаза смотрят на Баве, на Милна и снова — на Баве.
— С одним условием.
Ну и характер! Но так даже интереснее. Разведенные в стороны руки генерала готовы принять новый пас.
— Я вернусь в Берлин как Агна Кельнер, но Агна Кельнер разведется с Харри Кельнером.
— C'est impossible, mon chère!
Генерал всплескивает руками и после короткого смешка снова переходит на английский.
— Иначе мое обещание отменяется. Да и где вы, моя милая, видели разводы в нынешнем Берлине, а? Хотя… Милн, что вы скажете? Агна Кельнер может развестись с Харри Кельнером?
— Мне не нравится этот разговор, генерал.
— Это хорошо, очень хорошо! Не все же нам должно нра… правда, Элисон Эшби?
Улыбка спадает с лица Баве как ненужная ветошь, и его голос срывается в истерический крик.
— А мне не нравится, когда мне ставят условия, понятно вам?!
Прокричав фразу над Элисон, вздрогнувшей от его резкого голоса, и по-прежнему сидящей на стуле, Баве подносит указательный палец к шее, отодвигая в сторону жесткий воротничок мундира. Вернувшись к своему креслу, он устало сваливается в него и в этот момент Элисон резко поднимается на ноги.
— «Все, что касается Грубера»?!
Она зло смотрит на Баве, и так же, как и он, переходит на крик.
— Я могу вам сообщить кое-что прямо сейчас, генерал! Гестапо, тайная полиция, становится с каждым днем сильнее. Доносы среди рабочих, доносы за «неверно» сказанное слово, — вот их метод! Любимый прием — похищение людей. Например, Джон Шеер, глава компартии, был выкраден ими из тюрьмы, где он дожидался суда, и убит штурмовиками Рёма, которого самого скоро, вероятно, вздернут! Одна из самых страшных тюрем Берлина называется «Бункер», там пытают и убивают людей! Заслуги… Элис нервно втянула воздух в легкие.
— …Измеряются числом арестованных. У штурмовиков и эсесовцев есть свои лагеря, где находятся тысячи людей. Просто так, без суда и следствия, как враги нового режима! Если вы спросите мое мнение, то я думаю, что их просто убьют. Всех. И…— голос сорвался, вынуждая Элисон сделать паузу и восстановить дыхание, —… Лагеря штурмовиков эсэсовцы закрывают не потому, что там убивают людей. А потому… потому что они принадлежат штурмовикам, с которыми СС ведет борьбу за власть!
Эшби судорожно дышит, обводит тяжелым взглядом Баве и Милна. Эдвард поднимается, подходит к ней, но она качает головой, предупреждая, чтобы он к ней не приближался. Затем Элисон устало опускается на стул и уже тише, почти шепотом, продолжает:
— Знаете, что написали в еженедельнике «Ринг» о пожаре в рейхстаге?
Эшби облизала пересохшие губы.
— «Как это возможно? Неужели мы действительно являемся нацией слепых баранов? Где искать авторов этого преступления, так уверенных в том, что они делают? Может быть, эти люди из высших немецких или международных кругов?».
В глазах Элисон блестят слезы, и она тихо спрашивает Баве:
— Генерал, вы знаете клич нацистов?
Когда он растерянно трясет головой, Элисон отвечает сама.
— «Да сдохнет жид!».
Помолчав, она снова обращается к генералу.
— Почему вы нам не верите? Думаете, все это можно выдумать?
— Поймите, я должен… проверять информацию. Я… я не могу верить всему.
Голос Баве зазвучал изумленно, словно с каждым своим словом он стал все больше и больше удивлялся тому, что он, генерал Рид Баве, существует. Элисон провела рукой по платью, сжимая ткань в кулаке.
— Я вернусь в Берлин, сделаю все, как вы говорите. Но вы выполните свое условие и поможете мне найти брата!
Застигнутый врасплох такой наивной горячностью и верой в то, что он сдержит обещание, Баве утвердительно кивнул. Милн, подойдя к Элисон, наклонился над ней, и протянул стакан с водой. Неловко сжав его, она жадно выпила всю воду, и взяла из руки Эдварда белый платок. Промокнув губы, Элисон благодарно кивнула, не осмеливаясь смотреть на него.
— Эдвард, у меня к вам несколько вопросов, — все еще неуверенно протянул Баве, осторожно посмотрев в сторону притихшей Элисон. — То, о чем говорит Эшби, правда?
Милн, оглянувшись на Элис, подошел к Баве и утвердительно кивнул.
— Кроме того, в сентябре прошлого года антифашистский комитет организовал здесь, в Лондоне, международную комиссию по расследованию поджога рейхстага…
— Да, я знаю, прокурором был Стеффорд Крипс.
— Именно. Помните, что он сказал?
Баве вопросительно посмотрел на Милна, и тот процитировал:
— «Имитация этого судебного разбирательства не имеет юридической силы, и проводится с целью выяснить истину из-за определенных обстоятельств не способную проявиться в самой Германии».
— Вы думаете…
— Я думаю, что все мы недооцениваем Грубера. Это надолго, генерал. С учетом уже пролитой им крови, да. Уверен. И я не знаю, насколько сильно мы сможем помешать его планам. Если вообще сможем.
Баве покрутил головой из стороны в сторону, и, не найдя подходящих слов, предпочел сменить тему.
— А как ваша командировка от «Байер»?
— Харри Кельнер рекомендует руководству заключить выгодный контракт с фармацевтической компанией в Лондоне, The Beecham Group или просто The Beecham.
— Это не вызовет подозрений там?
Баве кивнул в сторону окна, словно нацисты из концерна «Фарбениндустри» сидели в глубокой засаде под окнами его кабинета и слушали их разговор.
— Я предложу им таблетки Бичема[ Слабительное, которое производилось компанией The Beecham.], — Милн беззвучно рассмеялся, и вдруг серьезно добавил. — Мы улетаем в Берлин сегодня ночью. Шифровку отправлю как обычно.
Баве снова безмолвно кивнул, на этот раз в сторону Элисон:
— Я не слишком?.. Никогда не понимал женщин. То плачут, то смеются, а то задыхаются от нежности в твоих объятьях.
Лицо Милна чуть вытянулось, но он предпочел не комментировать это замечание. Впрочем, не лишенное своей верности. Накрыв плечи Элисон смокингом, Милн протянул ей руку. Взгляд Эл пробежал по длинным пальцам его руки. Крепко сжав ладонь Эдварда, она поднялась со стула, и, задержав взгляд на хмуром лице Рида, вышла из кабинета в сопровождении Милна.
* * *
Всю дорогу до дома Элисон на Клот-Фейр-стрит они шли молча. Утро просыпалось все ярче, солнце становилось сильнее, и в переулках Лондона освещало их фигуры багряно-солнечным, прозрачным в тишине и высоте неба, светом. В прозрачных лучах блестели фары автомобилей и углы зацепленных солнцем домов. Мечта Эдварда сбылась, — он снова оказался перед дверью, ведущей в дом Элис. Той самой, с изразцовыми, разноцветными осколками-стеклами, будто сотканными из небесной радуги.
И Элис была рядом с ним: стояла тихо и молча, думая о чем-то своем, а перед входом в дом сняла с плеч смокинг, сложила его половинками внутрь, и протянула Милну.
Он накинул его на сгиб руки, коснувшись внутренней стороны ворота, сшитого из черного шелка. Нежная, блестящая ткань еще хранила тепло Эл, и от этой мысли Эдвард улыбнулся, — просто и чуть-чуть, как будто хотел сохранить эту минуту на память.
— Ты совсем не спала?
Черный блестящий ботинок с острым носком шумно проехал по гравию взад-вперед, отвлекая на себя внимание Милна, который внимательно следил за своим собственным движением, не поднимая взгляд на Элис.
Она пожала плечами, и тихо проговорила:
— Я давно хотела тебе сказать… Мне жаль, что ты видел меня такой.
Милн вскинул голову, непонимающе смотря на Эшби.
— Когда я приняла те таблетки.
На лбу Милна пролегла складка. Наверняка сейчас он понимал Элис не больше Рида Баве, который в ней не понимал ничего.
Отличие между ними было, пожалуй, в том, что генерал, давно разочаровавшись в окружающем мире, поддерживал себя только иронией, которая, — если смешать ее с большим количеством алкоголя и сальной пошлости,— легко переходила в горький сарказм, отравлявший, прежде всех, его самого. А Милн, полюбив Элис, хотел узнавать и разгадывать ее снова и снова, день за днем, — каждое утро и каждую минуту, которые где-то, может быть, отмерены им, и ссыпаны золотыми, легкими искрами в большие песочные часы. Только бы песка в верхней половине часов было больше…
Сердце Эдварда вздрогнуло глухой надеждой, когда Элис сказала, что им нужно «определить правила».
— Правила?
— Да. Если мы продолжим работать вместе, то должны делать это по правилам.
— Вот как?.. И какие правила у тебя, Агна Кельнер?
— На людях я обещаю быть идеальной женой, но ты должен знать, что между нами больше ничего не будет.
— Ты настаиваешь?
— Что?
— Да. Что, Эл?
Милн зашагал широкими шагами, а потом резко развернулся, возвращаясь к Элис.
— Ты можешь говорить все, что угодно, я все равно буду ждать, когда ты простишь меня, и я знаю, — он повысил голос, перебивая возражения Эл, — что простишь. А пока, Агна Кельнер, я буду помнить, как вот этими руками, — Эдвард вытянул руки вперед, — я вынес тебя из гестапо тем утром, и нес так долго, как только мог. Я до сих пор не понимаю, как я оказался перед домом Кайлы, но я знаю, что ты тогда умирала у меня на руках. Я бы разорвал всех, кто причинил тебе боль, Эл, не раздумывая! Но я? Все, что я мог, — это держать тебя крепко, чтобы больше никто, никто, во всем этом мире не смог причинить тебе вред! И я держал, Эл, держал! И разжал руки только для того, что тебя спасли, и я рад, что успел!
Милн посмотрел на Элис в упор.
— И эти воспоминания ты не сможешь забрать у меня, что бы ты сейчас не говорила. Хочешь играть? Что ж, давай, я согласен. Только и ты будь готова к игре, и к тому, что Баве не поможет тебе найти Стива! Но только ты не обижайся на него, потому что, Элисон Эшби, война и грязь меняют людей, и не самым лучшим образом!
Эдвард снова заходил по той же, видимой ему одному, траектории, а потому не сразу услышал вопрос Эл.
— Ты был на войне?
— Был.
Милн тяжело вздохнул, начиная, — по давней привычке, — искать в карманах сигареты и зажигалку, но не найдя их, опустил руки вдоль тела, растерянно и с горечью смотря на Элис. Так, словно она увидела и узнала то, что ей не следовало.
— Я хотел быть архитектором, — Эдвард поднял голову, осматривая высокий белый дом. — Хотел строить красивые здания, в которых люди станут жить счастливо.
— Но оказался в разведке?
Милн усмехнулся.
— Я вырос, и мои архитектурные идеалы разбились об однообразную застройку Лондона, мисс Эшби. Авантюризм в крови, и больше ничего. С ним я и пришел в разведку.
— А война? Как ты оказался на войне?
Эдвард посмотрел на Элис.
— Я рад, что ты осталась.
Смущенная теплотой, прозвучавшей в голосе Милна, Эл уточнила:
— Я осталась, чтобы найти Стива.
— Да, конечно. Я так и понял, Эл. Все по правилам Агны Кельнер.
Эдвард посмотрел на циферблат часов, и улыбнулся.
— Я заеду за тобой вечером.
* * *
Поезд, спотыкаясь, остановился у станции, и протяжно, глубоко чихнул, выпуская к ногам встречающих высокие клубы сизо-серого пара.
Ливерпуль.
Один из городов, где он раньше жил. Совсем недолго, — немного с родителями, пока они не погибли в автомобильной аварии, и немного — один, когда, оставшись без них, еще не знал и не понимал, что ему теперь делать и — зачем?…
То одинокое лето пролетело как один ослепительный солнечный день, напрочь вырезав из его памяти последовательность событий. Даже сейчас, стараясь вспомнить себя в те далекие дни, он упирался в подобие глухой стены: он был, жил, ходил, гонял на «трещотках», но всего этого словно и не было. А ведь он, как разведчик, должен обладать хорошей памятью.
Поезд снова выдохнул пар, подгоняя высокого блондина к выходу.
Подхватив легкий чемодан, Эдвард Милн спустился на перрон, вдохнул полной грудью разряженный зимний воздух и расстегнул пальто, отмечая боковым зрением, как удивленно посмотрела на него женщина в шляпке с пером. Губы ее округлились, и она то ли выдохнула, то ли высказала вслух свое крайнее изумление при виде молодого, очень загорелого человека, которому в снежном, рождественском Ливерпуле вдруг стало жарко.
Милн все еще чувствовал на себе этот взгляд, но уже спешил дальше, — к центру города, где в одной из гостиниц он забронировал номер на несколько дней. В его светловолосой голове, покрытой частыми невесомыми снежинками, мелькнула мысль о том, как, должно быть, удивилась бы та женщина, стань ей известен тот факт, что в этом городе его ждет собственный, просторный дом, которому он предпочел небольшой номер в гостинице. Она наверняка заморгала бы своими большими глазами еще чаще, чем сейчас, но для Эдварда это решение было самым обычным: дом, владельцем которого теперь был он, на самом деле принадлежал его родителям. Ему одному там делать нечего.
Впрочем, скоро все это потеряет всякую важность, — дом, архитектурное бюро его отца, все имущество, которое находится в этом городе, — он его продаст, осталось только завершить сделку с покупателем, «ударить по рукам», как говорят дельцы. И вот тогда Ливерпуль, — а за ним и вся остальная Великобритания, — снова надолго растворятся в вездесущем тумане. И, может быть, больше никогда не появятся перед ним.
— Вы уверены в принятом решении?
Мужчина с сомнением посмотрел на молодого голубоглазого парня, и прищурился.
— Отменить сделку будет невозможно. Это, сынок, не так просто.
Эдвард поморщился и передернул плечами.
— Давайте обойдемся без приторных обращений, мистер Гиббс. Я продаю вам архитектурное бюро отца, дом на Ларк-Лэйн и две квартиры на Мэтью-стрит. Цена, несмотря на ваши просьбы о снижении, остается прежней. Если вы согласны — подписывайте бумаги, если нет — я продам имущество другому покупателю.
Гиббс снова прищурился и наклонился, чтобы лучше рассмотреть лицо наглого парня. Его тон не нравился Гиббсу, — сам себя он давно считал почетным гражданином города, к слову, настолько состоятельным, что только ему — на его личный взгляд — было дозволено вести сделки в подобном тоне. Но, как бы не претил ему этот тощий нахал, одно они знали точно: имущество Элтона Милна, выставленное на продажу его сыном, было слишком большим и лакомым куском, отказаться от приобретения которого мог только полный болван. Гиббс пожевал губами, желая затянуть время, но когда парень не попался и на эту уловку, — и только нетерпеливо покачал ногой, еще раз подсказывая своему оппоненту, что сделка может прерваться в любую минуту, — мужчина громко хлопнул в ладоши, и задал вопрос, который мучил его все время, что между ними шли переговоры:
— Позвольте узнать, а почему вы сами не продолжите дело своего отца? Жить в таком прекрасном особняке с женой и детьми, управлять прибыльным бизнесом — это…
— Меня не интересует.
Милн отвел взгляд от окна, разрисованного морозом в затейливые узоры, и посмотрел прямо в лицо Гиббсу.
— Вы покупаете?
— Да-да, я… покупаю!
Парень кивнул и поднялся из мягкого кресла.
— Мой адвокат свяжется с вами через полчаса, чтобы уладить все детали. До свидания.
Вслед за этими словами послышалась дробь широких шагов, приглушенных толстым ковром, и Милн вышел из кабинета, оставив Гиббса в нелепой позе, — с рукой, вытянутой для рукопожатия, отвечать на которое было уже некому.
* * *
Вечерний Ливерпуль хрустел снегом под ногами многочисленных прохожих, звенел детским смехом в переулках домов и светился фарами блестящих автомобилей. Снег быстро таял и снова сыпался к ногам поздних пешеходов, перебегающих дорогу с елью наперевес. Пушистые и тощие, ветки праздничного дерева тряслись над блестящей в вечерних огнях булыжной мостовой в такт бегущему, оставляя на земле неприметные в окружающей полутьме темно-зеленые иголки. Пожелтевшие на кончиках — от старых елей, бархатные и длинные — от тех, что по уверениям уличных торговцев были «в самый раз!», они усыпали улицы тонким игольчатым ковром, шагая по которому каждый желающий мог безошибочно найти дорогу к своему рождественскому дереву.
Эдвард Милн тоже шел по этому острому пути. Сбитый с толку окружающей какофонией звуков, слитой из клаксонов, сирен, выкриков и смеха в провалы между церквями, домами и магазинами, он хмуро озирался по сторонам. Этот Ливерпуль так отличался от Марокко, где он пробыл последние несколько лет, что Эдвард был ошеломлен и подавлен его многозвучием и толпой.
И хотя сейчас, в декабре, в Марокко тоже был снег, а пронизывающие холодные ветра Феса Эдвард помнил очень хорошо, он все же неуютно передернул плечами и оглянулся по сторонам в поисках менее шумного места, которое, обретая облик паба, приветливо пропустило его внутрь зала с высокими потолками, стоило ему толкнуть тяжелую входную дверь.
Отыскав взглядом неприметный столик в глубине зала, Милн снял заснеженное пальто, бросил его на спинку стула и сел за стол. Подошедший официант начал торжественно озвучивать меню, в котором были традиционные рыба с картофелем фри, пудинг из мяса и почек, пирог со свининой, кеджери, суп из бычьих хвостов, воскресное жаркое, но, не дождавшись от посетителя ни ответа на вопрос о том, что он желает попробовать, ни хотя бы тени энтузиазма при перечислении блюд, молодой человек растерянно замолчал и посмотрел по сторонам, как будто искал посторонней помощи в общении с неприветливым посетителем. Вытянув руки вдоль тела, официант задержался рядом со столиком Милна, и, покачавшись на каблуках, сделал шаг в сторону барной стойки, когда услышал хриплое:
— Два стакана воды и скотч… солодовый.
Когда с подноса на стол перекочевали два больших стакана прозрачной воды и порция шотландского скотча, Милн уставился на напитки тяжелым, сумрачным взглядом. Несколько долгих минут прошли в тишине, нарушаемой только нетрезвыми фразами посетителей паба. Впрочем, они были далеко от Эдварда, — в самом начале зала, и не могли ему помешать.
Милну вообще было трудно помешать, — настолько замкнутым в своей тягостной задумчивости было его лицо. Светлые брови, изогнувшись, почти сходились на переносице, тонкие губы, выпуская воздух, шептали что-то едва слышное. Но глаза… Глаза смотрели в иной мир, явно нездешний, — тот, что не поместился ни в этом, и ни в каком другом пабе, ни в Ливерпуле, ни в Великобритании, черт бы ее побрал. Милн был далеко, — среди песчаных бурь и холодных ночных песков, смешанных со снегом и ледяным ветром.
Марокко, Фес, Танжер.
Трупы, танки, окопная вонь.
И невозможность избавиться от постоянного страха. Пальцы не слушаются, плохо держат ружье, и от свистящей пули погибает не он, но тот, кто только что был рядом с ним, и кричал ему, Милну, известному в песках как Себастьян Трюдо, что нужно подтащить еще мешков, и сделать новый ряд для укрытия. Пуля прошивает тело солдата в грязной форме, и он неловко падает на утрамбованный сотнями мальчишеских ног, песок. На лице его, за мгновение до смерти, появляется изумление, и так и застывает на нем навсегда. Смерть приходит мгновенно, и это, может быть, настоящее милосердие с ее стороны. Лучше так, чем пытки рифов.
…Но вот, Трюдо, война закончилась. И ты, — в насмешку ли над ней? — выжил.
— От тебя пахнет трупами, Себ.
Оглушенный началом контузии, звенящей в ушах нарастающим гулом, ты утыкаешься носом в собственное плечо, и не можешь различить запах. Он повсюду, он пропитал тебя… Но когда война закончилась, его нужно было забыть и смыть. И ты смывал, как все другие. Под ледяной, теплой, горячей водой, бьющей сверху с таким громадным напором, чтобы — по твоим расчетам выжившего, — этот запах вышел из тебя. Вышел из твоего тела и разума, как гниль и вонь неисчислимых болот, поглотивших мирные воспоминания. Каким был мир до этой войны? Милн почти не помнил, но всей своей сутью знал непреложно — эта война — такая же, какие были до нее, и какие будут после. Бесконечный ужас, пополняемый душами и кровью новых поколений мальчиков. Его отец был на Первой войне, вернулся оттуда внешне живым и сумрачным. Эдварду в ее начале было только восемь, но когда мама, провожая отца, сказала, что он должен с ним попрощаться, Эд нахмурился, и, сжав руки в кулаки, ни за что не хотел «на прощание» целовать отца в щеку или жать ему руку. Так он и стоял — на краю пыльной, подбитой солнцем дороги, с плотно сжатыми губами. Отец подошел к нему сам, вскинул на плечо, крепко-крепко обнял и очень бережно поставил на землю. Взлохматив светлые волосы сына, он крепко поцеловал его, и, резко развернувшись, пошел от дома прочь, чтобы через год вернуться живым, но сильно раненным и мрачным.
Милн все еще сидел в пабе, когда кто-то хлопнул его по плечу, зайдя со спины.
— Эдвард? — Стивен Эшби широко улыбнулся. — Вот так встреча! Как ты здесь?
— Поездом… — устало протянул Милн и криво усмехнулся. — Присоединяйся.
Он показал на свободный стул и снова посмотрел на пустые бокалы рокс, недавно заполненные виски.
— Дегустация идет полным ходом, да? — Эшби сел напротив Милна. — Или ты опять переводишь благородный напиток?
Вместо ответа Эдвард отпил из бокала глоток, задержал виски во рту и медленно проглотил. Несмотря на количество выпитого алкоголя, он был абсолютно трезвым.
— Я думал победить эту чертову аномалию моего организма, Стив. Как себя чувствуешь, когда пьянеешь?
— Лицо становится не таким жестким, как у Эдварда Милна, да и в целом все… гораздо легче.
Стив коротко рассмеялся.
— Что с тобой? Твоим лицом можно резать людей, приятель.
Милн, все это время задумчиво крутивший бокал в руках, откинул голову назад, громко захохотал и резко прервал смех.
— С этим точно нет проблем, Стив.
Эшби задумчиво посмотрел на Милна, отмечая блестящий, замкнутый взгляд, которого не встречал у него раньше, и прежде чем Эдвард успел снова погрузиться в свое море молчания, быстро произнес:
— Пойдем, паб — не место для сочельника.
Милн посмотрел на друга, взял из уже оставленных им на столике денег монетку и ловко подбросил ее вверх. Медный кругляшок прозвенел в воздухе, и упал в ладонь Эдварда решкой. Набросив пальто на плечи, он пошел вслед за Стивом.
Толкая и обгоняя друг друга, Эдвард и Стив почти одновременно подбежали к двери двухэтажного дома. Отстучав короткую дробь медным молотком, Эшби вытянулся и, все еще смеясь, покосился на Милна, которому зимний воздух наконец-то пошел на пользу, обдавая его лицо с высокими скулами горячим румянцем. От веселья голубые глаза Эдварда разгорелись ярким светом, и хотя он был все тем же молодым человеком, который сошел этим утром с поезда на платформу Ливерпуля, блеск глаз, оживляя его красивое лицо, забрал прошлую суровость и задумчивость, показывая Милна таким, каким он был или мог бы быть без войны — молодым и веселым, живущим без долгих планов на будущее.
Кэтлин Финн открыла дверь и замерла на пороге.
— Стивен? Это, правда, ты?!
— Да, тетя, я, — Эшби рассмеялся и обнял маленькую женщину. — Ты стала еще меньше.
— А ты — еще выше, — глухо заметила Кэтлин, выдыхая слова в плотное пальто Эшби. — Как тебе не стыдно, не был дома столько времени!
Кэтлин подняла голову и сурово посмотрела на племянника.
— Эл совсем…
Но никто не успел узнал, что случилось с Эл, — мелкий ураган, прогремев по ступеням лестницы, врезался в Стивена, только по какой-то случайности не задев Кэтлин и Эдварда.
Тетя испуганно вздрогнула и прижала руки к груди, успокаивая себя тем, что это «Элис!» а не злой лесной дух, решивший, может быть, поживиться рождественскими подарками, коробки с которыми были красиво разложены у основания огромной пушистой ели, установленной в главной комнате дома. Девочка крепко обняла брата и застыла на месте, уткнувшись носом в черное пальто Стива.
— Ли́са!
Эшби тихо позвал Элис, но она ничего не ответила, только сильнее сжала кольцо рук вокруг старшего брата.
Стивен опустил руки на плечи Эл, стараясь отстранить ее от себя, или вывернутся из цепкой хватки. Элис повернула голову влево, в ту сторону, где стоял Эдвард.
И Милн, окинутый сердитым, невидящим его взглядом темно-зеленых глаз, устремленных в невидимую даль, почувствовал, как его сердце резко дернулось и забилось глухими, тяжелыми ударами. Длинные, темные ресницы поднялись вверх, и теперь девочка посмотрела прямо на Эдварда. В ярких, острых глазах быстрым, едва уловимым лучом пробежала обида, — словно это он, Милн, был виноват в чем-то перед рыжей, длинноволосой девочкой.
Но вот след горечи, полоснувший Милна по лицу, спрятался в глубине девичьих глаз, она избавила брата от своих объятий, и Эдварду стало ясно, что затаенная боль, показавшаяся на миг в ее взгляде, никого не обвиняла и никому, кроме самой Ли́сы, не предназначалась.
Девочка опустила голову вниз, посмотрела на свое домашнее, темно-синее платье и босые ноги, и резко откинув густые волосы назад, тихо сказала, обращаясь к брату:
— Я рада, что ты дома.
Робкая улыбка нерешительно дрогнула в уголке ее полных губ. Элис перевела взгляд на Эдварда.
— Простите.
— Лиса, это Эдвард Милн, мы учились вместе.
Стивен поправил ворот рубашки и улыбнулся.
— И вместе писали тебе письма, — в тон другу заметил Эдвард, тоже приветливо улыбаясь.
— Да, я п-помню… Извините меня.
Элис неловко развернулась и убежала наверх, в свою комнату.
* * *
Было около пяти часов утра, когда в предрассветных, неясных сумерках Эдвард Милн возвращался к дому Эшби. В расстегнутом, легком пальто, с тихой улыбкой на лице, он был похож на чудака, который непременно есть в каждом городе, и одно из любимых занятий которого — прогулки в слишком ранние часы. Милн завернул за угол, и перед ним снова возникла панорама красивого двухэтажного дома, традиционного для Англии в плане архитектуры, но от этого не менее уютного. За домом был разбит большой сад, в котором, должно быть, особенно красиво весной и летом.
Удивляясь собственным беззаботным мыслям, Милн подходил к крыльцу, когда услышал неясный звук справа от себя. Звук повторился, и Эдвард машинально провел рукой по карману в поисках оружия, которого, конечно, не было, и здесь быть не могло. Да и против кого он собирался его использовать? Против Элисон Эшби, которая, расчертив сухой веткой на земле снежные квадраты, играла в классы, с приглушенными хлопками перепрыгивая с одного квадрата на другой?
Усмехнувшись своей глупости, Милн наблюдал за тем, как девочка, стоя на одной ноге, наклонилась вперед, отодвинула в сторону керосиновый фонарь, — отчего его мягкий свет уже не так четко светил на цифры “2” и “4”, и прыгнула дальше. Налетевший порыв ветра закружил в воздухе хлопьями снега, и Элисон, прикрыв уши руками в теплых варежках, радостно засмеялась. Выпрыгнув из квадрата, она схватила фонарь и прижала его к груди.
— Это…
Ветер уносил слова, и Милн подошел ближе к Элисон Эшби. Почувствовав движение рядом с собой, девочка оглянулась, крепче сжала фонарь в руках, но не вздрогнула и не испугалась, — только с удивлением посмотрела на высокую фигуру с белыми, заснеженными волосами. Откинув длинные пряди распущенных рыжих волос за спину, Элисон улыбнулась.
— Это «летучая мышь», такой фонарь не погаснет, — закончил фразу Милн.
— Спасибо, я знаю, — просто ответила девочка.
В подтверждение своих слов она стянула варежку с правой руки и показала на тонкое металлическое ушко на крышке фонаря, которая берегла огонь от всякой непогоды.
— Доброе утро.
— Да-а, конечно… их придумали в Германии… Доброе утро.
Эдвард улыбнулся, задерживая взгляд на ее выразительном лице, усыпанном веснушками. Темно-зеленые глаза с интересом наблюдали за ним. Ветер подул с новой силой, обдавая их фигуры холодом и снегом. Милн запахнул полы пальто, и сделал еще один шаг к Элисон, закрывая ее от морозного воздуха. Она подняла голову вверх и посмотрела на него.
Ее спокойный взгляд ни о чем не спрашивал, ничего не ожидал, и, к изумлению Милна, подействовал на него успокаивающе. Несколько долгих секунд зеленые глаза с тихим интересом наблюдали за переменами его лица. Но было в этом взгляде что-то еще, нерешительное и робкое, словно девочка не была уверена, что ей это позволено, что-то большее, неуловимое…
— Fledermaus, — донеслось до Милна издалека.
— Что, прости?
— Fledermaus. Название фирмы, где придумали этот фонарь. Я всегда беру его с собой, если играю на улице.
— В классы? — уточнил Милн, кивнув в сторону квадратов, уже стертых снегом и ветром.
— В снежные классы.
Элисон улыбнулась и смущенно замолчала, чувствуя, как краснеет под внимательным взглядом Эдварда. Между ними снова возникла странная тишина, разрушать которую не хотелось и было… нельзя. Улыбаясь, они молча смотрели на друг друга. Мгновения текли и длились, а когда Эдвард вспомнил о цели своей прогулки и похлопал ладонями по карманам пальто, Элис позвали из дома.
— Иду! — не отводя радостный взгляд от лица Милна, крикнула она громче, чтобы тетя ее услышала.
Добежав до ступенек крыльца Элис остановилась, повернулась к Милну, и весело крикнула ему:
— С Рождеством!
* * *
Праздничный ужин накрыли в гостиной. Кэтлин сама готовила все блюда, и служанкам, — не говоря уже о неугомонной Элис, то и дело спрашивающей, можно ли ей помочь, — оставалось только не мешать хозяйке и четко выполнять строгие указания. Если бы не приезд Стива и его друга, это Рождество прошло точно так же, как и все другие, — тихо, уютно, радостно и… скучно.
Стоило едва наступить полночи и настоящему Рождеству, тетя вручила бы Ли́се красивый кружевной воротничок или какое-нибудь другое украшение к одному из ее платьев, сшитое или связанное самой Кэтлин. Элис подарила бы ей в ответ что-то вроде вышитой гладью картины, сыграла бы на фортепиано музыкальные этюды, которые любила ее мама, Эрин, и на этом встреча Рождества была бы окончена. После игры на фортепиано Кэтлин подходила к Элис, нежно целовала ее в лоб, поздравляла с новым Рождеством, и уходила спать. Так, за исключением не слишком значительных деталей, они встречали праздник на протяжении нескольких лет. Но сейчас... все было иначе, должно было стать иным!
К восторгу Элисон прежние тихие праздники, — благодаря неожиданному появлению Стива, — были отменены по умолчанию. Накануне Рождества, несмотря на поздних гостей, она, Кэтлин, Стив и Эдвард вместе украсили дом к празднику, а потом Эдвард Милн, поднявшись из-за стола, быстро накрытому к ужину, извинился перед ними за внезапное вторжение и за то, что не приготовил для миссис Финн и мисс Эшби подарки. Сама Элис считала это совершенно неважным, — тем более, что главный подарок, — приезд Стивена на Рождество, — уже никто не мог отменить. А судя по тому, как тетя, посмотрев на Эдварда Милна с мягкой улыбкой, успокоила его, для нее вопрос с подарками тоже был решен.
В ту ночь Ли́са долго пыталась заснуть, но это никак не получалось. От одной мысли о том, что Рождество она встретит вместе с братом, которого почти не видела после того, как он окончил Итон, в груди разливалась радость. Насладившись представлением о том, каким будет завтрашний день и сам праздник, Элис повернулась на бок и закрыла глаза. Неспешно побродив между подарками, и тем, каким по-настоящему праздничным теперь выглядел их дом с приездом брата, ее мысли снова вернулись к Эдварду Милну. Если быть совершенно откровенной, то она часто представляла себе их встречу, и то, как они улыбаются друг другу, и ее красивое платье... А на самом деле все вышло совсем не так. И Элис, босая, в обыкновенном домашнем платье, даже не оглянувшись по сторонам, пробежала мимо него… Что он теперь о ней подумает? Курносый нос в частых веснушках поморщился. Да и станет ли он о ней думать? Он взрослый, у него тоже, как и у Стива, наверняка много «важных дел»… А тут она, глупая, рыжая девчонка.
Воспоминания о том, как часто, — чаще писем Стива — она перечитывала редкие и короткие записки Эдварда, обожгли ее стыдом. «И если бы только это!» — закрыв лицо руками, успела подумать Элис и заплакала. В сердце поднялась, и легко вышла за его пределы другая горячая волна, которую она боялась называть по имени. Разбившись на множество мелких волн, она уносила Элисон с собой, накатывая все новым и новым прибоем, против которого у нее очень скоро не осталось сил.
А когда не осталось и слез, Элис закрыла глаза и подумала о том, что эта волна, и все эти волны снова оказались гораздо сильнее ее. Она хотела сказать самой себе, что все это глупости, но провалилась в сон. Густой румянец медленно догорел на ее щеках и высоких скулах, оставляя Эл в покое до завтрашнего дня.
Украшенный живыми цветами и тонкими, высокими свечами, праздничный стол выглядел великолепно. Ужин подходил к концу, и Элис, улыбаясь, наблюдала за тем, как брат обнимает тетю. Стивен покрутил в руках золотой портсигар, подаренный Кэтлин, и засунул его во внутренний карман пиджака.
— Ли́са, а ты?
Кэтлин посмотрела на племянницу и отошла в сторону, уступая ей дорогу. Чувствуя, как от волнения ладони становятся влажными, Элис быстро вытерла их о столовую салфетку и встала из-за стола. Подойдя к брату, она протянула ему маленькую коробочку с серебряными запонками, на каждой из которых была изображена ирландская арфа.
— С рождеством, Стив!
Элис с волнением посмотрела на брата, в надежде, что ему понравится подарок.
— А, ирландские мотивы… спасибо, Ли́са!
Эшби потрепал сестру по щеке и повернулся к Милну, продолжая перерванный разговор:
— Я хочу, чтобы ты поехал со мной, твоя помощь нам очень пригодится.
— Куда поехал? — быстро спросила Элис, переводя взгляд со Стива на Эдварда.
Но вспомнив, как брат не любит ее вопросов, осеклась.
— Простите, я не должна…
— Вот именно, Элисон, ты не должна!
Стив строго посмотрел на сестру, и, заметив в ее руке еще одну коробочку, спросил:
— Что там у тебя?
— Это…
Девочка обошла стул, на котором сидел брат, и повернулась к Милну.
— Это вам.
Чуть дрожащей рукой она отдала Эдварду подарок и отдернула руку, вытягивая ее вдоль тела.
— Спасибо…
Милн удивленно посмотрел на Элисон и медленно открыл картонную коробочку, на дне которой лежал белоснежный платок с вышитыми инициалами «Э. М.».
— Спасибо, Элисон, это чудесный подарок, я буду носить его с собой!
Эдвард широко улыбнулся. Отклонившись на стуле назад, Стив заглянул за плечо сестры.
— Опять эти твои штучки, Элисон! Все вышиваешь, как старая дева!
Он рассмеялся и растрепал рыжие волосы девочки.
Элис сердито, широко раскрытыми глазами, посмотрела на него. Губы ее задрожали, но, ничего не сказав, она выбежала из комнаты.
— Зачем ты так, Стив? — с горечью спросила Кэтлин. — Она так тебя любит!
— А зачем отец разделил свое состояние между нами поровну? Теперь я не могу распоряжаться капиталом в полную силу, а когда ей исполнится восемнадцать, она сама вступит в управление своей долей! Что мне с этим делать, Кэтлин?... А она здесь, навязывается мне!.. А, неважно! Ничего твоей Элис я не сделаю, у меня и без нее много дел, важных дел!
Стив махнул рукой и отвернулся от тети.
— Раньше ты таким не был! Ты обещал заботиться о ней, помнишь?
— Сейчас, — резко начал Эшби, — дорогая тетя Кэтлин, все изменилось. А раньше… Раньше я действительно не знал, что все это — поганый заговор масонов и евреев… все они заодно! Элисон… Элисон взрослая, через неделю, насколько я знаю, она уезжает в колледж. Пора прекращать эти сопливые церемонии, ей уже не пять лет, когда умерли отец и мать!
Эшби со злостью покосился на Кэтлин, и стукнул себя по колену.
— Как мне все надоело!
— Рискую показаться «старой девой», но… — Милн жестко посмотрел на Стивена, — ты ведешь себя как ублюдок. Что с тобой стало? «Масоны и евреи»? Что за чушь?
Эшби рассмеялся.
— Ну, не все такие храбрые и добрые как ты, Эдвард!... Ты серьезно? Я от тебя такого не ожидал… Я думал, у нас общие дела, мы… Мы не виделись четыре года!
Стивен заискивающе и зло посмотрел на друга.
— И не зря.
Милн поднялся из-за стола, и, подойдя к Кэтлин, добавил:
— Спасибо вам… Рано утром я уеду.
* * *
Ступенька лестницы громко скрипнула, когда Элис осторожно спускалась вниз. В гостиной никого не было, и от призрачного белого света, исходившего от снега за окном, в комнате стоял приятный полумрак. Холодный, строгий, но уютный, — словно луна, устав от работы, решила вздремнуть в большом, мягком кресле, и разрешила волшебству, — на время своего сна, — немного побыть здесь.
Гирлянда на елке горела разноцветными огнями, и Элис подошла ближе, к окну, чтобы выключить ее, когда заметила мягкий свет керосинового фонаря, который вчера утром она брала с собой на улицу.
— Fledermaus. Я запомнил.
За спиной Элис послышался мягкий шелест перевернутой страницы, а затем хлопок от закрытой книги. Девочка повернулась спиной к окну и крепко обняв себя руками, молча смотрела за тем, как Эдвард встает из кресла и подходит к ней. Он остановился в шаге от нее, с сочувствием разглядывая ее припухшие от слез глаза. Стараясь не встречаться с ним взглядом, Элис оглянулась и увидела отражение Милна в окне. За ним горел неяркий свет фонаря, а контуры его фигуры, раздваиваясь, причудливо соединялись и переплетались в оконном отражении. Вот оно стало еще ближе, и сердце Эл тяжело забилось. Милн осторожно положил руки на сведенные плечи Элисон, и тихо сказал:
— Не бойся Стива, ничего не бойся. Мы уезжаем утром, в одно время.
— Вы едете с ним?
Ее большие, зеленые глаза, ставшие почти черными в окружающем мраке гостиной, напряженно остановились на лице Эдварда, и он почувствовал, как под его руками плечи Эл вздрогнули.
— Нет, у меня свои дела.
— Конечно!
Элис растянула губы в улыбке, — может быть для того, чтобы выглядеть не такой испуганной и печальной, — но улыбка тут же слетела с ее лица, не успев начаться. Эдвард провел большими пальцами по ее плечам и хрипло произнес:
— Элис…
— Да?
Его лицо стало ближе, и она замерла на месте, боясь пошевелиться. В волнении, чувствуя, как сердце, разлетаясь по телу на миллионы частиц, гулко стучит в каждой клетке, Эл закрыла глаза. Целую секунду ничего не происходило, — в тишине был слышен только звук их пересеченных друг с другом прерывистых дыханий… Но вот оно, — нежное, невесомое касание до горящей огнем щеки Элис.
Ее огромные, блестящие глаза смотрят с непониманием, и последнее сомнение осыпается сухим песком под палящим солнцем, когда она едва наклоняет голову. Эдвард целует ее осторожно и очень нежно, но когда Элис поднимает руки и обнимает его, поцелуй становится настоящим. Где-то на краю ускользающей памяти Эл тревожным напоминанием бьется страх о том, что вот сейчас, в эту самую минуту их увидит Стивен… Но поцелуй длится, увлекая ее вслед за собой, и она, еще вчера пытавшаяся прогнать из памяти все мысли об Эдварде Милне, никак не может до конца поверить в то, что это происходит с ней, с ней, с ней… Они долго обнимают друг друга, недвижные, как единое целое, у чудесной, рождественской ели, на которой так и остались гореть разноцветные огни новогодней гирлянды. Элис крепче обняла Эдварда и потерлась щекой о его мягкий свитер. Она не доставала до подбородка Эдварда, и, наклонив голову, он поцеловал ее мягкие волосы, и замер, может быть, тоже не веря в происходящее и так же, как и Элис, боясь его спугнуть.
— И все-таки, зачем…
Агна оглянулась, прижала ладонь к губам Харри, и с тревогой осмотрелась по сторонам. В доме что-то изменилось, что-то было не так. Но что?
Посмотрев на жену, Кельнер, не оборачиваясь, тихо закрыл входную дверь, и, мягко ступая, вышел вперед, закрывая собой Агну. Взведенный курок вальтера плавно щелкнул в тишине гостиной. Прежде чем пойти вперед, Харри знаком приказал Агне оставаться на месте. Девушка молча кивнула, с волнением наблюдая за тем, как он уходит все дальше, вглубь дома.
Под подошвой ее черной туфельки что-то негромко хрустнуло. Взгляд зеленых глаз зацепился за маленький осколок знакомого стекла, оставленный на ковре.
Ваза. Та самая, в которую она каждое утро ставила цветы, подаренные Харри. Теперь ваза была разбита, и то место на маленьком деревянном столике, где она стояла, зияло пустотой. Агна застыла на месте. Мерное звучание больших напольных часов, казалось, было единственным звуком в трехэтажном особняке респектабельного берлинского района. Где-то вдалеке, очень отдаленно, будто они проходили через десятки слоев плотной ваты, звучали сигналы автомобилей и поездов. Харри долго не было. Сняв туфли на каблуках и тихо отставив их в сторону, Агна начала обходить комнаты первого этажа.
Ни звука. Ни движения. Ничего.
Только предчувствие того, что что-то — не так. Кто-то заходил в дом Кельнеров, когда их здесь не было. Вернувшись к тому месту, на котором она остановилась, когда только вошла в дом, Агна еще раз внимательно осмотрела все вокруг. И нашла то, что искала. Круглая медная пуговица закатилась за ножку деревянного столика. На ее внешней стороне не было никаких знаков: толстая и ровная, она тускло заблестела в ладони Агны, и перекатилась в ее узкой руке, показывая то, о чем фрау Кельнер уже догадалась.
Тем рождественским вечером, когда ее забирали в гестапо, она успела хорошо рассмотреть эти круглые пуговицы. На короткое мгновение Агна прикрыла глаза, разрешая воспоминаниям показаться в памяти. Да, именно такие. Круглые, медные, с двойным «ϟ» на внутренней стороне, обведенным в круг. Пуговица от формы СС.
Девушка шумно сглотнула, рассматривая пуговицу со сломанным ушком, и беззвучно шевеля губами, проговорила номер, — 1194/39. Послышались шаги, и она, испуганно зажав находку в руке, быстро положила ее в карман платья.
Это был Харри.
Он посмотрел на Агну, и она поняла, что в доме никого нет. Но это ее мало успокоило. По-прежнему тихо ступая по паркету, она направилась в библиотеку.
Харри последовал за ней. Широкая дверь шумно ударилась о стену, и Агна едва не подпрыгнула на месте от испуга, мысленно отругав себя за трусость.
Осмотрев большую комнату с множеством книг, она какое-то время размышляла над тем, с чего лучше всего начать поиски, и, отметив в дальнем конце библиотеки передвижную лестницу, с помощь которой она раньше часто доставала книги с верхних полок, направилась к ней. Забравшись на верхнюю ступеньку, она оглянулась на Харри, который стоял на том же месте, и удивленно наблюдал за ней.
Взглянув на него, Агна отвернулась к полкам, продолжая поиски того, о чем, кажется, знала только она. Кельнер с хмурым видом сложив руки на груди, наблюдал за тем, как девушка, встав на носки, передвигает книги на верхних полках, медленно и монотонно, одну за одной. Книга за книгой, полка за полкой, — Агна что-то настойчиво искала, и, кажется, даже не думала отдыхать после перелета из Лондона в Берлин.
Послышался какой-то неясный то ли шорох, то ли скрип, Агна повернулась к Харри и приподняла тонкую бровь. Кельнер подошел к ней как раз в том момент, когда она начала спускаться с лестницы. Сжав его руку, она спустилась на нижнюю ступень, и через несколько секунд стройные ноги, затянутые в черные чулки с тонким швом, который, по верному расчету продавцов, то и дело притягивал к себе внимание, мягко опустились на ковер. В правую руку Кельнера Агна положила маленькую черную вещицу, которая при ближайшем рассмотрении оказалась новой моделью потайного микрофона.
Именно такие гестапо массово устанавливала с прошлого года в домах обычных немцев, даже тех, кто был приближенным фюрера. Харри быстро взглянул на Агну, и долго, с нескрываемым удивлением, принялся изучать найденную прослушку. Закончив осматривать микрофон, Харри, как и Агна несколькими минутами ранее, положил находку в карман, и начал свои собственные поиски.
На проверку всего дома у них ушло около четырех часов, и к концу поисков каждому из них казалось, будто они заново рассмотрели каждый миллиметр пространства и окружающей их обстановки, которой, впрочем, до этого никогда не уделялось столько внимания. Ковры, книги, диванные подушки, папье-маше, шахматы, одежда, письменные принадлежности, шкатулки с драгоценностями Агны и запонками Харри, камины, ключница, посуда, ящики со столовыми приборами, стопки белоснежных полотняных салфеток и носовых платков, комоды и шкафы с одеждой и бельем, ящики со спальными принадлежностями, коробки со шляпами и перчатками, ковровые дорожки на лестницах, круглые набалдашники на перилах, под которыми были деревянные полости… Даже внутренняя сторона великолепного рояля фирмы «Бехштейн», который незадолго до внезапного отъезда в Лондон Харри подарил Агне, и на котором она так и не успела ничего сыграть, — все в доме № 10 с синей крышей по улице Хербертштрассе, было досконально осмотрено, открыто, проверено, перевернуто и возвращено на место.
Харри сел на лестничную ступеньку рядом с Агной, медленно вытягивая вперед длинные ноги. Оба тихо и тяжело дышали, застыв в неудобных позах. Казалось, ни у кого из двоих не осталось сил на еще хотя бы одно движение, и лестница, ведущая на второй этаж, вполне могла стать для них кроватью. Положив голову на ребро верхней ступени, и чувствуя, как нижние остро впиваются в спину, Кельнер облегченно вздохнул, поворачиваясь к Агне, которая сидела у стены без единого движения.
— Какая ты умница, Эл! Как ты поняла?
Она медленно повернулась к Харри и разжала ладонь, на которой было пять мелких, черных микрофонов. Когда он, повторяя за ней, раскрыл свою ладонь, на ней оказалось восемь таких же, похожих на скрюченных, толстых червяков.
— Не знаю. Просто показалось, что здесь что-то не так. Когда в доме бывает кто-то другой, это всегда… чувствуется. А в доме мод Гиббельс я однажды случайно увидела, как полицейский ставил прослушку.
Эдвард устало улыбнулся, рассматривая сосредоточенный профиль Элис, выпрямился, и, помедлив секунду, — словно расценивая риски, — нежно провел пальцем по ее щеке. Кожа под его рукой покрылась красными пятнами, Эл отвела его руку в сторону и отодвинулась ближе к стене. Кривая усмешка напополам с сожалением показалась на его лице.
— Нужно проверить Кайлу.
— Вряд ли она станет рисковать своей работой.
Элис достала из кармана платья пуговицу с дробным номером и показала ее Милну. Он аккуратно взял находку за сломанное ушко, и поднял выше, рассматривая в свете раннего солнца.
— Это Гиринг? — голос Элис снизился до шепота,.
Эдвард отрицательно покачал головой.
— И да, и нет. Все, что касается гестапо и прослушек — в его ведомстве. Но я очень сомневаюсь, что он отдал личное распоряжение. Министр слишком занят сейчас. А вот его ищейки свободны… — задумчиво протянул Милн.
Подбросив пуговицу в руке, он поймал ее и положил в нагрудный карман рубашки, закатанной на локтях.
— Похоже, нас здесь очень ждут, Эл. Возможно, новые знакомые. Нужно быть осторожнее.
Несмотря на ее недавний молчаливый протест, Милн снова приблизился к девушке, обнимая за плечи. Темно-рыжие волосы мимолетно коснулись его лица, когда она поворачивала голову. Посмотрев на него, Эл опустила взгляд вниз. Сняв руку Эдварда с плеча, она поднялась и ушла наверх.
* * *
Фрау Кельнер была занята выкройкой, когда Магда Гиббельс накрыла ее руку своей, останавливая движения девушки. До того, как она посмотрела на жену министра, Агна успела заметить безупречный ярко-красный маникюр и массивные кольца с драгоценными камнями, украшавшими красивую руку женщины.
— Фрау Кельнер, это Рудольф Биттрих. Он будет курировать модный показ.
Гиббельс улыбнулась, переводя взгляд холодных светлых глаз с Биттриха на Агну.
— Фрау Кельнер!
Молодой эсесовец в безупречной форме с нашивками выкрикнул ее имя и отсалютовал по новой моде, не забывая после щелкнуть каблуками сапог. Агна замешкалась, лихорадочно раздумывая над тем, как ей ответить на подобный жест, а эсесовец, широко улыбнувшись, поймал ее руку и крепко поцеловал, чем немало удивил обеих женщин.
— Рудольф! — супруга главного хромого в третьем рейхе изумленно всплеснула руками.
И по тому, как неловко она это сделала, Агна поняла, что не ошиблась в своем мнении: столь бурное проявление эмоций было не свойственно фрау Гиббельс.
— Фрау Гиббельс! Виноват! Я… я… — эсесовец замотал головой из стороны в сторону, поправляя жесткий форменный воротник. — …Не ожидал, что фрау Кельнер окажется настолько красива. Мне говорили, но… рыжие волосы…
К концу своей страстной речи Биттрих затих, и с сожалением взглянул на блондинку. Гиббельс ответила ему строгим взглядом, который, впрочем, немного смягчился, стоило ей заговорить о предстоящем в начале июля показе мод.
— Фрау Кельнер, вы подготовите платья для показа, — ее глаза блеснули, когда она посмотрела на девушку. — Сделайте так, как вас научила Аликс Бартон. Мы должны знать и видеть, для чего вас отправляли в Лондон. Коллекция должна быть готова к первому июля. Герр Биттрих — куратор этого показа, по всем необходимым вопросам обращайтесь к нему.
Закончив говорить, Магда Гиббельс развернулась на каблуках и ушла, оставив Агну и ее нового знакомого наедине.
— Я буду счастлив помочь вам в подготовке показа во славу нашего рейха! — с чувством произнес Биттрих, снова уставившись на фрау Агну голубыми, выпуклыми глазами.
— Это… большая честь для меня… — девушка взглянула на воротник черного мундира, где была нашивка с тремя квадратами, идущими наискосок от верхнего угла к нижнему, — …оберштурмфюрер!
Биттрих просиял.
— Сегодня я провожу вас домой, фрау Кельнер! То есть… Разрешите проводить вас! В такой день!
— «Такой день», господин оберштурмфюрер?
Агна старательно выговаривала слова, надеясь, что ей удается контролировать выражение своего лица так же хорошо, как она об этом думала. Тренировки перед зеркалом не должны пропасть зря.
— Ваш день рождения, фрау Кельнер. Сегодня, 22 марта!
Биттрих вытянулся в полный рост, и на этот раз Агне не пришлось изображать никаких эмоций, — ее удивление было искренним потому, что Элисон Эшби совсем забыла о дне рождении фрау Агны Кельнер. Приоткрытые губы девушки растянулись в извиняющейся улыбке:
— Прошу меня извинить, господин оберштурмфюрер. Ночной перелет из Лондона был очень утомительным.
Биттрих так резко кивнул, что на долю секунды Агне показалось, будто от такого рвения его голова оторвется, упадет с плеч и укатится к дверям ателье фрау Гиббельс, которая будет шокирована этой очередной, неслыханной дерзостью молодого полицейского. Уголки полных губ Агны едва заметно дрогнули при этой мысли.
— Я понимаю, фрау Кельнер, не думайте, что не понимаю! Вы тоже трудитесь на благо рейха… своими силами!
— Мне нравится моя работа, господин оберштурмфюрер. Мода — это очень красиво.
Агна сказала правду. Мир моды увлекал ее красотой и изысканностью, помогая отвлечься от мрачных мыслей и окружающей обстановки. А с того времени, как их отношения с Харри становились все сложнее и запутаннее, это была ее единственная, — за исключением музыки, — отдушина. И сейчас, узнав о показе, фрау Кельнер была искренне рада той долгой работе по созданию коллекции платьев, что ожидала ее впереди, и для которой оставалось не так много времени, — чуть больше трех месяцев. Да, работы будет очень много, но тем лучше для нее: у Агны не останется возможности думать о своих проблемах. Только нужно быть очень внимательной и осторожной. Всегда. И с этим Биттрихом — особенно.
— Рад это слышать, фрау Кельнер! Я провожу вас в Груневальд.
Биттрих склонил светловолосую голову, и с готовностью взглянул на Агну, которая, оглянувшись на выходивших из ателье девушек, с удивлением поняла, что рабочий день закончен, и ей действительно пора домой.
* * *
Харри Кельнеру, сотруднику фармацевтической компании «Байер», повезло гораздо меньше, чем его жене. И в тот момент, когда галантный молодой эсесовец в великолепной форме от Хуго Босс, провожал Агну домой, Харри сидел на стуле, пытаясь увернуться от слишком яркого света настольной лампы, чья медная, черная шляпка была развернута в его сторону.
— Отвечайте Кельнер! Почему вы задержались в Лондоне? Эта командировка предполагала отсутствие на две недели, а вас не было в Берлине 22 дня.
— То есть три недели и один день, — спокойно уточнил Кельнер, щуря светлые глаза.
— Я знаю, что 22 дня — это три недели и один день! Где вы были? Вы — шпион? Сотрудничаете с Великобританией?!
Эрих фон дер Хайде, сотрудник разведки концерна «Фарбениндустри», в состав которого входила компания «Байер», схватил Кельнера за рубашку и потянул на себя. Его мутные глаза были заполнены злостью и усталостью. В конце рабочего дня ему хотелось ужина, пива и секса с женой после, — к тому же сегодня она приготовила его любимые клецки со свининой, шкварками и луком, — а вместо этого ему приходилось сидеть здесь, в подвале, и допрашивать этого разряженного блондина. Если бы это зависело от Эриха, он бы просто прибил Кельнера, — хотя бы за эту самодовольную улыбку, с которой тот смотрит на него. Но начальник контрразведки «Фарбен» приказал, для начала, его только допросить.
Эриху это совсем не нравилось, и потому он решил, что если и допрашивать Харри Кельнера, то — с пристрастием. Надо сказать, Эрих очень старался, — заломив Харри руки, он свел их за спинку стула и громко защелкнул наручники на запястьях. Вообще, Эриху страсть как хотелось досадить Кельнеру как можно больше: за все, что ему не нравилось в блондине, и за испорченный вечер — в том числе. Но Хайде медлил, и пока не бил Харри, — хотя и едва сдерживал себя.
За целый час разговора по душам ему не удалось вытянуть из Кельнера ничего интересного. А это значит, что допрос затянется, и когда он, Эрих, наконец-то доберется до дома, клецки будут холодными. От этой мысли Хайде стало совсем тоскливо, и потому он, зайдя за спину Харри, приложил его о железный стол со всей силой, на какую был способен. Послышался стон, за ним — тяжелое дыхание. Кельнер сплюнул кровь на бетонный пол и оглянулся на Эриха. Из рассеченной брови по лицу Харри побежала бурая кровь. В одной и той же точке на лице Кельнера она останавливалась, смешивалась с кровью из разбитых губ, и темным, густым потоком бежала дальше, закрашивая своим цветом Харри и подвальный пол.
Не делая попытки убрать кровь, Кельнер выпрямился, передернул онемевшими руками, и замер на стуле, чувствуя, как постепенно, — капля за красной каплей, — воротничок его светло-голубой рубашки, идеально выглаженной сегодня утром и недавно помятой Эрихом, пропитывается теплой кровью.
— Ну?! — Хайде заходил вокруг Кельнера. — Что ты теперь скажешь?
Харри молчал, наклонив голову вправо, чтобы свет от лампы слепил его не так сильно. Наконец, он разлепил испачканные кровью губы, и хрипло проговорил:
— Я был в Лондоне по поручению компании, Эрих. Ты это знаешь.
Губы Кельнера дрогнули. Он сухо сглотнул, чувствуя, как резко пульсирует и бьется в ранах кровь. Головокружение, путая его сознание, становилось все сильнее.
«Надо выбираться отсюда…» — подумал Харри, наблюдая левым глазом за Хайде. Правый глаз заплыл и не открывался.
— И какое поручение вы выполняли?
Эрих повернулся к Харри, сложив толстые руки на груди.
— Заключение контракта с фармацевтической компанией в Лондоне.
— Как она называется? Компания?
Хайде отошел к письменному столу, взял небольшой листок и что-то записал.
— М-м-м… — протянул Кельнер от боли, и медленно продолжил, — «Бичем». The Beecham Group. Интересная для нас компания. Помимо таблеток Бичема, глюкозного напитка Lucozade и зубной пасты Macleans она… занимается… исследовательской деятельностью, что может быть полезно для «Байер» и «Фарбениндустри» в целом.
Эрих свирепым взглядом вгляделся в разбитое лицо Кельнера, и тот медленно пояснил:
— В рейхе должно быть все самое лучшее, герр фон дер Хайде.
— Конечно.
Толстый дознаватель подошел к Кельнеру и шепнул:
— А что если я сдам тебя в гестапо, а? Они быстро собьют с тебя все твое спокойствие.
Харри покачал головой, снова морщась от боли. Отек с каждой минутой все сильнее менял его лицо, которое так раздражало Эриха.
— Конечно, но…
Харри все-таки улыбнулся. И за раздвинутыми в улыбке губами фон дер Хайде увидел измазанные в крови ровные зубы, на которых мелко пузырилась кровь.
— Дело в том, что я уже был в гестапо, и меня отпустили в тот же день, Эрих. Сам Рудольф Дильс. Ты же знаешь, кто это, правда? Он лично отпустил меня. Потому что на меня ничего нет. И если ты сдашь меня в полицию, то они снова ничего не найдут, потому что я… верен фюреру, а тебе… тебе придется везти меня туда, сдавать им, потом возвращаться сюда и делать полный доклад начальству о моем допросе. А это очень утомительно и долго. А как ты будешь чувствовать себя, когда подтвердится, что все твои подозрения на мой счет, — ложные?
Кельнер снова улыбнулся, и от этой улыбки, больше похожей на оскал, Хайде стало не по себе.
— Это будет значить, что ты ошибся, плохо сработал. А я потеряю время, которое могу использовать для заключения контракта с компанией «Бичем». Ее наверняка уже проверили, иначе я бы не смог поехать в Лондон и вести переговоры с британцами. Нужно взять у них все, что может пригодиться нам, Эрих. Взять все!
На последней фразе Харри в упор посмотрел на Хайде, и тот машинально кивнул, отходя подальше от блондина. Эрих, уже не возражавший против того, что этот идиот зовет его по имени, надолго задумался. Самодовольный блондин был прав. К тому же, Хайде, прекрасно знавшему весь широкий арсенал пыток, совсем не хотелось вызвать на себя гнев начальства, и оказаться на деревянном стуле, подобно Харри, — лишь потому, что он проявил ненужное рвение в этом допросе. Обдумав все еще раз, Хайде решил отпустить Кельнера. В тишине подвала раскрытый замок наручников щелкнул особенно звонко. Растерев сбитые запястья, Харри Кельнер вскинул на прощание руку вверх, выкрикнул два слова, и пошел к лестнице, ведущей наверх.
* * *
Эдвард нашел Элис в спальне. Она спала, откинувшись на подушки, с карандашом, зажатым в руке. На коленях лежала папка с листами плотной бумаги, предназначенной для эскизов. Один из рисунков, — с силуэтом женской фигуры, — съехал вниз, и лежал рядом с Эл. Милн подошел к девушке, любуясь ее лицом, во сне спокойным и безмятежным. От дыхания, ровного и глубокого, ее грудь плавно поднималась через равные промежутки времени. Его взгляд остановился на кружевном вырезе ночной сорочки, и он вспомнил, как в первую ночь, которую они провели в этом доме, Эл пришла к нему, напуганная своей новой жизнью в нацистской Германии. Тогда на ней была другая сорочка, с глухим плотным воротом, но даже через ее плотную ткань, обнимая Элис, он тогда ощутил тепло ее тела. Милн усмехнулся и тут же поморщился от боли. Где Эл взяла ту сорочку? Он готов был биться об заклад, что она была сшита еще во времена Джен Эйр.
С момента их первого приезда в Берлин в январе прошлого года прошло уже слишком много времени, и много событий, которых хватило бы на несколько жизней. Теперь же, ко всем существующим нюансам жизни в столице рейха, добавилась еще одно.
Слежка.
Кто за ними следит? Ответ «гестапо» Милна не устраивал. Ему нужен был конкретный человек, из плоти и крови. Тот, кто разбил вазу и оставил свою пуговицу на ковре дома Кельнеров. Тот, с кем он готов был говорить также, как сегодня Эрих фон дер Хайде говорил с ним. Вот только Эдвард, в отличие от него, не отпустит своего визави.
Поглощенный своими невеселыми мыслями, Милн не заметил, как Эл открыла глаза и теперь со страхом смотрела на него, зажав рот рукой. Он наклонился, на эскизе с женским силуэтом растеклась кровавая капля, и Эдвард вспомнил, что поднялся в спальню как был, — в пальто, сразу после встречи с Хайде.
— Что с тобой? Что случилось?! — Эл соскочила с кровати и подошла к Милну. — Гестапо?!
Милн помотал головой и сел на кровать, чувствуя, как его уводит в сторону. «Не хватало только упасть», — подумал Эдвард, и тяжело вздохнул, закрывая глаза, и надеясь, что кровь перестанет так оглушительно стучать во всем его теле.
— Не-е-ет, Агна, это старина Эрих!... Мы встретились с ним вечером после работы, немного поболтали…
Голос Милна зазвучал глухо и хрипло, но, наблюдая за тревогой Элис, Эдвард не мог перестать улыбаться.
— Эд, перестань паясничать, и скажи, что случилось!
Элис сердито посмотрела на него, пытаясь взглядом призвать к серьезности и порядку.
— Однажды ты запретила называть тебя «Эл», а сама зовешь меня, как хочешь? Фрау Кельнер, это нечестно!
Лицо девушки не изменилось, и Эдвард объяснил:
— Меня допросил сотрудник контрразведки «Фарбен», Агна.
— Что он хотел?
Элис протянула руку к лицу Милна, но отдернула ее и крепко обняла себя за плечи. Распознав ее жест, он тихо рассмеялся, и кривая ухмылка, красная от крови, запекшейся на губах, выглядела так жутко, что по сердцу Элис прошла волна страха.
— Интересовался моей поездкой в Лондон. Думаю, он не отстанет, и будет следить за мной дальше.
Эдвард поднялся, медленно снял пальто, бросил его на кресло и направился в ванную комнату. Из зеркала на него посмотрел бледный, но в целом, — как считал он, — не слишком пострадавший человек. У него бывали дни и похуже. Да, глаз жутко заплыл, бровь была рассечена, губа и нос — разбиты. Хотя нос, — Милн аккуратно ощупал его пальцами, — не сломан, это уже хорошо. Промыв раны от крови, он снял рубашку и вернулся в спальню, доставая из тумбочки набор из иголок и тонких нитей, которыми раньше уже зашивал себя. Элис остановилась перед ним, вытягивая руку вперед.
Когда пластмассовая коробочка оказалась у нее в руке, она замешкалась, оставила ее на прикроватной тумбочке, вышла из комнаты и вернулась, захватив с собой аптечку и спиртное.
Эдвард сидел на краю кровати. Элис подошла к нему, и он выпрямился, вытягиваясь вверх как струна, и поднимая голову выше, чтобы ей было удобнее зашивать бровь.
— Выпьешь? — Эл протянула ему красивую металлическую фляжку. — Виски.
Молча кивнув, он сделал один большой глоток, и медленно проглотил обжигающую жидкость. Подождав, пока он выпьет, Элис вплотную приблизилась к нему, и сказала:
— Я помыла руки.
Послышался негромкий смешок, после которого Милн медленно протянул:
— Это очень хорошо… Агна.
Обработав бесцветной перекисью рассеченную бровь, Эл сосредоточенно следила за белой пеной, образовавшейся внутри раны, и, вытянув губы, с силой подула на разорванную кожу.
Милн дернулся пару раз, когда перекись пробила рану электрическим током, и зашипел от боли. Медленно и очень осторожно Элис промокнула остатки перекиси и пены ватой, и подготовила иголку с ниткой. Ее тонкие пальцы чуть-чуть дрожали, и чтобы отвлечься от того, что ей предстояло сделать, она тихо спросила:
— Как ты? Очень больно?
— Нет, — глухо раздалось после паузы. — Ты зашивала раньше?
— Нет, — ответила Элис, снова начиная нервничать.
— Не бойся. Просто обработай иголку, сделай глубокий выдох, и зашей.
Голос Милна, глухой и далекий, придал Эл смелости. Не отдавая себе в том отчет, она нежно провела рукой по его волосам и лбу, делая так, как он говорил, и, посмотрев на раскрытую рану еще раз, поднесла иголку к ее внешнему краю. Эдвард закрыл глаза.
Пройдя первый край раны, игла дернулась, причиняя ему боль, и Элис вскрикнула:
— Прости, пожалуйста, прости!
Чувствуя, как сильно дрожат ее руки, Эдвард сказал как можно спокойнее:
— Тише, Эл, тише. Все хорошо. Возьми иголку и проведи через второй край. Я в порядке.
Элис кивнула и тут же вздрогнула.
— Я боюсь сделать тебе больно, я делаю тебе больно!
По тону ее голоса Милн понял, что Элис начинает паниковать, а этого нельзя было допустить.
— Ли́са, успокойся! Успокойся… вот так… вдох и выдох, вдох и выдох… Не думай о том, что мне может быть больно. Не думай о том, что зашиваешь рану. Просто зашей, стежок за… да, так… за… стежком…ты шьешь очень красивые платья, Ли́са, с этим ты…тоже…справишься.
Дыхание Элис было все еще нервным и сбивчивым, но теперь иголка двигалась гораздо легче и увереннее, от одного края раны до другого. Когда все было готово, она осторожно убрала иголку, закрепляя кончики ниток. Пальцы Эл были сухими и холодными. Отстранившись, она внимательно осмотрела шов, не зная, что сказать. Эдвард посмотрел на нее, и ободряюще улыбнувшись, подошел к зеркалу в ванной, выкрикивая в комнату:
— Отличная работа, фрау Кельнер!
Когда он вернулся в комнату, Эл там уже не было. Спустившись по лестнице, она забежала на кухню, и, спрятавшись в темной нише, заплакала, закрыв лицо руками. Смешные звуки босых ног, шлепающих по полу, затихли рядом с ней, и сильные руки крепко обняли ее, отгоняя страх.
Эл заплакала и крепко обняла Эдварда. И отстранилась, — с тревогой заглянув в его глаза, — когда почувствовала, как он вздрогнул.
— Тебе очень больно? — она судорожно вздохнула, рассматривая его лицо.
— Если бы я знал, что разбитая бровь поможет мне тебя обнять, то давно бы вызвался на допрос к старине Эриху, — с мягкой усмешкой произнес Милн в полумраке, глядя на девушку.
— Тебе смешно? Думаешь, это хорошая шутка, Эдвард? — Элис сердито посмотрела на него.
— Конечно нет, Эл. Прости. У меня проблемы с чувством юмора. Может быть потому, что обо мне очень давно никто не беспокоился. И не спрашивал, больно ли мне.
— Почему?
Не отвечая, Милн взял ее за руку.
— Пойдем со мной.
Ступени узкой деревянной лестницы, на которых они сидели совсем недавно, снова скрипнули, провожая своими негромкими голосами две пары босых ног. Эдвард привел Элис в их спальню, и, не выпуская ее руки, включил лампу на прикроватной тумбочке. Комната озарилась мягким, уютным светом.
— Почему никто не заботился о тебе?
Снова игнорируя вопрос, Милн подвел Эл к кровати, на которой было разложено платье.
— Это же платье от Аликс Бартон! Откуда оно здесь? — восхищенно прошептала девушка.
— Купил, — Эдвард пожал плечом и смущенно улыбнулся. — Тебе нравится?
Он кивнул в сторону платья, взъерошил волосы на затылке и тут же снова их пригладил, поморщившись от боли.
Элис с нескрываемым восхищением рассматривала платье. Длинное и элегантное, оно было не лишено некоторой экстравагантности: узкие полосы драпированной ткани желтыми и темно-фиолетовыми жгутами переплетались, оставляя красивый вырез под грудью, справа и слева. А сверху зеленые и красные полосы той же материи набегали на них, словно волны, перекрывая друг друга, — как будто они вели постоянный спор о том, кто из них ярче и красивее, — и плавно спускались вниз, образуя в переплетениях разноцветный подол платья, который, казалось, отвечал на малейшее прикосновение.
Эл взглянула на платье, поднесла к нему дрожащую руку, и осторожно провела пальцами по нежной материи. На глаза навернулись слезы. Она прижала ладони к губам, молча рассматривая неожиданный подарок. Эдвард зачарованно следил за ее движениями, переводя усталый и радостный взгляд с платья на Эл.
— Оно такое красивое! Как ты узнал…
— В тот вечер ты так на него смотрела, что все было понятно без слов.
— Но Аликс шьет платья индивидуально… Она не шила его для меня!
Элис, перевела взволнованный взгляд с платья, — похожего на застывшую жар-птицу, — на довольного Милна.
— Да, но когда я сказал, что хочу купить это платье для тебя, она переделала его по твоей фигуре.
— Спасибо! Оно такое чудесное!
Эдвард остановился за спиной Элисон, и, наклонившись к ней, прошептал:
— Надень его, пожалуйста.
Вздрогнув от близости Эдварда и его шепота, теплой волной коснувшегося шеи, Эл улыбнулась, аккуратно взяла платье и ушла в гардеробную. В доме стало тихо. Тишина, нарушаемая только легким, едва уловимым шелестом ткани, длилась несколько минут.
Элис медленно вышла из комнаты, и, остановившись в дверном проеме, смущенно улыбнулась.
— Кажется, Аликс все-таки переоценила мой рост.
Она посмотрела вниз, на подол платья, который, скрыв ее ступни, расстелился на ковре разноцветным веером. Эл медленно, чтобы не запутаться в платье, подошла к Эдварду.
— Спасибо!
Долгая улыбка, застывшая на ее лице, задрожала в уголках полных губ. Девушка повернулась к Милну спиной.
— Помоги, пожалуйста. Никак не могу застегнуть крючки.
Пальцы Эдварда, дрогнув, коснулись двух половинок платья. Задержавшись на первом потайном крючке, они быстро заскользили вверх, скрепляя корсет. Застегнув последний из них, его руки застыли, беззвучно отошли в стороны, и тут же с жаром обвились вокруг Эл, снова расстегивая лиф платья.
— Не могу без тебя!.. — выдохнул он, покрывая поцелуями ее шею и спину.
Эл застыла на месте, наслаждаясь нежностью его прикосновений. Закрыв глаза, она прерывисто задышала, повернулась в руках Эда, и осторожно, пытаясь не причинить боль, поцеловала его. Поцелуй длился, уводя их все дальше и дальше, когда в памяти Элис возникли голоса. Сначала — голос Ханны, а за ним — Эдварда. И если первый из них лишь замедлил движения Эл, то голос Милна, напомнивший о том, что он подумал, будто она, Элис, его не любит, и потому он переспал с Ханной, окончательно отрезвил ее, в один миг выводя Эл из неги и нежности. Дыхание Эдварда перехватило судорогой, — это было так похоже на долгожданное счастье, на целый мираж из воды и света, который после долгого пути видит пустынный пришелец. Уже успевший забыть вкус воды, он, наконец, обретает возможность приникнуть к ней иссушенными губами, и пить, пить, пить…
— …Эдвард? — донеслось до его слуха.
В ушах звенело.
Ничего не понимая, он потянулся к Эл, не понимая, почему поцелуй прервался, и почему она снова так далеко.
— Хочу тебя… — зашептал он, обнимая Элис.
Она закачала головой.
— Нет, не надо! Пожалуйста, отпусти меня!
Слова не доходили до Эдварда, и только когда Элис вывернулась из его рук, он остановился, пораженно рассматривая ее лицо, по которому бежали слезы.
…Тяжелое дыхание снова забивает его легкие. Кровь мощными, звенящими ударами стучит в голове. Вот ее губы что-то говорят ему. Говорят, что он должен остановиться. Его Элис плачет и снова отворачивается от него. Сведенное болью, ее тело складывается пополам, а он, большой и взрослый, стоит перед ней как потерянный мальчишка, не знающий, что ему делать. «У Трюдо контузия!» — кричит кто-то над ним. Вспоминай, что делают при контузии, Себастьян Трюдо, Эдвард Милн! Та мина в Танжере была твоей! Это ты, а не тот, другой, должен был погибнуть! Но что делать? Что сделать, чтобы больше не было больно? Он не слышит их. Ни себя, ни Эл. Только смотрит на нее, и вытягивает руки, идет тяжело и нелепо, словно вышагивая по морскому дну в громадном, железном скафандре. Уютный свет лампы гаснет, день уходит, и они остаются в темноте.
* * *
— Ты спишь?
Эдвард ответил, не открывая глаз.
— Нет.
— Как ты себя чувствуешь?
— Что такое, Эл?
— Что это было? Сейчас, с тобой? — Эл повернулась, внимательно наблюдая за Милном в темноте.
— Осталось после… — начал Эдвард, и замолчал. — Контузия.
— С тобой это часто бывает? — продолжала допытываться Элис, и услышала в голосе Эдварда раздражение:
— Не беспокойся, Элисон, так иногда бывает. Ты еще что-то хотела узнать?
Элис кивнула, не обращая внимания на его сарказм.
— Ты сказал «обо мне очень давно никто не беспокоился, и не спрашивал, больно ли мне». Что это значит?
— Именно то, что я сказал.
— Но как?.. — Элис замолчала, подбирая слова. — Почему?
— Тебя это удивляет? — Милн повернулся к Элис, неторопливо рассматривая ее профиль. — Ты же оттолкнула меня сейчас, сама. А теперь спрашиваешь, почему?
— Я спрашиваю не об этом! Я спрашиваю о том, что было с тобой раньше! — Элис села в кровати, обняв колени. — И ты знаешь, почему я сделала так сейчас.
Милн усмехнулся.
— А если не знаю?.. — он помолчал. — Так почему, Элис?
— Потому что мне больно. И потому что я не могу простить тебя, — прошептала Эл сдавленным шепотом, — и представляю тебя с ней, и…
Милн тяжело вздохнул.
— Я не понимаю тебя, Эл. Сначала ты убегаешь после разговора, а на следующий день сама приходишь к Баве рано утром, когда он еще толком и не проснулся, и соглашаешься на возвращение в Берлин, который до этого, похоже, вызывал у тебя только страх.
— Это сделка с Баве только для того, чтобы найти Стива, я говорила об этом!
— Правда? И больше нет никаких причин, Агна Кельнер?
Эдвард замолчал, ожидая от Элис ответа, но она отвернулась от него, ничего не сказав.
— Ты могла найти Стива сама, без Баве и… всего этого.
Эл ощущала почти физически, как он рассматривает ее в темноте. Вздохнув, Милн прикурил сигарету, и очень медленно лег на спину, добавляя примирительным тоном:
— Расскажи мне о нем, Эл. Что тебе известно?
Ты могла найти Стива сама.
Ты могла найти Стива сама!
Сама!
Эл молчала, пораженная этой мыслью.
«Глупая, глупая Элис! Как ты об этом не подумала?! Ты могла сейчас быть в Италии или во Франции, искать брата, — действительно искать его, а не изводить себя мыслями о том, где он, и все ли с ним в порядке! Да, может быть, это заняло бы много времени, — больше, чем ты предполагала, — но ты была бы свободна в своих поездках, словах, мыслях… а Эдвард? Он все равно был бы здесь? Харри Кельнер, кочующий с одного допроса на другой, где каждый, по своему желанию, может избить и изуродовать его посильнее, с какой-нибудь новой жестокостью, до которой пока не додумались другие?...».
От этой мысли, при воспоминании о том, как она сама зашивала рану на его лице, обезображенном очередной жестокостью, ставшей уже обыденностью здесь, в Берлине, живот скрутило тошнотворной судорогой. Эл согнулась пополам и медленно опустилась на кровать. Голова начала сильно кружиться.
«Ты, Эдвард. Ты — настоящая причина».
Эта новая мысль пробежала перед Элис так быстро, чтобы она не успела поймать ее и остановить. Волнуясь, она хрипло ответила:
— Он… жив.
Элис растерянно посмотрела на Милна, чувствуя, как вдруг, осознав настоящую причину своего возвращения в Берлин, — которая была вовсе не в Стиве, — она снова чувствует смущение перед Эдвардом. Дождавшись, когда волнение станет тише, она пересказала Милну то, что узнала о Стиве от своей тети, когда была в Ливерпуле.
* * *
— Доброе утро, — Агна отодвинула стул, усаживаясь за обеденный стол напротив Харри. По давней привычке, он что-то сосредоточенно читал в новом выпуске нацистской газеты, но услышав ее голос, опустил «Фолькишер беобахтер» вниз, и с улыбкой посмотрел на жену.
— Доброе. Хорошо спала?
— Да… теперь по утрам слышно птиц, — фраза прозвучала напряженно, удивляя саму Агну, и она подумала, что можно было бы придумать что-нибудь получше.
Кайла поставила перед ней тарелку с овсяной кашей и налила в чашку горячий черный кофе.
— Спасибо, Кайла.
Домработница кивнула, и, придерживая кофейник левой рукой, на которую было накинуто полотенце, хотела оставить его на столе, когда, сложив газету, Кельнер спросил:
— Кайла, в наше отсутствие в доме было что-нибудь необычное? Может, кто-нибудь приходил?
Яркие глаза Милна пристально всмотрелись в лицо женщины, отслеживая каждую его перемену. Кайла, и без того не слишком разговорчивая, долго молчала, избегая прямого взгляда хозяина. Но когда их глаза встретились, — робкие темно-карие и внимательные светло-голубые — она сжалась при взгляде на его раны, и тихо произнесла, оставляя кофейник на столе:
— Не-е-е-т, герр Кельнер. Никого не было. Я приходила сюда каждый д-д-д-е-нь за время вашего о-о-тсутствия, но здесь всегда все было в порядке.
Заламывая от волнения руки, Кайла запиналась едва ли не на каждом слове. Скомкав салфетку, Агна осуждающе, — в упор, — посмотрела на Харри, и поднялась со стула. Она осторожно обняла Кайлу за плечи, и женщина снова вздрогнула. Ее голова затряслась, теперь она смотрела только на свои ноги, не смея поднять взгляд выше.
— Кайла, все в порядке, успокойся. Герр Кельнер просто интересуется тем, что происходило здесь за время нашей поездки. Я увидела, что ваза, которая стояла на столике в прихожей, разбилась, вот и все.
— Я-я-я, ничего не знаю, фрау. Когда я д-д-д-елала уборку в доме, перед вашим возвращением, она была на месте, а с-с-с-егодня я сама заметила, что ее нет…
Женщина замолчала. Дрожь, пробегающая по ее телу, становилась меньше, но Кайла все еще так сильно, непроизвольно дергала головой, что Элис с ужасом подумала о том, что именно могло стать причиной такой реакции пусть на заданный жестким тоном, но, все-таки, только вопрос? А потом она вспомнила, как Кайла сказала однажды, что она и Дану «тоже были в гестапо».
— Кайла, тебе нужно отдохнуть. Я отвезу тебя домой, хорошо?
Хотя девушка и задала вопрос, для себя она уже решила, что сама отвезет Кайлу, которая молчала, не давая никакого ответа.
— Пойдем, машина здесь, возле дома.
Женщина машинально кивнула, и Агна, все так же обнимая ее за плечи, вышла вместе с ней в прихожую, чтобы накинуть легкое пальто. Фрау Кельнер поправляла воротник, когда Кайла, внезапно оживившись, посмотрела на Харри, и сказала:
— Герр Кельнер, я вспомнила! Вспомнила! Приходил!
Она торопливо подбежала к Харри.
— Только я не уверена, что это то, ч-ч-что нужно, но вчера фрау проводил домой по-по-лицейский, в этой ч-ч-черной форме…
Рука Кайлы затряслась где-то на уровне груди, когда она попыталась изобразить черный китель эсэсовца.
— Но больше… больше никого, ничего не было.
Глаза Милна сузились, в комнате повисла тишина.
— Я, я… сделала что-то не так, фрау? — со страхом спросила Кайла, оглядываясь на Агну.
— Все в порядке. Пойдем, я отвезу тебя домой.
Послушно кивнув, Кайла пошла вслед за девушкой. Они уже были у черного блестящего «Хорьха», когда Харри выбежал из дома, и сказал, что сам отвезет Кайлу. Женщина так же безропотно, как и минуту назад, побрела к «Мерседесу», заднюю дверь которого Кельнер уже держал для нее открытой. Все время, пока Кайла шла к машине, и садилась в нее, он смотрел на Агну. Захлопнув заднюю дверцу, он отошел назад, и открыл переднюю, на этот раз — для нее. Агна ответила ему не менее внимательным взглядом, и, не говоря ни слова, села в «Мерседес».
* * *
На протяжении всего пути в машине была тишина. Когда «Мерседес» с шумом затормозил во дворе, Харри помог Кайле выйти, и проводил ее до дома, где в дверях ее уже ждал взволнованный Дану. Мужчины пожали друг другу руки, и Кельнер вернулся к «Мерседесу».
— Поверить не могу, что ты это сделал! Она же ни в чем не виновата! — с упреком сказала Агна.
— Я должен был в этом убедиться. Это моя работа. Не смешивай работу и свое личное отношение к Кайле.
Рассмеявшись, Агна повернулась к нему, разглядывая его профиль.
— Не смешивать? И это говоришь ты? Может быть, мне тоже следует давать тебе отчет во всем, что делаю я?
— Неплохая идея. Я был бы не против узнать, кто провожал тебя вчера домой. — Кожа, которой был обшит руль, заскрипела под рукой Кельнера. — О ком говорила Кайла?
Агна вздохнула.
— Рудольф Биттрих, оберштурмфюрер СС. Магда Гиббельс представила его вчера, и поручила мне сделать коллекцию платьев в стиле Аликс Бартон. Он назначен куратором модного показа, к нему я должна обращаться по любым вопросам, связанным с этим мероприятием. Вчера он проводил меня до дома, это все.
— Все? — уточнил Харри, разворачивая машину.
— Да. Но он знает обо мне, об Агне очень много, — где я живу, когда у меня день рождения…
— Завтра я отвезу тебя в ателье и встречу после работы.
— Не надо, Харри, ничего не случилось.
— К тебе приставлен личный, мать его, эсесовец, Агна. Вот, что случилось. Поедем вместе, это не обсуждается.
Кельнер почувствовал, как Агна смотрит на него, но предпочел не реагировать, и сосредоточился на дороге. Если она была зла на него, то он был напуган. «Пусть лучше она злится, но будет в безопасности», — подумал Милн.
— Иногда ты бываешь невыносимым, Кельнер!
— Именно поэтому, моя дорогая Агна, я до сих пор жив.
Он включился в рифскую войну на ее издыхании, в предпоследний, четвертый год. Ему самому было только восемнадцать. Первое задание внешней разведки — сыграть французского солдата. Правда, играть пришлось в настоящей войне. Но если верно, что война — одна из игр, в которые играют люди, пусть и самая страшная, то…
Они сражались вместе: уставшие испанцы, обстреливаемые рифами уже несколько лет и новенькие французы. Молодые, звонкие мальчики. Их тоже быстро присыпало белым жарким песком, раскаленным под солнцем Марокко. Присыпало и разбросало. Иногда так, что на утро, — после очередной песчаной бури, — найти блокпост не могли, как бы не искали, просеивая солнечный песок сквозь мальчишеские, еще тонкие, изящные пальцы.
Себастьян Трюдо тогда ходил в белом. Светлом. Только так можно было выжить в палящем зное подольше и — получше. Он научился маскироваться чаем, прятаться за мешками, уложенными высоко, — сначала горизонтально, потом вертикально, и так — сколько хватит взгляда.
В небо. Голубое, от солнца особенно яркое. Лазоревое, нежное, манящее… Оно не могло обмануть, такая красота не заключает в себе зла, и сила ее так велика, что при взгляде в далекое небо от восторга становится больно и сладко. А потом… Французские самолеты с ипритом сменяют друг друга. Летят шумно, неуклюже, ссыпают газ на марокканцев, которые до последнего отказывались сдавать свою землю в колонию — Испании или Франции. Сидя в окопах в ожидании огня или раскуривая сигареты, к которым он пристрастился именно на той войне, он часто слышит от союзных испанцев одно: хорошо, что вы, французы, пришли к нам на помощь. Иначе бы мы не вытянули эту войну…
Аппетит колониальной империи поглотил ее, а сил на битву не осталось. Потому в Испании вербовали и гнали на войну в Марокко не богатых парней, — они могли откупиться, что с успехом и делали, — а нищих мальчишек. Бесплатное мясо. Дешевая кровь. Она омоет древние камни своим алым цветом и скроется в вечных песках. Никто не узнает, сколько мальчишек здесь умерло или еще умрет. Никто не узнает о том, какими они были. Они были бедными, и точка. Империи с колониальными замашками этого вполне довольно для того, чтобы загнать их на войну. Умрут? Ну и пусть. Родятся новые.
Солдаты. Мальчики. Мужчины.
…Хорошо, что вы, французы, пришли. Иначе бы нам не уйти от рифов. Сражаются за свою чертову пустыню до скрипа зубов и запаха сгоревшей кожи… Слушай, Сэб, а как там во Франции? Что ты молчишь? Правда, что есть Париж? И Эйфелева башня? Я где-то читал, что сам Эмиль Золя ненавидел ее, но приходил обедать в ресторан на Башне. Это, говорил он, — единственное место во всем Париже, где ее не видно. Скажи, Трюдо, это правда? Ну, что же ты?... А девчонки, Сэб? Девчонки, француженки? Расскажи о них! Правда, что они маленькие и изящные, тоненькие, словно фарфоровые… эх, я бы сейчас затащился в какое-нибудь варьете! Сам черт меня оттуда не вытащил бы, пока я каждую не…
…О том, что это Испания, — империя, издыхающая в собственном смраде, разинувшая рот на Марокко, — сама пришла забрать у рифов их пустыни, — здесь никого не интересует. В ходу табак. И здорово, если ты умеешь ловко крутить сигареты. Себ умеет. Он быстро учится, даже несмотря на то, что — такой высокий и худой, — выделяется на фоне большинства мелких однополчан как острый, неудобный угол, который никуда не спрячешь. Неплохой парень. Только… кто его разберет? То ли угрюмый, то ли сам себе на уме: другие слышали, как он напевает какие-то песенки себе под нос, когда строит укрепления, таскает пыльные мешки или прочищает ружье от белого, повсеместного песка. От него, песка, просто некуда деться, как не старайся. Засыпается в глаза, уши, ноздри. Глаза воспаляются, краснеют. Их нужно промывать… а как? Три дня назад рифы перекрыли путь к воде. Они, французы и испанцы, начинают медленно сходить с ума от жажды. Положение немного спасает покрытая голова.
Вон, этот Трюдо, смотри. Сам — белый и — в белом.
Похож на высокого неуклюжего призрака. Только глаза горят как-то… слишком ярко, что ли… и смотрит хмуро. Странный, все-таки, парень. Может, он такой, потому что ему всего восемнадцать? Все же — война, как никак. Хотя многие умирают гораздо раньше его восемнадцати лет.
Когда они, солдаты и офицеры постарше, позируют для фото с отрубленными головами грязных марокканцев, и улыбаются, этот чудной Сэб отказывается встать с ними в одну шеренгу. Не хочет держать в руках отрубленную косой саблей, кровавую голову рифа. Не хочет даже стоять с ними рядом.
Как будто он лучше них. Подумаешь!
И не таких здесь ломало.
Просто, на щелчок пальцев.
Когда в небе летит «Голиаф», и заходит на новый круг, они машут ему руками, в надежде, что им сбросят, — нет, не воду, — а хотя бы острую, прозрачную и грязную глыбу льда. Если она не прибьет их с высоты, и их головы останутся целы от упавшей в темноте подачки, они, наверное, смогут дождаться, когда лед станет водой. Но когда лед станет водой, — слишком долго ждать. Их рты измучены жаждой и пустыней. Нет, они не думают, что рифы, — доберись они до их поста, — будут к ним снисходительны. Испанцы рубили головы рифов. А рифы… В ответ на это они не хоронят своих врагов. Их тела разлагаются и гниют под иссушливым солнцем пустыни. Песок забирает кровь, и воздух наполняется удушающим, непереносимым смрадом гниющего человеческого тела. Вонь стоит в воздухе как стена.
Плотная.
Тошнотворная.
Сладкая.
Отвратительная.
От нее, — и от жажды — хочется зарыться в песок. Не чувствовать. Не слышать. Не осязать ее, как горечь смерти.
Но рядом с их постом есть несколько убитых. Они убиты давно и жестоко. В отместку за нарушение границ той страны, где живут рифы. Ни испанцы, ни французы уже не знают, зачем они здесь. Солнце сушит, отупляет, искажает мозг.
Вот, посмотри, — Белый Трюдо, как они его прозвали: бредит и ходит по белому песку.
Пока может ходить. Пока длинные костлявые ноги держат его высокое тело.
А когда ходить уже не может — ползет. И уже не разобрать, что бормочут его потрескавшиеся губы — то ли песня, то ли бред, то ли мечта.
Или молитва.
Все одно.
Все сливается, сваливается в солнечный зенит.
Ярко-голубые глаза, которые он еще недавно промывал водой, — когда у них была эта роскошь, — блуждают в высоте. Где-то рядом с солнечными лучами. Щурятся от солнца, закрываются тонкой, загорелой ладонью. Если правда, что это его первое задание, то, скорее всего, и последнее.
Солдат становится все меньше. Они умирают от жажды. Кто-то стонет, а кто-то зовет близких, — мама, любимая, жена… Слышишь меня, через эти бесконечные пески? Что мы делаем?
…Остов и край ярого, василькового, неба — это все, что видят некоторые из них. Если так, значит, они умерли днем. Надо думать, ночью умирать легче. Ночью в пустыне холодно. Прохладно. Если не будет песчаной бури, то, может, бесконечный песок дарует тебе долгожданный ветер. Он овеет потрескавшиеся, иссушенные, искусанные в кровь губы, и умирать будет не так тяжело: ты сможешь дышать напоследок свободнее.
Завалившись за мешки, которые обозначают их пост, Трюдо разрывает рубашку.
Расцарапывает на груди кожу.
Дышать.
Очень трудно.
Воздух сухой, он не приносит облечения даже ночью. В нем только песок и сухая смерть. Если бы он знал, что так будет… Что тогда, Сэб? Ты бы струсил? Но, право, кто же знал, что первое задание будет таким? Хорошо, все-таки, что ты, Эдвард Милн, вырос в Париже: если начнешь бредить вслух, а не как сейчас, — беззвучно или шепотом, то бормотать свои сумасшедшие бессвязности станешь на родном французском.
…Je suis un garcon
Je suis blond
Je suis grand
Parfois charmant, parfois méchant(1)
Не то, чтобы кто-то тебя мог здесь услышать и «сдать», но легенду нужно соблюдать. Тебя же так учили, да, Сэб?... Он мотает головой на песке. Белый Трюдо не в себе, у него продолжается бред. Он уже не ищет лед. Не ждет воду. Руки и ноги, — такие костлявые и сухие, что их стало тяжело поднимать. Потом, в сводках с этой далекой, невидимой войны скажут, что «марокканцы не хоронили тела врагов, оставляя их гнить там, где они были убиты».
Это была правда. Площадь перед крепостью Монте-Арруит усыпана полусгнившими трупами испанцев. Франция еще не вступила в войну с «грязными мароканцами», и Испании приходится действовать буквально на износ: отправлять бедных молодых парней на войну, потому что богатые парни откупаются от этой сомнительной чести, затыкать роптания в самой Испании, — впрочем, они были не слишком большими, — ведь большинство испанцев понятия не имели, почему их страна воюет с далеким Марокко. И изо всех сил стараться победить в этой рифской кампании.
А еще — форсировать реки танками, рисовать карикатуры на марокканцев, не желающих сдавать свою страну в руки очередных захватчиков. На этих карикатурах шеи темнокожих рифов протыкают штыки испанских ружей, и отрезают, отрезают, отрезают головы...
Враги не уступают друг другу в искусстве зверств и расправ: Белый Трюдо, которому в память о рифской войне навсегда останутся два шрама, один — длинный и тонкий по голове; а другой — глубокий и большой, пересекающий ключицу, как реку, видел, как испанские солдаты с готовностью, с улыбками на лицах, позируют для фотографа, выставляя вперед или в сторону от себя отрезанную голову «врага».
Раз. Два. Три. Четыре.
Пять голов.
По крайней мере, так он помнил тот день сейчас.
А тогда?.. Кто считал убитых?
Родина Себа, Франция, вступила в войну с рифами за два года до ее конца, в 1925-м, и благодаря своей авиации и тяжелым бомбардировщикам «Фарман-Голиаф», засыпала марокканцев горчичным газом, ипритом.
Вспоминая об этом, об истерзанных газом телах, Эд горько усмехался иронии человеческой истории: горчичный газ, впервые примененный немцами в Первой войне против англо-французских войск возле бельгийского города Ипр в 1917 году, теперь сами французы применяли против марокканцев. А еще говорят, что французы и немцы плохо ладят…
— У иприта нет антидотов, Трюдо, ты знаешь?
…Je suis une fille
Je suis blonde
Je suis grande
Parfois charmante, parfois méchante(2)
Да, он знает.
И пусть тогда у него еще не было медицинского образования, — обучение в университете Гейдельберга начнется для него позже, и он, перестав быть Себастьяном Трюдо, впервые станет Харри Кельнером, — Милн и без профессоров знает о том, как действует этот газ, если его сбрасывать на людей в виде бомб: поражение слизистых оболочек глаз, носоглотки, верхних дыхательных путей, язвы с мелкими пузырями, с прозрачной жидкостью внутри. Когда пузыри лопаются, на их месте появляется язва. Она заживает очень долго. Если вообще заживает… Милна-Трюдо проносит мимо иприта, которого досталось очень многим, — и рифам, которых они должны были убить, и у которых не было ничего против французской авиации, и им, «правой» стороне.
Его проносит мимо той смерти, когда голова раздавлена сброшенным кубом льда, его проносит… Но жажда остается навсегда. Как маяк, к которому даже после всего вынесенного им в пустыне, и высеченного ранами на теле, ему очень страшно приближаться. А еще он никак не может понять и вспомнить, кто вытащил его из тех песков? Белый Трюдо остался жить. Зачем?
Его родители погибли через год после того, как они переехали из Парижа в Ливерпуль. Автомобильная авария. Погибли на месте, на загородной ночной дороге. Потом полицейские скажут, что его отец не справился с управлением. Эдвард никогда не верил этому. Слишком абсурдно, чтобы быть правдой. Сначала он хотел там побывать, — встать ногами на ту точку земли, которая унесла жизнь его родителей. Маму он очень любил. Веселая и нежная, она учила его не быть категоричным, и не лезть в драку, не разобравшись. Но он все равно лез, из одной — в другую. Мама говорила, что сила ничего не решает, а он просто хотел, чтобы отец видел и знал, — он, Эдвард Милн, растет настоящим мужчиной.
Светлые волосы и голубые глаза — это от мамы. Высокий рост — от отца, строгого и немногословного. Эд его таким и запомнил: сосредоточенный, вытянутый вверх, вечно занятый своими архитектурными делами. Он тоже хотел стать архитектором, — строить новые здания как новые миры. Порталы, ведущие в иные измерения.
Но когда родители погибли в аварии, он забыл о своем желании. Изгнал из памяти. Отец умер, и грандиозные здания из белого камня скрылись в темноте. Строить их стало некому и не для кого. Элтон и Мадлен Милн умерли в мае, накануне последнего лета, которое оставалось у Эдварда перед поступлением в Итон. Обязанности по его воспитанию перешли к брату отца. Но тому было плевать на Эда. Зачем ему воспитывать мальчишку, от огромного состояния которого он ни черта не получит? Впрочем, Милн-младший отвечал дяде взаимностью.
По завещанию отца, которое тот обновлял каждый год, — словно предчувствуя что-то? — Эдварду Милну в случае смерти Элтона Милна в личное распоряжение переходили ценные бумаги, движимое, недвижимое имущество, архитектурное бюро… Словом, все, что принадлежало Элтону, и в случае трагедии или иной его смерти, становилось собственностью Милна-младшего.
За лето 1919 года Эдвард сделал то, что обещал самому себе: перешел в стан мужчин и принял участие в первых, более менее профессиональных, — а на деле просто безумных по скорости и опасности, — гонках. Сначала он научился гонять на «трещотках», специальных облегченных мотоциклах с мощным двигателем и низкой посадкой. Тормозов у них, как и у сменивших их первых автомобилей, попросту не было.
Как не было и защиты во время гонок, где скорость, которую он, как гонщик, развивал на борд-треке, переходила все разумные пределы. Даже пилоты, уже ставшие победителями в гонках, несмотря на опыт, в новом заезде могли легко разбиться. И разбивались.
К тому же, деревянный настил круглого трека позволял сохранять полную скорость даже на поворотах. А это значило, что скорость была запредельной, и во время гонок в воздухе летали щепки и цельные доски от разбитого мотоциклами деревянного настила.
Дважды Милна, все-таки, выносило за пределы деревянной трассы. Но то ли потому, что для него было приготовлено что-то другое, то ли от силы остервенения и ярости, с которыми он снова и снова возвращался на гонки, травмы его были легкими, по меркам же гонок на борд-треках они и вовсе отсутствовали. Для Эда все могло закончиться точно так же, как ночная дорога на загородном шоссе — для его родителей. Если бы не остановка, на которой ему пришлось выйти.
Итон.
Не то, чтобы колледж его «спас». Скорее, притормозил. А вот такого понятия как «спасение» тогда в словарном запасе Эдварда не существовало. Все, чего он хотел — это гоняться по деревянному борду без остановки, день за днем. Так быстро, чтобы даже сам дьявол не сумел догнать его. Спросите, как его, тринадцатилетнего, допустили до гонок? Деньги быстро решили все возникающие вопросы даже у тех, кто хотел это знать. Но большинство — не хотело. А ему, Милну, нравилась дикая скорость, в бреющих потоках которой он пролетал один круг за другим, даже не различая человеческих фигур в одной сплошной, ревущей перед глазами, разноцветной ленте зрителей.
Теперь он точно знал, что не погибнет в автомобильной аварии, — он очень хорошо управляет автомобилем, и умрет не так, как умерли родители.
…До начала учебного года еще оставалось немного времени, и Милн целых две недели августа потратил на встречи с девчонкой, с ней же лишился девственности. Девочка смотрела на него круглыми немигающими глазами и слушала все, что он ей говорит. Впрочем, слушать было особо нечего, — в этом он тоже, может быть, и сам того не подозревая, был очень похож на отца: говорил скупо, редко и мало, только «по делу».
Конечно, мама учила его совсем иному в обращении с девочками, но какой теперь в этом был прок, если Мадлен Милн, вылетев из машины во время аварии, умерла? Единственное, на что еще годилась их машина после аварии, — быть сброшенной в пропасть, как груда металла, не подлежащая восстановлению.
Эд был на месте аварии. И на похоронах родителей. Стоял в черном пиджаке и белой рубашке как вытянутый циркулем клоун, — с длинными руками, которые не знал, куда деть. На следующий день после похорон он, никому ничего не сказав, снова поехал на место аварии. Стоял там, где они разбились, пока не наступила ночь. И молчал.
День клонился к закату, а он все стоял и смотрел на пятна крови, разбросанные по асфальту. Они были повсюду, похожие на темно-красные жарки́. Или просто безумные кляксы. Это было до появления пятен Роршаха, а то бы Эд непременно спросил его, — что могут диагностировать эти кляксы?..
Эдвард Милн проучился в Итоне целых пять лет, завел друзей и приятелей, знакомых и полузнакомых, но никому из них, даже Стивену Эшби, он не рассказал о своих родителях.
О маме с небесными глазами. О немногословном, строгом отце. Не знал — как. Как рассказать? И зачем? Жалости к себе он не терпел, и вызывать ее не собирался. Пусть так будет и дальше, — зоной молчания, за пределами сердца.
Стивен рассказал ему о смерти своих родителей, когда они уже стали друзьями: гоняли футбольный мяч, боксировали друг против друга в шуточных поединках. Одним апрельским теплым утром, когда они вышли на ринг и натянули перчатки, Стив так и сказал:
— Знаешь, мои родители умерли несколько лет назад. От испанки.
Вытолкнув эти слова изо рта, он замолчал. Закрыл глаза, опустил голову вниз, и долго стоял так, чувствуя, как солнечные лучи греют его спину своим теплом, проникая сквозь пыльные подвальные окна. Эд едва не сказал то же, о своих маме и папе. Но промолчал. Только подошел к Стиву, и похлопал его по плечу, сбивая боксерской перчаткой боль с давней раны. И тоже долго молчал, наблюдая за ярким, белым и прозрачным солнечным светом, в лучах которого медленно кружились невесомые пылинки.
По письмам друга он уже был знаком с маленькой Элис, — даже писал ей какую-то веселую, легкую чехарду. Может быть, больше для себя, чем для нее. Но тогда, остановившись на ринге, он прежде пожалел о ней, не о Стиве. О том, что ей тоже нужно вынести такую же боль, что была у него. Это было так удивительно и непонятно. Почему он вспомнил о ней? Жалел ее первую, а не Стива?..
Мама говорила Эдварду, что девочки слабее мальчиков, и что о них нужно заботиться. И ему вдруг захотелось, чтобы эта девочка, которую он, может быть, никогда не увидит, была сильнее своей боли. Ради этого он даже готов был поговорить с богом, в которого не верил. Интересно, бог принимает мальчишеские просьбы, скупые и горячие, как ночная молитва?
Милн плохо спал. Бредил от раны, бормотал во сне. Элис тоже теперь спала плохо, — чутко, урывками, прислушиваясь к рваному дыханию Милна, и посвящая все свое время работе над эскизами будущих платьев, которые она должна была сшить в ближайшие три месяца. Ее тревожил не сам показ, но платья. Сможет ли она сшить их в манере Аликс Бартон? А если нет, что они тогда сделают?.. Волнуясь, она намотала тонкую нить на указательный палец, чувствуя, как постепенно немеет рука. Минуты шли, но Элис не двигалась, — только ее глаза беспокойно перебегали с одной вещи на другую.
Напольное зеркало в тяжелой деревянной раме, уголок яркого ковра, шкатулка… Кровь в перетянутом ниткой пальце забилась сильнее, и Элис удивленно посмотрела на руку. Дурацкая привычка, оставшаяся с детства. Вздохнув, она взглянула на спящего Эдварда.
Раны сильно изменили его лицо, явственно разделив его на две половины. При взгляде на ссадины и зашитую бровь где-то в животе Эл проскользнуло липкое чувство страха и холода.
Эл тихо поднялась с кровати, обошла ее и склонилась над Эдом. Протянув руку к его виску, она хотела коснуться раны, но остановилась, вовремя вспомнив его веселое «это очень хорошо, Эл», — сказанное в ответ на ее объявление о том, что она помыла руки перед тем, как зашить его бровь. Осторожно коснувшись губами горячего, пульсирующего шва, она выпрямилась и вышла из комнаты, чтобы через несколько минут вернуться с тем же набором: вата, перекись и мазь, которую для них сделала Кайла после того, как они побывали в гестапо, и которой обрабатывали свои порезы и ссадины.
Обтерев рану смоченной в воде губкой, Элис аккуратно промокнула салфеткой несколько оставшихся на коже капель воды, и обработала шов, прикасаясь к нему как можно легче. Кожа вокруг шва воспалилась и начала стягиваться, очевидно, причиняя Эдварду дискомфорт. В какой-то момент он вздрогнул, но потом медленно расслабился, пробормотав: «они не видят это… хорошо». Эл почти закончила наносить густой слой мази на шов, когда Эдвард открыл глаза и сонно, с удивлением, посмотрел на нее.
— Доброе утро.
От неожиданности она чуть вздрогнула.
— Испугал?
— Немного. Я стала слишком пугливой. Как себя чувствуешь? Сильно болит? Выпьешь обезболивающее?
Милн улыбнулся и поморщился.
— Слишком много вопросов, Эл. Я еще не знаю.
Он замолчал, разглядывая ее встревоженное лицо, и тихо прошептал:
— Спасибо.
Элис отвела взгляд в сторону и поднялась с кровати, но он сжал ее руку.
— Ты покраснела.
— Нет, мне… — оглянувшись, она зацепилась взглядом за свои эскизы, и с облегчением выдохнула, — …нужно работать. До показа осталось всего три месяца.
Милн улыбнулся.
— Брось, Эл! Смотри, какое солнце. Поехали на озеро. Будем гулять, кататься на лодке.
Чувствуя, что она хочет отказаться, Эдвард вытащил последний козырь.
— У нас всего один выходной в неделю. Возьми свои рисунки с собой, если хочешь.
— Какое озеро?
— Выбирай любое, — с усмешкой сказал Эдвард.
* * *
— Фрау Кельнер?
Рудольф Биттрих прервал беседу с эсесовцем, и удивленно посмотрел на супругов.
— Не знал, что вам нравится озеро Ванзее.
Харри и Агна изобразили идиотское приветствие, но Биттрих, как и прежде, склонился над рукой фрау Кельнер.
— Вы очаровательны, фрау.
— Благодарю, оберштурмфюрер. Это мой супруг.
— Харри Кельнер, сотрудник нашей компании «Байер», — закончил за Агну Биттрих, надменно рассматривая блондина. — Что с вами произошло, герр Кельнер? Что с вашим лицом?
— Неудачный боксерский раунд, оберштурмфюрер.
— Так вы боксируете? Судя по всему, не слишком удачно?
Биттрих улыбнулся, и по быстрому движению его бледных глаз было видно, что он ищет фразу для продолжения разговора.
— Я, знаете ли, тоже. Может быть, однажды мы с вами сойдемся в поединке?
— Как вам будет угодно, — Кельнер вежливо улыбнулся, разглядывая Биттриха.
— Хотя это вряд ли возможно, Кельнер. Как сотрудник СС я не могу позволить себе сражаться с тем, кто ниже меня и к СС не относится.
— Не все удостоены такой чести, оберштурмфюрер.
Харри говорил ровно и отвлеченно, и Агна вспомнила, что давно не слышала у него такого тона. С ней он всегда говорил иначе.
— Так вы, стало быть, убеждены, что быть членом СС означает отсутствие достоинства?
Глаза Биттриха прищурились, вгрызаясь взглядом в Кельнера, и он вплотную приблизился к Харри.
Агна с тревогой взглянула сначала на Биттриха, потом на Харри, и, зайдя на полшага за спину мужа, сжала его руку. По лицу Харри прошла вежливая, закрытая улыбка.
— Я сказал не об этом, господин оберштурмфюрер. Это решать не мне. Только фюрер способен дать единственно верный ответ, достоин ли я быть в рядах СС. Принцип фюрерства…
— Гласит, что фюрер всегда прав. Да, Кельнер, именно так. И все-таки, я бы хотел…
— Прошу прощения, господин оберштурмфюрер, что прерываю ваш разговор, но могу ли я показать вам эскизы, которые я успела сделать?
Агна разжала пальцы Харри, и, подняв голову вверх, поднесла руку ко лбу, защищая глаза от яркого солнца, и очаровательно улыбаясь Биттриху. Эсесовец растерянно посмотрел на Агну и улыбнулся ей в ответ.
— К-конечно, фрау… пройдемте.
Биттрих указал жестом вперед, и Агна, быстро взглянув на Харри, пошла за ним.
Пройдя несколько шагов, они остановились, и Кельнер увидел, как Агна раскрыла папку с эскизами и протянула Биттриху верхний листок. Оберштурмфюрер долго рассматривал рисунок, не прикасаясь к нему, потом что-то коротко сказал Агне. Она достала другие рисунки, поочередно показывая каждый из них Биттриху.
— Я изумлен, фрау Кельнер. Не думал, что вы так серьезно отнесетесь к этому заданию.
Биттрих улыбнулся, вплотную подходя к девушке.
— Я люблю свою работу, господин оберштурфюрер.
— Это я уже слышал, Агна. А вашего мужа? Вашего мужа вы тоже любите?
Эсесовец преградил дорогу, закрывая ее от взгляда Харри.
— Я…
Агна в замешательстве посмотрела на Биттриха, и, опустив глаза вниз, начала быстро собирать рисунки в папку, надеясь, что это отвлечет его.
— Впрочем, это не важно. Любовь, как и всякие иные чувства — это пережитки прошлого, мы же — герои, залог прогрессивного будущего. Женщина третьего рейха не может принадлежать одному мужчине, не так ли?
Он едва успел сжать ее руку, как до них донесся оглушительный крик лодочника, от которого Биттрих вздрогнул.
— Чертов идиот!..
— Прошу прощения, господин оберштурмфюрер, лодка готова. Я хотела бы успеть посмотреть на малое озеро.
— Я не смею вас задерживать, Агна. Ваши рисунки очень… — Биттрих замолчал, очевидно, снова подбирая слова, — …техничные. Обсудим это завтра, в ателье.
Поцеловав руку Агны, — а на деле неуклюже ткнувшись в нее носом, — оберштурмфюрер быстро ушел вперед, продолжая ругать лодочника, который решил объяснить Кельнеру, как он будет управлять лодкой, и какие сложные места могут встретиться им на реке Хафель по пути на озеро Малое Ванзее.
Агна, подойдя к Харри, с улыбкой поблагодарила лодочника и сказала, что они справятся сами, и его услуги им сегодня не понадобятся. Она села в лодку и взялась за правое весло, аккуратно двигая им, и прислушиваясь к тому, как тихо скрепят железные петли. Когда Харри сел рядом, они отчалили от берега и первое время правили лодкой в полном молчании.
Солнце сопровождало их, согревая воду лучами. У дальних берегов лениво плавали лебеди и утки, — царственные и шустрые в середине озера, они шумно дрались друг с другом из-за хлебных крошек, которые дети бросали им в воду. Все вокруг дышало мирным спокойствием, и, рассматривая окружающую их красоту, Эл завела весло в лодку, встала со скамьи, и, покачиваясь, ушла к носу маленького судна. Сбросив туфли, она перебросила ноги за борт, но уже через минуту свернулась на деревянном дне лодки, угрюмо смотря вперед.
— Как это существует рядом? Вся эта красота и черная форма? — медленно прошептала она, услышав за спиной шаги Эдварда, и поворачивая голову в его сторону. — Ты сегодня говорил во сне, сказал «они не видят это…». О ком это? — Элис положила голову на сложенные руки.
Эдвард посмотрел на нее долгим, внимательным взглядом и растянул губы в закрытой улыбке. Эл видела, как она быстро сползла с его губ, и лицо снова стало серьезным.
— Не знаю, — ответил он, смотря вдаль.
Эл покачала головой.
— Знаешь. Только не хочешь сказать.
Она произнесла это легко, без всякого упрека, меняя тему разговора.
— Я думаю, тебе стоит извиниться перед Кайлой.
— Нет. Это моя обязанность: знать, причастна ли она к установке прослушки.
— И тебя не волнует ее состояние? Она же дрожала от страха, когда ты ее допрашивал! — Элис прислонилась спиной к внутренней стороне борта, и сердито посмотрела на Милна.
— Не сгущай краски, Агна. Это не был допрос. Допрашивают совсем иначе, и ты это знаешь. Я не думал, что Кайла так отреагирует на мои слова, и мне жаль, что так вышло, но извиняться перед ней я не стану.
— Но…
— Я сделал то, что должен был. Здесь я верю только себе и тебе, опасность слишком велика, чтобы можно было…
— Вести себя по-доброму? — колко закончила фразу Эл.
Посмотрев ни Милна, она отвела взгляд, быстро моргая длинными ресницами.
— Сегодня нам нужно отправить ответ. Что мы сообщим?
— Что Агной Кельнер увлечен оберштурмфюрер, и что Харри Кельнер, может быть, должен вступить в СС, — Милн произнес фразу ровным голосом Кельнера, но пульсирующая вена на виске выдала его.
— Он не…
— Он хочет тебя. Я видел, как он на тебя смотрит. Что он сказал на берегу?
Элис проводила взглядом мягкую волну, и тихо ответила:
— Думаю, ты и так знаешь.
1) Я мальчик, я блондин, я высокий. Иногда добрый, иногда озорной.
2) Я девочка
Я блондинка
Я высокая
Иногда обаятельная, иногда вредная
Агна закрепила на безголовом манекене подол будущего платья, и отошла назад, оценивая сочетание лифа и юбки. «Пожалуй, юбку следует сделать еще у́же и длиннее, — подумала она, — это же не платье дирндль». Сшей она всю коллекцию в подобном, «истинно германском стиле», ее ждал бы успех, но… Девушка вернулась к манекену, на шее которого было отпечатано «DM» — Deutsche Modeamt(1), и сделала несколько узких складок на левом плече. Темно-розовая ткань послушно согнулась в узкие, — не более полутора сантиметров, как учила их мадам Бартон, — полоски, и замерла под ее пальцами. Это была последняя из десяти моделей, которые Агна готовила к показу.
Когда подготовка к показу только началась, она, обеспокоенная тем, что драпировки Аликс, о которых было уже так много сказано, и которые лично ждала супруга «усохшего германца»(2), у нее не получаются, решила, что на всех моделях будут только два вида сложения ткани: небольшая по объему драпировка, подчеркивающая какую-то одну деталь платья, и та, для которой нужны более объемные, широкие складки.
Филигранные узкие полоски, которые на протяжении всего пути Бартон, — будущей мадам Гре, — будут отличать ее платья от всех других, у Агны так и не выходили. Она была уверена в этом, и после нескольких неудачных попыток уже больше не возвращалась к этому, самому элегантному на ее взгляд, виду драпировки. К тому же, для изготовления такого украшения требовалось гораздо больше того времени, что оставалось у нее до дня проведения показа.
Нервничая с каждым днем все больше и больше, Агна считала оставшееся до показа время. И именно в эти дни драпировки, как ей казалось, получались еще хуже прежнего. От волнения ее пальцы часто дрожали, и потому даже небольшие по объему сложения ткани она переделывала бесчисленное множество раз. Ко всему прочему, назойливость Биттриха, который, как ей казалось, постоянно присутствовал рядом, — стоя за спиной или просто разглядывая ее, когда она работала, изрядно действовала Агне на нервы.
Другие девушки, с которыми Агна работала над подготовкой платьев, уже давно разошлись по домам, но она, по привычке, сложившейся за последнее время, осталась в модном доме, чтобы успеть доделать модели к вечеру, который должен был состояться уже через несколько дней, и на который, — девушка знала это от Биттриха, приходившего в дом мод почти ежедневно, — приглашены «первые люди рейха». При мысли об этом Агна нервно сглотнула, и начала делать новую драпировку на лифе.
Был конец июня. За окнами кружилось, переливаясь солнечно-изумрудными красками, прекрасное берлинское лето. Поздним вечером тепло дня сменялось прохладой и свежестью, и каждый день, уходя из ателье последней, Агна наслаждалась вечерней прохладой. За эти недели она успела особенно полюбить работу в тишине вечернего здания, — минуты, когда она была наедине с собой, могла думать и выглядеть так, как ей захочется, без оглядки на царившие вокруг красно-черные порядки. Закончив работу, она закрывала двери модного дома на ключ, садилась в черный, блестящий «Хорьх», и неспешно вела его в Груневальд, к трехэтажному дому с синей крышей.
В один из таких вечеров, остановившись у высоких ворот дома Кельнеров, украшенных витыми железными узорами, она долго смотрела в небо. Темное и синее, иногда, на несколько мгновений, оно становилось червонным. Похожее на перевернутое море, вечернее небо светило Эл далекими звездами, подмигивая ей то крупной и желтой, то мелкой, почти белой, звездой. Элисон долго, безмолвно смотрела в небо, завороженная его красотой. Первая мысль, промелькнувшая в эту минуту, была о том, что так любить небо она научилась у Эдварда. Вторая — о том, что именно здесь, в высоком доме с горящими теплым светом окнами, она впервые чувствует себя дома, показалась сумасбродной: как это возможно? Этот Берлин — ее дом? В замешательстве Элис тряхнула головой, отгоняя от себя нелепую мысль, но уже тогда знала, — это правда. Именно Берлин, Груневальд, а за ними и этот красивый особняк, стали для нее тем самым домом, который она так давно хотела найти. Да, здесь было опасно. Да, за ними, как и за любым другим человеком в Германии и за ее пределами, — если вы были эмигрантом, — могли прийти в любой момент, тогда, когда им будет угодно.
Они могли установить новую прослушку под видом проведения в доме ремонтных работ, могли — и уже наверняка собрали — на них самое подробное из всех возможных досье, не брезгующее никакими сведениями. В нем, по привычке нацистов, было все: от даты рождения и до того, когда и с кем вы сначала спали, а потом, может быть, завтракали.
О чем говорили и о чем молчали, — тайная полиция хотела знать все. И часто многое знала, уверенная, что благодаря ей нацистская Германия становится день ото дня сильнее и несокрушимее.
Но против этой, звездной, простой и вечной красоты, даже нынешняя Германия ничего не могла предпринять. А если так, то звезды будут светить всегда, и в самой промозглой тьме. Тогда, улыбнувшись своим наивным мыслям, Элис еще раз взглянула на небо, и пошла к дому.
* * *
Дверь, ведущая в ателье, негромко хлопнула. Различив в наступившей тишине знакомые шаги тяжелых сапог, Агна вплотную приблизилась к манекену, сделала глубокий вдох и на секунду закрыла глаза.
— Фрау Кельнер!
В пустом зале ателье восклицание прозвучало оглушительно, с характерным для этого голоса присвистом, и девушка выпустила ткань, вытягивая руку вдоль тела, — в ожидании обычного для Биттриха приветствия, которое он всегда совершал с величайшей неловкой церемонностью: как если бы внезапно открытый, затхлый сундук решил поразить воображение дамы пылким галантным приветствием, прибитым сверху густыми комьями свалявшейся, серой пыли.
— Оберштурмфюрер, добрый вечер.
Агна быстро улыбнулась, и по привычке перевела взгляд на точку между белыми, едва заметными бровями эсесовца: так он был уверен, что она смотрит ему в глаза, а она могла избежать встречи со слишком пристальным взглядом его светлых, вечно изучающих ее, выпуклых глаз.
— Сколько раз я говорил вам, чтобы вы называли меня по имени!
Его вытянутое, слишком ассиметричное лицо, недовольно уставилось на Агну. Нижняя губа, полная и блестящая, опустилась вниз.
— Прошу прощения… Рудольф.
Чужое имя прозвучало слишком официально. Так огромные камни, падая на землю с большой высоты, режут своими острыми гранями сухую землю, поднимая за собой столбы пыли. Но эсесовцу, судя по его ухмылке, такое обращение понравилось.
К тому же, его никогда не интересовала ответная реакция девушки. Он хотел Агну Кельнер, но пока не достиг поставленной цели. Несмотря на все свои усилия, Биттрих не мог сдерживаться в ее присутствии, и вел себя с Агной неровно и нервно. Постоянно думая о жене Кельнера, в один день он то порывался непременно, — сегодня же! — получить, а если потребуется, то взять ее силой, и тем самым снять мучившее его вот уже на протяжении нескольких месяцев тягостное вожделение, — которое не проходило даже после его частых визитов в берлинские ночные притоны, — то вдруг, сидя за столом в своем кабинете на улице принца Альбрехта, 8, и допивая вторую чашку обжигающего черного кофе, — его Биттрих непременно смешивал с первитином, — он напоминал себе, что торопиться не стоит: пренебречь его, оберштурмфюрера (и это в 27 лет!), знаками внимания, Агна Кельнер все равно не может. А желание утолить жажду порой стоит столь долгого ожидания.
Маленький рот Биттриха довольно расплылся в улыбке. Поцеловав руку фрау Кельнер, он сжал ее сильнее, внимательно изучая длинные пальцы.
— Я вас прощаю, Агна. Но знаете, что меня больше всего интересует?
Он повернул ее руку ладонью вверх, медленно проводя по ней пальцами.
— Как ваш муж мог изменить вам с Ханной Ланг? И почему вы не носите обручальное кольцо?
Бледные глаза Биттриха внимательно посмотрели на Агну. При упоминании имени Ханны она вздрогнула и отвела взгляд в сторону, чувствуя, что краснеет. Именно в этот момент Агна и заметила, что на кителе эсесовца не хватает пуговицы.
— Позвольте, я пришью пуговицу на ваш мундир? — спросила девушка, поднимая глаза на эсэсовца.
Она широко улыбнулась, радуясь найденному предлогу для смены разговора, и не подозревая о том, что именно эта улыбка делает ее особенно красивой, придавая взгляду легкость и теплоту. Биттрих, который и без подобной улыбки с первого дня их встречи здесь, в ателье, вел себя с фрау Кельнер как идиот, — и ругал себя за это на чем свет стоит, бормоча себе под нос что-то про «бурю и натиск», правда, не в отношении поэтических обществ, которых, к тому же, сейчас существовать не могло, — замер на месте совершенным болваном. Когда оцепенение прошло, он разозлился и снял черный мундир, разрешая Агне пришить пуговицу с индивидуальным номером — 1194/39. Круглая медная пуговица легко перекатилась в ее ладони. Совсем как тогда, в гостиной их дома. Правда, у той пуговицы было сломано ушко, а эта была целой, но номер — тот же: Агна помнила его слишком хорошо. Вытащив из подушечки, закрепленной на запястье, иголку, Агна продела в нее нитку, ловко пришивая пуговицу. Едва она успела оборвать оставшуюся нить, как Биттрих резко выхватил мундир из ее рук.
— Так почему вы не носите обручальное кольцо?
— Оно слишком массивное, оберштурмфюрер, я снимаю его, когда работаю.
В подтверждении своих слов, Агна поднялась со стула и повернула голову, взглядом указывая на безмолвный манекен. Биттрих схватил ее за подбородок, разворачивая красивое лицо к себе.
— Называй меня «Рудольф»!
Выплюнув фразу в лицо Агны вместе со слюной, он наклонился и поцеловал девушку, — грубо, неумело, слишком торопливо, — выходя за контур ее губ, и размазывая слюну по лицу. По телу оберштурмфюрера прошла дрожь, и он сильнее схватил Агну, не замечая выражения боли на ее лице и того, что, как и прежде, она деревянно застывает в его руках, стоит ему приблизиться к ней. Подобные излияния чувств со стороны Биттриха происходили все чаще. И по тому, как его трясло, стоило эсесовцу поцеловать ее в очередной раз, Агна знала, что долго это не продлиться, — он потребует большего. И думать об этом ей было страшно.
Поэтому тревога росла, лишала Агну сна, будила среди ночи. В такие минуты девушка молча рассматривала плотную ночную темноту спальни, слабо надеясь на то, что Биттрих откажется от своей цели. Минуты перетекали в часы, и, чтобы успокоиться, девушка заставляла себя сделать несколько глубоких вдохов и выдохов. Повернув голову, привыкшим к темноте взглядом, она смотрела на Эдварда, спящего рядом. А если за окном уже светился рассвет, то Агна тихо наблюдала за тем, как лучи окрашивают стены их комнаты алым, а потом касаются Эда, и кожа его становится золотисто-оранжевой, а волосы — почти багряными… Эдварду она ничего не могла, не хотела говорить про Биттриха. И судя по тем взглядам, что он останавливал на ее лице, Милн прекрасно понимал происходящее. Отвечая на взгляды Эдварда, Элис смотрела на него вопросительно. Он же, заметив это, крепче сжимал губы и отворачивался к окну, или вовсе, бросив газеты, выходил из комнаты, громко хлопнув дверью.
Первые поцелуи Биттриха доводили Агну до слез, вызывая особенно сильное отвращение. И потому она решила ни единым словом или жестом не поощрять его, надеясь, что такое поведение с ее стороны остановит эсэсовца. Но, судя по сегодняшнему поцелую, она снова ошиблась, и теперь совершенно не знала, что ей делать. Как отвлечь внимание Биттриха от себя, не становясь при этом шлюхой, выставленной в витрине, — какой ее, наверное, с самого начала видел Баве? Когда эсэсовец, наконец, отстранился от нее, его глаза горели огнем. Он смотрел на Агну, и не видел ее.
— Скоро, скоро! Через шесть дней Рем сдохнет!
Осмотрев фрау Кельнер все тем же взглядом, он безумно улыбнулся, и резко развернувшись на каблуках сапог, быстро вышел из ателье.
* * *
Хлопнув дверью, Элис вбежала в библиотеку на первом этаже дома Кельнеров, прошла мимо Эдварда, и, толкнув один из книжных стеллажей, скрылась в потайной комнате, которую они обнаружили больше года назад, когда только поселились в Груневальде. В этой маленькой комнате хранился чемодан с радиопередатчиком, который они использовали для отправки сообщений в Центр. Книжный стеллаж плавно открылся, выпуская ее, и снова бесшумно вернулся на прежнее место. Элис подошла к столу и осторожно опустила на него тяжелый чемодан. Щелкнув кодовыми замками, она открыла его, удостоверилась, что все нужное для передачи сообщения оборудование на месте, провела рукой по черным блестящим наушникам, и закрыла крышку.
— Нужно передать сообщение. Срочно.
Эдвард, наблюдавший за ней все это время молча, кивнул и выжидательно посмотрел в глаза Элис. Она резко подняла голову, отвечая ему каким-то странным, разгоряченным взглядом, и добавила шепотом:
— Рёма убьют тридцатого.
— Откуда? — так же тихо спросил Милн, вплотную подходя к ней.
— Биттрих, — произнесла Эл, выплюнув фамилию эсесовца, и снова посмотрела на Милна тем же воспаленным, как ему показалось, вопросительным и осуждающим взглядом, значение которого он понял только после следующих слов Элис.
— Он знает все, знает про тебя и Ханну.
Сказав это, Элис стащила чемодан со стола и пошла к двери.
Летний вечер, наконец, наступил, и это позволило Кельнерам под видом прогулки по лесу Груневальда, передать шифровку в центр. Аккуратно расправив провода, Милн зацепил их за ветки ели, и вернулся к «Мерседесу», открытому с пассажирской стороны, где сидела Элис.
— Уверена, что справишься?
Она все так же резко подняла голову, и на мгновение в ее глазах блеснули слезы.
— А ты?
Эл отвернулась прежде, чем Эдвард успел хоть что-то спросить, и положила пальцы на черный передатчик. Милн посмотрел на наручные часы, фиксируя положение стрелок на циферблате.
— Начали!
Послышался знакомый прерывистый звук блестящей, черной лапки передатчика, которому позже охотники из гестапо придумают отдельное название. Внимательно глядя перед собой, Элис быстро и сосредоточенно отстукивала короткое сообщение для разведки Ми-6 в Лондоне: «Убийство Рёма назначено на 30 июня, информация точная. Подробности позже». Передача шифровки заняла несколько секунд. За это время, отведя взгляд от циферблата часов, Милн успел быстро взглянуть на напряженное лицо Элис.
Ее губы, четко очерченные и бескровные, были плотно сжаты, глаза горели ярче прежнего, и в его мыслях снова мелькнул вопрос о том, что с ней случилось? Никогда прежде он не видел ее такой: движения были очень четкими, но резкими, а вся она походила на плотно сжатую пружину, готовую ударить любого, кто рискнет к ней прикоснуться или же просто поднести руку.
Завершив передачу, Элис сняла наушники и положила их перед собой на колени, ненадолго закрыв глаза. Ее тело дернулось, она выпрямилась на автомобильном сидении, разобрала передатчик, проверила сохранность всех деталей, и плотно закрыв крышку кожаного чемодана, замерла. Внезапно порывы прохладного ветра сменились густыми сумерками и ливнем, косо залетавшим в открытое окно «Мерседеса». Он хлестал Эл по лицу, оставляя на нем и на ее плаще темные следы разбитых капель, но девушка будто ничего не замечала, — только крепче обнимала тонкими руками чемодан, и по-прежнему молчала, глядя прямо перед собой.
Вот рука Эда протянулась рядом, чуть задевая пояс ее плаща, — отчего Элис, погруженная в свои мысли, вздрогнула и вжалась в спинку сидения, — и легла на рычаг для регулировки оконного стекла, расположенного на дверце, с ее стороны. Подняв стекло до упора, Милн посмотрел на Элис близко-близко, — она чувствовала его непонимающий взгляд на своем лице, он был тяжелее обычного, — слишком внимательный, будто мог вызнать у нее все, что она желала бы скрыть. Ничего не сказав, Милн вернулся в свою сторону, и повел автомобиль к дому с синей крышей, под которой жили Агна и Харри Кельнер.
* * *
Обняв спящую Элис, Милн медленно поцеловал ее, наслаждаясь теплом нежной кожи. Повернувшись к нему, Эл улыбнулась, все еще пребывая на невидимой грани между явью и сном, и открыла глаза. Сон окончательно рассеялся, и она почувствовала, как приглушенная тревога, ставшая ее привычной и постоянной спутницей, напомнила о себе. «Он знает про тебя и Ханну…Черт бы побрал эту твою мягкость, Эл! Почему ты называешь вещи не своими именами? Почему просто не сказать — измена? Тебе все еще больно говорить об этом, вот почему. Надеешься, что сможешь сбежать от своих чувств и остаться с Эдвардом, не смешивая, как он сказал, личное и работу? Тогда почему сейчас ты замираешь от его поцелуев, и не торопишься их прервать? Уже забыла, простила? Значит, тебе можно снова изменять, и ты не будешь против? А они все знают, Эл, они все знают…».
— Нет, — Элис выпрямила руки и попыталась встать, — перестань!
Эдвард тяжело вздохнул.
— Черт, Эл! Я так больше не могу! Не могу быть рядом с тобой, и не сметь прикоснуться к тебе. Я скучаю по тебе, я хочу тебя, — он сжал ее руку, измеряя любимое лицо горячим взглядом. — Скажи мне, скажи сама, что ты меня не хочешь!
Элис долго смотрела на него, переводя взгляд от одной черты лица к другой, снова и снова разглядывая растерянное лицо, искаженное отчаянным, разгоряченным взглядом, который, казалось, обладал физически ощутимой силой. В выражении ее глаз что-то изменилось, протест сменился растерянностью, и стена отчуждения, построенная Эл, начала рушиться, — Эдвард видел, чувствовал это! Сгорая от желания услышать ответ, Эд приподнял голову чуть выше, повторяя губами движения губ Элис, с которых, — подожди он еще одно мгновение! — сойдет ответ…
Во входную дверь громко постучали.
— Нет, Эл, нет!
Элис растерянно улыбнулась.
— Надо открыть.
— Пусть уходят, пусть идут к черту! Не уходи!
Она посмотрела на часы, которые показывали половину седьмого. Громкий стук повторился. Элис поднялась с постели, завернулась в шелковый халат и пошла к лестнице.
На пороге дома Кельнеров, вытянувшись так сильно, словно перед этим он проглотил почетный кинжал, которым награждали каждого полноправного члена СС, стоял оберштурмфюрер Рудольф Биттрих.
Когда Агна открыла дверь, он вздрогнул, и для большей уверенности лихо щелкнул каблуками все тех же черных сапог. Лицо его было по-прежнему слишком ассиметрично и чрезвычайно серьезно, и если бы не вена на шее, бьющаяся под воротником мундира слишком быстро, девушка решила бы, что перед ней — тот самый идеальный, непогрешимый сверхчеловек, о выведении которого в массовое производство мечтал мелкий припадочный нацист с усами и челкой.
Установленная самим Биттрихом церемония целования руки фрау Кельнер в этот раз почему-то не задалась, и Руди отчего-то изменил себе, застыв на месте столбом, и не делая попыток склониться к ее руке. Как бы то ни было, но в одном, — а именно в пошлом рассматривании Агны Кельнер, одетой на этот раз в шелковый длинный халат, — он не смог себе отказать. И если бы не Харри Кельнер, вдруг возникший за спиной своей жены, это утро могло, по убеждению самого оберштурмфюрера, сложиться для него гораздо приятнее. Но Кельнер все испортил. Он подходил к Агне и стоявшему за порогом Биттриху слишком медленно, эсесовец даже мог бы сказать «развязно». Уже одно это не понравилось Руди. Он считал такое поведение недопустимым, и потому зло уставился на блондина, надеясь хотя бы уничижительным взглядом, который он выработал в себе, находясь на почетной службе в СС, поставить Харри Кельнера на место. Но дело заключалось как раз в том, — мелькнуло в воспаленном мозгу Биттриха, — что Кельнер и был на своем месте. Да, это он, Харри Кельнер, владел той, кто пока, — это был лишь вопрос времени, — не принадлежала Биттриху, это он… Биттрих помотал головой, возвращаясь в реальность, и уставился на блондина, чья рубашка, расстегнутая на груди, завершала непозволительно разнузданный облик.
От возмущения Биттрих зажмурил глаза, стараясь не думать о том, что он видит сейчас, и о том, почему, почему оба они выглядят так, так… будто за минуту до этого там, наверху, в их спальне… Оберштурмфюрер раздраженно оборвал отвратительную мысль, но желание быть любезным прошло, — хватит, он и так старался слишком долго. Строго посмотрев на расслабленного Кельнера, Биттрих хотел было призвать его к порядку. Но тот, видимо, возомнил, что если он находится в своем доме, то может делать все, что пожелает.
Стоило оберштурмфюреру подумать об этом, как рука Харри легла на плечо жены.
И тогда Биттриху не осталось ничего другого, как сообщить ему, что он хочет поговорить с фрау Кельнер наедине. Конечно, он мог бы приказать, ведь на нем была элитная форма СС, ослушаться самого вида, а тем более приказа которой не мог никто, но даже в ограниченном уме Рудольфа что-то ядовито шептало ему, что этот Кельнер его не послушает.
Харри коротко приобнял Агну за плечи и ушел куда-то в сторону, даже не отсалютовав эсесовцу по установленному порядку. Биттрих пообещал себе, что запомнит это. На то, что сам он пренебрег поднятием руки во славу фюрера, эсесовец не обратил внимания. И даже если так, то ему это можно извинить: слишком важна цель его визита, чтобы… Впрочем, к делу. Высоко подняв голову, закрепленную на тонкой шее, Биттрих сообщил, что в ближайшие дни он настоятельно не рекомендует фрау Кельнер покидать дом, в котором она живет. Гордясь своей проницательностью, и не дожидаясь вполне понятного вопроса от Агны, он односложно пояснил, что в эти дни в Берлине будет нестандартная обстановка.
— Я рекомендую вам оставаться здесь, Агна. По моему распоряжению модный показ перенесен на неопределенный срок. Используйте время с умом, фрау Кельнер, и ни о чем не беспокойтесь, — фрау Магда Гиббельс знает о моем решении, и полностью его разделяет. Я сообщу вам о дне показа, как только определю новую дату.
Агна улыбнулась, крепче сжимая ворот халата и поблагодарила его за сообщение. Оберштурмфюрер вполне мог бы гордиться собой, — ведь он только что спас ее, предупредил. Она обязана ему жизнью! Разве не так поступает истинный ариец, защищая достойных? А она, безусловно, достойна его, просто потому, что он сам так решил.
Единственное, что смущало Биттриха в Агне, — это ее яркие рыжие волосы. Разве такие могут быть у истинной арийки?
Это был риторический вопрос, и все же, после предстоящих ему в ближайшие дни важных дел, Руди решил найти и проверить досье на фрау Агну Кельнер. А заодно и на ее мужа. Да, Кельнер выглядит так, как они хотят, но всегда может обнаружиться что-то ранее неучтенное, правда? Совсем как их развратный внешний вид, который так поразил его несколько минут назад. Сжав губы, Биттрих мысленно вернулся к этому моменту и, сам того не замечая, взялся за рукоять небольшой черной плети, которую с недавних пор постоянно носил с собой. Задумавшись, Руди вытащил хлыст и ударил себя по ноге. Не сильно, но вполне достаточно для того, чтобы район Груневальд огласил разъяренный крик. Оставаться на месте после этого оберштурмфюрер больше не мог, и с шипением ретировался.
Когда Биттрих ушел, Элис заглянула в столовую. Эдвард сидел за обеденным столом, и, глядя прямо перед собой, довольно улыбался.
— Ты ведешь себя как мальчишка, — Эл подошла к противоположному краю стола. — Не зли его, он… — она покрутила пальцем у виска, добавляя: — это он установил прослушку.
На последней фразе улыбка сползла с лица Милна, и он недобро хмыкнул:
— Я разберусь, Эл. Я разберусь.
* * *
В середине июня Грубер посетил Италию. Правда, от этой поездки было мало пользы. И потому, что Муссолини отнесся к нему снисходительно, и потому, что позже, в речи, которую произнес вице-канцлер фон Папен, — а написал, как выяснила за прослушкой гестапо, адвокат доктор Эдгар Юнг, — временные сторонники фюрера, которые помогли ему получить власть, — консерваторы и буржуа, обеспокоенные нападками главы штурмовиков Эрнста Рема на них, требовали… его головы.
Игнорировать подобные желания Грубер не мог, иначе он лишился бы еще нужной ему поддержки. Ему мешал Рём. Тот самый, который, благодаря своим «коричневым рубашкам», — штурмовикам, — привел Грубера к власти. Но предупреждение было вынесено, речь фон Папена газетам публиковать запретили, а те, в которых подобные публикации уже вышли, конфисковали. Началось предисловие к убийству главы штурмовых отрядов, Эрнста Рема.
Но для начала нацисты убили Эдгара Юнга, написавшего речь для фон Папена. С момента ее оглашения прошло четыре дня, Юнг остался дома один всего на пару часов. И гестапо вполне хватило этого времени для того, чтобы похитить его. О том, что с ним произошло его жена, вернувшаяся в пустой дом, узнала случайно, — на стене ванной комнаты он успел выцарапать слово «гестапо». Домой он больше не вернулся.
А тридцатого июня, в тот день, когда убили самого Эрнста Рема, тело Юнга нашли в придорожной канаве возле Ораниенбурга. Только спустя много лет удалось выяснить, что после долгих допросов и страшных пыток он был убит в тюремной камере. С убийства Юнга началась новая кровавая жатва Грубера. Одна из первых, но далеко не последних, она позволила ему под видом наведения «порядка» убить всех своих прежних сторонников, которые были нужны ему в 1933 году, а в этом, 1934-м, стали тягостной обузой, которая к тому же, порой отличалась несдержанностью, и могла рассказать о том, как именно фюрер и его сторонники пришли к власти.
В памяти обывателей на месте имен тех, кто поджег Рейхстаг, до сих пор стоял знак вопроса. И это несмотря на то, что сумасшедший Маринус ван дер Люббе, выданный за главного поджигателя огромного здания, которое поджечь в одиночку так быстро, как это было сделано, физически невозможно, давно уже был порублен на куски и сброшен в какую-нибудь яму, наверняка не сильно отличавшуюся от той, где нашли тело Юнга.
Таким было начало ответа тем, кто усомнился в правлении Грубера, и в установленной им однопартийной системе.
Пока возбужденные слишком вольным поведением Рёма консерваторы, промышленники и буржуа еще вели счет обидам, полученным от него, в «Институте Херманна Гиринга», который занимался повсеместной прослушкой, — но услышанным далеко не всегда делился даже с гестапо, — искали нужные данные для досье на Эрнста Рема. И оно было скоро составлено: из многомесячной слежки, установленной за ним, банальных разговоров, выхваченных фраз, заметок, текстов, визитов, встреч… Все это, по мнению ближайших соратников Грубера, должно было призвать его к расправе над своим бывшим единомышленником, чего он до сих пор избегал, потому что численный перевес подчиненных людей и сил был не на стороне экзальтированного человека, способного за одно публичное выступление потерять несколько килограмм веса, а на стороне грузного Рема.
Эрнст Рем, герой Первой войны, чье лицо было изрезано шрамами, а нос расплющен, почуял опасность. И распустил своих штурмовиков в месячный отпуск, о чем не забыл сообщить в «Фолькишер беобахтер», ежедневные выпуски которой Харри Кельнер и без того читал постоянно, а в эти дни и вовсе не выпускал из рук, пытаясь за напечатанными на газетной бумаге колонками рассмотреть реальную суть происходящего.
Но у вождя германского народа, ведущего этот самый народ к светлой, великой цели, пока не было никакого действительного замысла. Решение о ликвидации Рёма он откладывал до последнего. И Гиллер, Гиббельс и Гиринг, — может быть единственный раз за все время своей совместной работы впавшие в тотальное единодушие, — давили на него все больше и больше. Изобразив Рема предателем, который готовит государственный переворот, и вместе со своими многотысячными штурмовиками вот-вот раздавит фюрера, они донесли об этом плане Груберу, и принялись ждать. По его указанию Гиринг и Гиллер должны были руководить репрессиями в Берлине. Сам же Грубер, сопровождаемый усохшим германцем, отправился в Мюнхен. Недалеко от этого города, в маленьком курортном Бад-Висзее, расположенном на берегу озера, отдыхал Рем, — подтверждая то, что он действительно находится в отпуске, о котором писала нацистская газета.
Убийства штурмовиков начались рано утром тридцатого июня, в отеле «Гензльбауэр», где остановился сам Рем и его товарищи. Караул штурмовиков, охранявший отель, был арестован свитой Грубера, состоящей из агентов гестапо, военных и эсесовцев, без сопротивления. Первым, кого встретил фюрер в отеле, был юный граф фон Шпрети. Чрезвычайно красивый, он был адъютантом Рема и одним из многочисленных красивых мальчиков, которыми тот себя окружал. Позже историки станут повторять, — в этот момент Грубер ударил графа по лицу хлыстом из кожи гиппопотама с такой силой, что у того хлынула кровь. Далее фон Шпрети занялись эсесовцы, а фюрер уже арестовывал едва проснувшегося, полуголого Эрнста Рема. Походя, в соседней комнате, прямо в своих постелях были убиты обергруппенфюрер, друг Рема, Хейнес и его шофер, которого присутствовавший в отеле Гиббельс назвал «мальчиком для радостей». Они пытались защититься, но были застрелены на месте.
Отряд штурмовиков, прибывший для смены охранного караула, был разоружен без единого выстрела. Так, арест «заговорщиков», который позже назовут «заговором засонь», занял всего несколько минут, после чего Рема и его сторонников повезли в Мюнхен.
По пути к городу свитой Грубера были остановлены несколько машин с другими руководителями штурмовиков, которые ехали в Бад-Висзее на банкет, объявленный ранее Рёмом. Их, как и других арестованных, среди которых было много тех, кто не имел никакого отношения к штурмовикам, доставили в тюрьму Штадельхейм, где Рем не внял намеку на самоубийство, и вечером того же дня был застрелен в камере Теодором Эйке, главой концлагеря в Дахау, которого однажды Гиллер лично вытащил из сумасшедшего дома, и назначил на эту почетную должность.
Несмотря на то, что Рем был убит, репрессии и аресты по спискам, составленным Грубером, Гейдрихом, — за которого однажды одурманенный Гиринг принял Харри Кельнера, — Гиллером и Гирингом, продолжались следующие два дня.
Именно так, под шум о заговоре штурмовиков были убиты около 1500 человек, среди которых было много случайных жертв. Людей расстреливали на улицах, на пороге их собственных домов, в подвалах гестапо или в квартале Лихтерфельде, где перед тем, как выстрелить, осужденные к расстрелу яростно выкрикивали клич «Хайль Грубер! Это нужно фюреру!». Людей из расстрельных списков для большей секретности обозначали номерами, а после их смерти эсесовцы, — по уже устоявшейся привычке, — называли убитых «боровами».
Сотрудники СС, разбитые на двойки, расстреливали неугодных целыми семьями, как было с семьей генерала фон Шлейхера, или — в кабинетах, на улицах, в лесах и переулках, часто подводя массовые расстрелы под фразу «убит при попытке к бегству». Точное количество таких «пытавшихся сбежать» осталось неизвестным, но числа выдвигались разные, — от тысячи до полутора тысяч за сорок восемь часов, что велись убийства. Позже некоторые скажут, что такая масса крови была преувеличением даже для Грубера и его сторонников, приходивших в оживление при виде расправ и возможности убрать «врагов», будь то очередной концентрационный лагерь или же сама вечность.
Массовые расстрелы закончились первого июля, после полудня, а уже на следующий день нацисты занялись придумыванием официального обоснования произошедшего за последние два дня.
Газеты, — в том числе иностранные, — успевшие выпустить спецвыпуски «по горячим следам», ждали объяснений и задавали неудобные вопросы, на которые нацистам, при всем их словоблудии, было не так просто ответить. Глашатаем официальной версии выступил Херманн Гиринг. Облаченный в любимый им белый мундир, он долго и крайне неубедительно говорил о предотвращении государственного переворота, о недопустимости сексуальной распущенности Рема и его сторонников. Убийства были узаконены третьего июля, когда министры поблагодарили Грубера за спасение Германии от революционного хаоса и единодушно приняли закон, единственная статья которого гласила: «Меры, принятые 30 июня, 1 и 2 июля 1934 года и направленные на подавление попыток совершить предательство и государственную измену, расцениваются как срочные меры национальной обороны». Все документы, в которых была зафиксирована хотя бы самая малая часть этой «национальной обороны», подлежали немедленному уничтожению.
Президент Гинденбург, который оставался единственным препятствием на пути нацистов к абсолютной власти, — и смерти которого они с нетерпением ждали, — выразил беспокойство произошедшим. Советники уверили его, что данные меры были абсолютно оправданными, и потому Гинденбург подписал Груберу поздравительную телеграмму, составленную самим Грубером. Там говорилось о «решимости и храбрости фюрера», его смелости в ликвидации изменников и прочем, прочем, прочем… Тринадцатого июля фюрер выступил с речью. Слушатели ждали обличения почившего Рема, подробностей ужасного заговора, но получили только невнятные защитительные слова о предотвращении «национал-большевистской революции», которые были встречены очень прохладно. Военные, поддержавшие нацистов в расправах над людьми, были уверены, что Грубер подчиняется им, а гестапо, — несмотря на все проделанное ею, — еще не считали серьезной организацией.
* * *
Эл все еще удивлялась предупреждению Биттриха, а события в Берлине и, как выяснится позже, в Мюнхене, развивались с невероятной для обычного человека, но привычной для нацистов, скоростью. На следующий после неожиданного визита эсесовца день, армия получила приказ о боевой готовности. Увольнения были отменены, офицеры отозваны из отпусков. Отряды мотоциклистов, подчиненные нацистам, вооружили карабинами, пехотные части СС — винтовками со ста двадцатью патронами на каждый ствол, поставленными из арсенала самой армии.
Но об этом Агна и Харри узнали позже, а сейчас, как бы Кельнеру не претило назойливое присутствие Биттриха рядом с его женой, он был согласен с ним в том, что в ближайшие дни, — это было ясно хотя бы из одних газетных публикаций и растущих с каждым часом слухов и домыслов, — необходимо быть особенно осторожными.
Сам Харри продолжал исполнять обязанности сотрудника компании «Байер», но и здесь обстановка, — притихшая, необычно приглушенная, — снова и снова возвращала его к мысли о том, что речь идет не только убийстве Рема, но о чем-то гораздо более масштабном. В конце концов, сама численность штурмовых отрядов была огромной, вызывающей трепет даже у отъявленных нацистов. В своих попытках узнать больше о происходящем, Харри был предельно аккуратен, но, несмотря на все старания разузнать в эти дни что-то еще из того, что выпускалось в официальной печати, у него так и не получилось. Атмосфера была душной и удушающей. Дни он проводил на работе, а вечерами спешил в Груневальд, волнуясь за Элис, которая оставалась дома совсем одна, — Кайла, по их общему решению, в эти дни к ним не приходила, рисковать было ни к чему. И хотя Элис неизменно говорила, что ей ничего не угрожает, и сегодняшний день прошел точно так же, как и вчерашний, по выражению ее лица, по скупым, обрывистым фразам и движениям, он видел, что ей тоже страшно. И потому старался отвлечь ее от тревожных мыслей, вывести из молчаливого ступора, в который она иногда впадала, даже во время их редких разговоров.
Впрочем, ему тоже было не по себе. Предельно собранный и сосредоточенный, в эти летние дни он походил на воина, который держит оборону в открытом поле. И напасть на которого могут с любой стороны. Он знал это состояние, со временем даже научился определять его приближение, и сохранять максимально возможное хладнокровие даже в самых неопределенных и опасных условиях, какие были раньше, — при его прошлых заданиях в Германии, Франции и на войне в Марокко.
Но Эл. Думая о ней, Эдвард все чаще ощущал новую, незнакомую ему, тревогу. Она переливалась и уклонялась, стоило ему приблизиться к ней, чтобы разобрать на части, сделать из нее точку опоры, а не беспокойства, — так он всегда поступал прежде, и так не мог сделать теперь, как бы ни старался. Избегая его внимания, эта тревога, которую Эдвард представлял в виде серебристой и гибкой, обманчиво податливой змеистой ртути, лишала его привычного спокойствия, говорила ему в темноте, ночами, когда Элис тихо спала рядом, что он не всесилен, что он не сможет ее защитить, что вчера, — и она знает, что ему это известно, — когда они все же рискнули недолго прогуляться рядом с домом, недалеко от них, в тех самых лесах Груневальда, где им так нравилось гулять весной, расстреляли какого-то человека. Его тело нашли у старой липы. Человек лежал лицом вниз, и по ранам на спине любому было ясно, что его просто-напросто изрешетили пулями.
На этом прогулки были закончены. По крайней мере, до того момента, пока в городе не станет спокойнее. Эдвард вспомнил, как вздрогнула Эл, узнав об этом человеке. Вздрогнула и сильнее сжала его руку. Их пальцы крепко переплелись, Агна и Харри сделали два, три шага, а потом девушка остановилась, посмотрела под ноги, на свои красивые лаковые туфельки со звонкими каблуками, и вдруг крепко-крепко прильнула к Кельнеру, спрятав лицо за линией его плеча. Он знал, что ей очень страшно. Но эта неожиданная нежность и беззащитность наполнили его сердце страхом и горькой радостью. Вот только бы он смог ее защитить…
За эти безумные летние дни Эл снова стала нежной с ним, но нежность ее была отчаянной, с примесью крайнего страха. Она больше не отталкивала Эда от себя, не устанавливала между ними прежних барьеров, и, засыпая вечером, и ночью, во сне, крепко держала его за руку и тихо спала, положив голову ему на плечо. Они мало говорили о происходящем или о чем-то другом, — в эти дни они словно совсем перестали нуждаться в словах, чтобы понять друг друга. А дни стояли солнечные и молчаливые, кристально-чистые, с ярким небом и густыми облаками, подхваченными теплым солнцем.
Все стало ясным между ними. Так было раньше, в их счастливые дни, и так снова стало теперь, когда поздними вечерами они оставались в библиотеке и тихо читали друг другу книги. Эл полюбила читать рядом с Эдом, положив голову ему на грудь. В эти минуты ее сердце, волнуясь, билось часто-часто, а его — замирало. Он не спрашивал ее о том, что она не сказала ему в то утро, когда Биттрих пришел в их дом, но знал, что скоро узнает об этом. Впервые за все время их отношений он решил не торопить Эл. Если она чему и научила его, то это уважению к свободе другого. К свободе того, кого любишь.
Позже, из болтовни пьяных нацистов, случайно услышанной им, Кельнер узнает, что решение об убийстве Эрнста Рёма Грубер принял 29 июня в городке Бад-Годесберг, в окружении своих ближайших поборников, когда погода была такой же, как в эти напряженные, молчаливые и смутные дни июня-начала июля: стояла жара, небо было покрыто тучами и гроза приближалась. К вечеру она разразилась, и на землю обрушился ливень. Именно тогда Грубер принял решение, отдал короткие поручения Гиллеру и Гирингу о репрессиях в Берлине, а сам улетел в Мюнхен, навстречу Рёму, которому, как и сотням других людей, оставалось жить всего несколько часов.
* * *
Биттрих позвонил по телефону третьего июля, рано утром. Трубку сняла Агна, и потому он смог отбросить в сторону часть ненужных словесных церемоний, приготовленных им на случай, если он услышит голос Кельнера.
Оберштурмфюрер сообщил, что он не может долго говорить, потому что очень занят, и что показ, отложенный на несколько дней по объективным причинам, состоится завтра, в восемь часов вечера, в доме Гиббельсов. После этого голос в трубке замолчал, перебиваемый телефонными помехами, и звонок прервался. Волнение Элис о том, как пройдет показ, ставшее в прошедшие дни немного слабее, проснулось с новой силой. Она вернулась за стол, к оставленному завтраку, но аппетит совершенно пропал, и потому она, быстро сменив домашнее платье на выходное, сказала, что едет в модный дом.
Эдвард кивнул, положив салфетку на стол.
— Я еду с тобой.
— Не…
— И встречу после работы.
Проходя рядом с Элис он сказал с легкой улыбкой, глядя в ее побледневшее лицо:
— Все будет хорошо.
В ателье модного дома все было точно таким же: скрепленное на манекене платье по-прежнему висело в ожидании, когда Агна Кельнер доделает небольшую драпировку на лифе, игольница и серебряный наперсток, которыми она пользовалась во время работы, лежали на столе. Набрав в грудь побольше воздуха, Агна перешагнула порог мастерской. До вечернего показа оставалось всего десять часов, за которые она должна была закончить работу над последним платьем и проверить, все ли девушки-манекенщицы, лично отобранные Гиббельсом, готовы к показу.
Предосторожность была излишней, она прекрасно понимала это. Участие в таком вечере автоматически привлекало внимание к каждой модели. Кроме того, все десять девушек внешне абсолютно соответствовали установленным в Третьем рейхе стандартам красоты — высокие, статные блондинки с голубыми глазами, они были очень похожи между собой. Во время показа у каждой из них будет табличка с именем. Прикрепленная на груди, слева, она познакомит зрителей с моделью, и наверняка поможет высокопоставленным нацистам быстрее и лучше определиться в вопросе выбора той или иной девушки.
То, что показ устраивается, главным образом, для подобных целей, Агну давно уже не удивляло, но один вопрос пока так и оставался без ответа: действительно ли девушки, отобранные для таких вечеров, искренне рады вниманию высокопоставленных нацистов? Да, она «судила» их по себе, — одна мысль о том, что ей, может быть, придется быть с кем-то, кроме Эдварда, вызывала острое отвращение, доходившее до тошноты, — подтверждением тому служил Биттрих. Да, она сама не раз слышала всю ту чушь, которую многократно распространяли нацисты с трибун, в газетах и по радио: долг германской женщины состоит в рождении как можно большего числа воинов для Рейха.
Под воинами, конечно, подразумевались мальчики. Девочки, если и воспитывались, то для все тех же целей — «родить ребенка фюреру», родить как можно больше истинных арийцев от истинных арийцев.
Первое считалось честью, и многие женщины, то ли завороженные магнетизмом Грубера, то ли сами искренно думающие так, стремились к этому, мечтая выйти за него замуж. Второе в реальности Рейха было вполне естественным: женщина, главным достоинством которой, по словам самого фюрера, была внешняя красота, не могла и не должна была рожать только от своего мужа. Вопросы морали, конечно, никого при этом не интересовали, потому что самой морали не стало. Как не стало и семьи в ее традиционном понимании. Более того, верность супругов друг другу, само существование взаимной симпатии между ними или, — что по новым стандартам считалось совсем смехотворным, — любви, выглядело пережитком ненужного прошлого, отправленного нацистами в утиль.
Этот день в ателье модного дома пролетел молниеносно. Но все было готово, и как бы Агна ни волновалась, она сделала все возможное для того, чтобы показ прошел на должном уровне. Времени осталось только на то, чтобы приготовится к вечеру, и она, в ожидании, пока Харри заедет за ней, вышла на улицу.
Скоро из-за угла дома засветили яркие фары «Мерседеса». Подъехав ко входу в ателье, Кельнер остановил машину, обошел ее и открыл дверь перед Агной.
Пока она удобно устраивалась в автомобиле, он улыбнулся, вспомнив, как даже по этому поводу они однажды умудрились поспорить: Эл тогда заявила, что подобная предупредительность совсем не обязательна и старомодна, а он, рассмеявшись, ответил, что оно и понятно, — ведь он сам старый, а значит, подобные нафталиновые манеры ему простительны. Элис фыркнула и засмеялась, а он, довольный, промолчал. Ему просто очень нравилось ухаживать за ней.
* * *
Блестящий «Мерседес» Кельнера мягко выскользнул из вечерней темноты, останавливаясь перед домом Гиббельса на Рейхсканцлер-плац. Недалеко от них светилась белизной мраморная лестница, по которой сегодня пройдут десятки гостей, — модный показ был устроен с особым размахом, — об этом можно было судить хотя бы по количеству машин, уже припаркованных возле особняка министра пропаганды.
Агна шла плавно, легко держась за руку Харри, и думая о чем-то своем. Кельнер, одетый в смокинг с белой бабочкой, сделал несколько шагов и остановился. Он смотрел прямо, в какое-то невидимое пространство.
В памяти всплывали отрывки далекого дня. О том, как они уже были здесь, — поднимались по этой же лестнице, так же, как и сейчас, — медленно шли к большому дому. История повторялась. На том вечере Гиббельс едва не изнасиловал Элис. И наверняка сделал бы это, если бы Милн, повинуясь какому-то смутному предчувствию, не пошел искать ее. Выйдя из большой зеркальной залы, он почему-то уверенно свернул направо. Шел прямо, по длинному и узкому, кишащему темнотой, коридору.
Из-под двери, третьей по правой стороне, выбивался слабый, желтый луч света. Остановившись перед ней, он помедлил секунду, прислушиваясь к неясным шорохам и шепоту, которые еле просачивались изнутри, но все-таки, в окружавшей его темноте, в дали от большой залы, их можно было расслышать.
Эдвард до сих пор помнил, как резко открыл дверь, назвав имя Гиббельса прежде, чем понял, что маленькая скрюченная спина в черном пиджаке, зависшая перед ним, — именно он. Не обращая внимания на желтый полумрак маленького кабинета, Эдвард выхватил взглядом только одно — лицо Эл, искаженное страхом. Он и сейчас помнил его так ясно, как будто это было только вчера.
История повторялась.
Опять это смутная тревога, зацепившая свой железный крюк за край его сердца. Эдвард посмотрел вдаль, оглянулся по сторонам. Летний сумрак давно поглотил все окружающие краски. Вдали, в неразличимой темноте, шелестели листья деревьев. Никогда до этой минуты он не испытывал такого острого желания не приходить туда, куда обязан был прийти. Его взгляд остановился на лице Элис. Сегодня на ней было то самое платье от Аликс Бартон, которое он купил для нее во время их сумасбродной поездки в Лондон. Эл укоротила подол до нужной длины, и теперь он чуть-чуть накрывал лаковые носки ее вечерних туфель. Милн хотел сказать, что она очень красивая, но слова почему-то упрямо оставались при нем, — невысказанные и, как ему казалось, — банальные, потому что в этот вечер Элис была не просто красива, от нее шло какое-то волшебное, необъяснимое сияние.
Невидимое, оно окружало ее, подобно ореолу, — он ощущал его почти физически: протяни вперед руку, и на ладони останется золотое сечение ее красоты.
В памяти Милна назойливо кружилась фраза, которую она сказала тем давним вечером: «Я была влюблена в тебя, Харри. В то Рождество, помнишь? И потом, долго после него». Почему он забыл, не вспомнил ее слова тогда, когда поехал в Мюнхен, продолжая, после их ссоры, убеждать себя в том, что Элис к нему равнодушна?..
— Харри?
Он поднял на Элис далекий от воспоминаний взгляд..
— Пойдем? — Эл кротко улыбнулась, и добавила:
— Все будет хорошо.
* * *
Дом Гиббельса, подобный улею, жужжал десятками голосов. Официанты в белом, поднимая подносы с бокалами шампанского высоко над головой, медленно текли сквозь людскую толпу. Кто-то требовал закуски, кто-то, уже опьяневший и прибитый душным воздухом залы, слишком громко смеялся фразам, сказанным шепотом. Высокопоставленные гости, среди которых чернели мундиры СС, часто посматривали на длинный и узкий подиум, установленный в центре для прохода моделей.
В начале вечера Элис ушла к подиуму, чтобы проверить все еще раз. Поправляя холодными пальцами платье на одной из красавиц-моделей, она услышала за спиной голос Биттриха.
— Вы обворожительны, Агна.
— Благодарю, оберштурмфюрер.
Фраза далась ей тем легче, что, занятая нарядом, она могла позволить себе не смотреть на эсесовца. Но если бы она все-таки взглянула на него, то наверняка заметила бы в нем необычную даже для него нервенность. Как будто спазмы, скрутившие его изнутри, управляли им так, как им хотелось, и в одно мгновение Биттрих мог выглядеть и обеспокоенным, и задумчивым, и неправдоподобно веселым, а в следующую секунду он срывался с места, и громко чему-то смеясь, хватал с подноса очередной бокал шампанского или даму, оказавшуюся рядом. Он принимался лихорадочно что-то шептать, и если бы не предшествующие модному показу события, можно было бы подумать, что он попросту пьян или накачан наркотиками. Но подобная экзальтация, — тяжелая и мрачная, — зависла этим вечером над всей залой в доме хромого министра.
Через несколько секунд свет погас, и по освещенному ярким белым светом подиуму плавно зашагала первая модель. Ее соблазнительная походка в сочетании с открытым платьем, вызвала шепот среди толпы. Где-то были слышны мужские посвистывания и обрывки недвусмысленных фраз. И если до этого момента Агна еще удивлялась тому, что от торжественного открытия вечера и приветственного слова отказались в последний момент, предпочитая просто выпускать девушек на сцену, то теперь в этом тоже не было ничего удивительного. Показ был привлекательным предлогом для выбора сексуальных объектов, а убийства, накрывшие Берлин и Мюнхен, и законченные только вчера, усиливали нужный эффект, действуя на собравшихся как наркотик.
Моделей встречали аплодисментами и выкриками, а когда показ закончился, и Агна Кельнер, подталкиваемая Магдой Гиббельс, — и представленная как автор платьев, — прошла по сцене, остановливаясь у ее края, десятки сальных и пьяных мужских глаз уставились на нее.
Зала снова осветилась электрическим светом, музыка заиграла слишком бодро и быстро, закручивая пары в танце. Более расторопные нацисты успели отобрать для себя моделей, на которых все еще были надеты платья, сшитые Агной.
К ней же, едва успев остановиться, подошел Биттрих. Пошатываясь, он, пьяный и взмокший до волос, глядя на фрау Кельнер лихорадочно-блестящими глазами, постарался выглядеть галантно, и, неловко изогнувшись, схватил ее за руку.
Сорвав с руки Агны кружевную перчатку, он развернул руку девушки запястьем к себе, и приник горячими, мокрыми губами к ее коже. Растерянная, Агна осмотрелась по сторонам в поисках Харри, но его нигде не было видно. Боковым зрением она отметила в толпе белый китель, и в следующий миг встретилась взглядом с умным, дьявольским взглядом пьяного Гиринга.
Заметив Агну Кельнер, он широко улыбнулся, вытянул губы вперед, отправляя ей воздушный поцелуй, и приподнял бокал с прозрачным напитком.
Агне стало жарко, к горлу подкатила тошнота, а Биттрих, еле оторвавшийся от ее руки, и, похоже, стоящий на ногах только благодаря этой сомнительной опоре, закружил девушку в лихорадочном танце, от которого ей стало только хуже. Агна пыталась освободиться от его рук, но он снова и снова хватал ее, даже несмотря на то, что сам едва держался на ногах. Вдруг он резко дернул девушку на себя, рассмеялся ее испугу, и потащил из толпы, в сторону стеклянных дверей, которые вели ко второму выходу из дома.
Путаясь в подоле длинного платья, Агна пыталась освободиться из цепких рук Биттриха.
Удивительно, но она не кричала, только снова и снова пыталась разжать его пальцы, побелевшие от напряжения, сжатые на ее предплечье. Гравий под туфлями громко шуршал, и ей совсем некстати вспомнилось Ирландское море, которое она видела, когда была еще четырехлетней девочкой, и ездила с родителями в город Дандолк. Море тогда показалось ей совершенно бесконечным и волшебным, и она долго представляла его в виде огромного морского великана, повелевающего всеми кораблями на свете.
Агна тряхнула головой, как делала всегда, когда старалась отогнать ненужные мысли, и снова посмотрела на спину и профиль Биттриха. По его правому виску бежали крупные капли пота, он тяжело, со свистом, дышал. Кое-как спустившись с нескольких ступенек и стащив вслед за собой Агну, Биттрих упорно шел в ту сторону, где были припаркованы автомобили. Подойдя к одному из них, он рванул переднюю дверь на себя и довольно оскалился. Мутный взгляд скользнул по Агне, он грубо притянул ее к себе, стараясь поцеловать. Но передумал, оттолкнул ее, и, отойдя назад, открыл заднюю дверь автомобиля, пытаясь затолкать девушку внутрь.
— Нет, послушайте! — она крикнула, и удивилась собственным словам.
Что он должен был «послушать»?
— Я давно ждал, я за… служил за-а-а-служил тебя… ты д-д-олжна, я — элита, элита… Громко выкрикивая слова, Биттрих не услышал звук взведенного курка.
— Отойди от нее.
Оберштурмфюрер удивленно попятился, раскачиваясь на нетвердом гравии, плывущим под его ногами, и увидел Кельнера. Он что-то держал в руке, и это крайне заинтересовало Биттриха. Не отпуская Агну, он сделал пару шагов вперед, и радостно выдохнул:
— Вальтер! К-к-к-к… как давно я тебя не видел! А мне, К-к-ельнер, представляете, для рас-стрелов выдали позавчера только винтовку д-девяносто восьмого к-к-к-алибра… нет, ей совсем неплохо вышибать мозги, я не жа-луюсь, я неплохо повеселился, но старина вальтер, с-с-с-тарина вальтер!
В словах Биттриха о пистолете было столько сентиментальности, что он вполне мог расплакаться от умиления или тоски. Кельнер перевел дуло пистолета на лоб Биттриха.
— О-ой! — оберштурмфюрер картинно вскинул свободную руку вверх, и рассмеялся. — Что, х-х-очешь ее… да? Обратно хочешь? Н-е-е-е-е-ет, сначала я, а потом т-т-ты, давай по очереди, только тебе п-п-п-ридется мне уступить!
Биттрих начал вытягивать руку по направлению к Харри, и резко выхватил из-за пояса табельный пистолет.
— Ч-ч-то, не д-д-у-мал? «М-м-оя честь — м-м-моя верность», Кельнер. Так записано на на-шем о-о-оружии.
Агна, все это время наблюдавшая за происходящим в молчаливом страхе, пришла в себя, и попыталась вывернуть руку из хватки Биттриха. Почувствовав движение, он схватил ее еще крепче, и вывел вперед, закрывая себя ею, как щитом.
Узкое дуло табельного оружия уперлось в ее висок. Зеленые глаза недвижно смотрели на Харри. Биттрих довольно смеялся, то отводя пистолет от Агны, то снова подводя его к ней.
— Боишься, Кельнер? А почему ты молчишь, со-о-всем не г-г-г-оворишь со мной?
Харри посмотрел на Агну и снова перевел взгляд на Биттриха. По его виску скатилась первая капля пота. Звон в ушах — первый признак близкого приступа контузии, — становился все громче.
— Нет, не сейчас! — зло прошипел Кельнер, зажимая левой рукой ухо.
— Что? Что ты сказал?
Похоже, ситуация распаляла в Биттрихе азарт, и он трезвел, говоря с каждым разом все громче и четче.
— Знаешь, Кельнер, мне все это над-д-д-оело! Ты скучный!
Оберштурмфюрер снова отвел Агну в сторону от себя, с силой ударяя ее о машину, в которую он только что пытался посадить девушку. Убрав от нее руки, он с любопытством взглянул на согнувшегося от какой-то невидимой боли Кельнера, и повторил:
— Meine Ehre heißt Treue!(3)
Курок пистолета отчетливо щелкнул, и он подвел оружие к Кельнеру.
Раздался неясный звук, Агна схватила Биттриха за шею: положив левую руку на его висок, правой она попыталась как можно сильнее сдавить шею у основания. Удивленный, Биттрих хотел дотянуться до нее, обхватить руками, но его пальцы цеплялись только за подол длинного платья. Захват оказался неожиданно крепким, ее пальцы до судороги сцепились вокруг головы Биттриха: Агна сдавливала шею эсесовца с какой-то невероятной, неправдоподобной силой. И пистолет в руке Биттриха дернулся, выпуская пулю.
Агне казалось, что прошло очень много времени, прежде чем раздался второй выстрел, и оберштурмфюрер начал заваливаться на нее. Она хотела зацепиться за машину, бывшую совсем рядом, к тому же, двери ее были распахнуты, но вот рука Харри увела Агну в сторону от падающего Биттриха. Тело эсесовца упало на гравий. С левой стороны, из той точки, где обычно бьется человеческое сердце, растекалось и ширилось кровавое пятно, пока не слишком заметное на черном мундире.
Кельнер застыл, все еще зажимая ухо левой рукой, и со страхом глядя на Агну.
Его дыхание сбилось, дышать стало очень трудно. Крепко прижав Агну к себе, Кельнер замер, смотря перед собой невидящим взглядом. Девушка отстранилась, быстро рассматривая его лицо и фигуру, провела руками по плечам и рукам, и облегченно закрыла глаза, — пуля Биттриха его не задела. Биттрих.
Это был первый мертвый человек, которого она видела. Блестящие глаза Агны, в темноте казавшиеся огромными, неотрывно смотрели на мертвого эсесовца. Она хотела что-то сказать, но язык не слушался, и вместо слов из горла вырывались только невнятные звуки.
Позже, этим же вечером, когда они останутся наедине, в относительной безопасности дома Кельнеров, она скажет, что эти мгновения показались ей часами. Но на самом деле стычка с Биттрихом уложилась в несколько минут. Агна помнила, что после выстрелов она осталась стоять у машины, молча рассматривая то свои руки, то место на земле, где только что стоял еще живой Биттрих, а Харри, оглянувшись по сторонам, убедился, что они совершенно одни, — по крайней мере, в обозримом для глаз радиусе, — схватил ее за руку и быстро повел к «Мерседесу», оставленному с другой стороны дома Гиббельса.
* * *
Никто из них не помнил в точности и до конца, как они добрались до дома. Этот поздний вечер, который уже перешел в ночь, когда они въехали в гараж особняка Кельнеров, позже вспоминался им отрывками. Они молчали, крепко обняв друг друга. Эдвард неотрывно смотрел на Эл, и долго гладил по волосам, — медленно, с какой-то величайшей нежностью, от которой ее сердце то замирало и останавливалось, то билось так быстро, словно могло вырваться из груди и улететь в летнее небо. Он целовал каждую черту ее лица: веки, щеки, скулы, кончик курносого носа, покрытый задорными веснушками, которые весной и летом были особенно заметны, полные нежные губы, ямочку на тонкой шее, — чувствуя, как сильно бьется ее пульс под его губами. Спустившись ниже, долго ласкал небольшую грудь, наслаждаясь ощущением того, как она заполняет его ладони. Закрыв глаза, Элис выгнулась навстречу его движениям, но стоило Эдварду поцеловать ее живот, как она уперлась руками в его плечи, и попыталась сесть. Глаза их встретились, по телу Элис прошла судорога, и она заплакала.
Милн лег рядом, снова крепко ее обнимая. Руки нежно гладили обнаженную спину и острые лопатки. При каждой новой волне судороги они двигались под его рукой подобно сложенным крыльям, — немного резко и порывисто, но с каждым разом все тише и тише.
Боль постепенно умолкала, отходила в море.
Теплая ладонь легла на ее живот, осторожно погладила его. Элис попыталась улыбнуться, но улыбка вышла неловкой, еще ломанной от слез. Ее пальцы коснулись его щеки, поднялись вверх, осторожно касаясь длинного, узкого шрама. Накрыв рукой ладонь Элис, Эдвард мягко сжал ее, отстраняя.
— Прости меня! Пожалуйста, прости!.. Я не заслужил…
Слеза косой строчкой сползла по щеке Эда, упала на руки. Элис нежно коснулась его лица, замыкая губы в поцелуй. Ладонь легла на его грудь, накрывая шрам, который Эдвард получил в Марокко. Очертив его от начала и до конца, — пройдя от шеи, через ключицу и чуть ниже, — тонкие пальцы Эл остановились. Элис поцеловала шрам так осторожно, что Эдвард, никогда не знавший подобной нежности, закрыл глаза и замер, ловя каждое касание ее губ на своей коже.
1) "Бюро моды рейха"
2) прозвище Геббельса
3) «Моя честь — моя верность!» — девиз, высеченный на клинках кинжалов СС.
Агна сжала мел в руке, и он треснул, рассыпаясь на ткань ее платья мелкой, белоснежной крошкой.
— Фрау Кельнер?
Высокий голос Магды Гиббельс возвращает ее в реальность. Агна растягивает губы в улыбке, которой пользуется на публике, — вежливая, внимательная, не слишком широкая и не скупая. Одним словом, умеренная и смеренная по всем параметрам улыбка, пригодная для тех, кто решает ничего не замечать, или играть, как Элисон Эшби — в Агну Кельнер.
— Да, фрау Гиббельс.
Голос Агны звучит приветливо, в меру заинтересованно. Боковым зрением она замечает движение справа, и вот перед ней появляется мужская фигура.
Выдвинувшись на шаг вперед, она приближается к Агне, рассматривает ее лицо умным, задумчивым взглядом темно-карих глаз и, к удивлению фрау Кельнера, как-то нехотя салютует по заданной форме, медленно вскидывая руку вверх. «Недостаточно резко!» — сказал бы иной ретивый нацист. Но этот продолжает с какой-то отстраненной грустью смотреть на Агну, и словно не торопиться соответствовать моде даже в присутствии жены министра пропаганды. Человек в форме сам называет себя.
— Георг Томас, — он протягивает руку девушке, и в ответ слабо пожимает кончики ее пальцев.
Взгляд его снова ускользает из настоящего момента, отчего Агне кажется, что в обычной одежде, без мундира, он наверняка больше походит на флегматичного писателя, чем на начальника штаба артиллерийско-технического снабжения армии.
Фрау Гиббельс заметно нервничает, крепко сцепляя пальцы правой руки на массивных кольцах левой. Может быть, ей хочется прервать этот вялый разговор, но она не может этого сделать. Как не может и поторопить будущего генерала в выражении своих мыслей. А потому ей приходиться почти смиренно ожидать, пока Томас, снова вернувшись от своих соображений к настоящему моменту в холле модного дома, спрашивает, будет ли Агна присутствовать на партийном съезде, который откроется завтра в Нюрнберге?
Жена Кельнера почти слышит, как шипит супруга министра. Ее большой нос с тупым концом возмущенно ворочается из стороны в сторону: как можно предположить, чтобы посторонние присутствовали на съезде, которым руководит сам фюрер?!
Словно распознав ее немое возмущение, Томас растягивает полную нижнюю губу в извинительной улыбке, и тихо, скомкано завершает разговор с Агной.
Проводив Магду Гиббельс и будущего генерала пехоты взглядом, девушка возвращается к выкройке для новой модели.
* * *
Тяжелая деревянная дверь модного дома Modeamt беззвучно закрывается за Агной. Перебегая дорогу, она смотрит вправо, на секунду задерживает взгляд на припаркованной у тротуара машине.
…В тот вечер ее «Хорьх» стоял на этом же месте. Она собиралась домой. Но из темноты беззвучно, словно он был ее порождением, вышел Гиринг. Одного взгляда на его глумливое, страшное и притягательное лицо хватило для того, чтобы Агна сильно испугалась, — безотчетным, внутренним страхом. И потеряла ребенка. Она смутно помнила тот вечер. И если бы кто-нибудь видел ее тогда, она бы хотела у него спросить: «Как я оказалась в больнице, как я осталась жива?».
Воспоминания показывают ей одни и те же разрозненные детали: Гиринга поглощает темнота, она падает на сидение машины, ничего не соображая от боли, сквозь которую не может пробиться ни одна разумная мысль. Тело не слушается ее, выходит из строя. Загребая ногами землю, Агна затаскивает в салон автомобиля сначала одну ногу, потом другую. А они, словно деревянные грубые палки, как назло, цепляются за край широкой автомобильной подножки. Высокий бортик зеленых туфель замазан землей, вверх от него по чулку, — от лодыжки и выше, — рваными петлями бежит стрелка. Пот тяжелыми каплями падает со лба на руки и одежду.
«Ну же, Эл!».
Элис пытается помочь себе руками, но боль, от которой ее рвет изнутри, с каждым движением забирает все больше сил. Наконец, она закрывает черную лакированную дверь автомобиля, и четко вставляет ключ в замок зажигания. Это — благодаря Эдварду. Мутно-белая капля пота медленно катится по виску, когда Элис, откинув голову на спинку сидения, вспоминает, как он настоял на том, чтобы она научилась быстро заводить машину. Краешек ее губ дрожит в измученной улыбке.
Она тогда стала с ним спорить, все спрашивала, почему он так настаивает на том, чтобы она умела заводить «Хорьх» «быстро, даже если тебе завяжут глаза!»?..
Для этого?.. Чтобы суметь повернуть в замке блестящий металлический ключ даже сейчас, когда — она знает, — внутри нее умирает малыш?.. Мальчик или девочка?..
Набрав в легкие воздух, Элис резко выпрямляется на зеленом кожаном сидении, четко и быстро вставляет и поворачивает ключ вправо.
«Где ты сейчас?».
Автомобиль негромко урчит, послушно отъезжает от тротуара, и везет ее по прямой. Сложнее всего останавливаться перед светофорами, и потому Агна Кельнер не тратит на них время. Минуты медленно утекают, и где-то им наверняка ведется обратный отсчет. Ее личный «золотой час», в который ей и ребенку еще можно помочь, истаивает… Ветер обносит лицо холодом, на кончике заостренного от боли сознания она помнит, что забыла поднять крышу автомобиля, но теперь на это нет времени.
«Пусть мне будет холодно, а он выживет».
Она не говорила об этом Эдварду, но ей казалось, что это мальчик. Крошка, зацепившаяся за край жизни. Руки Эл соскальзывают с узкого руля, безвольно падают на сигнал, отчего улицы, крутящиеся вокруг ее черного «Хорьха», оглушает резкий крик клаксона. Она поворачивает налево, — до клиники «Шарите» остается не так много, но тело снова отказывается ей служить. После единственной остановки на светофоре, «Хорьх» плавно трогается на первой передаче, и перестает урчать. Остановка. Дверь открывается, нос черного ботинка блестит на подножке ее автомобиля, и кто-то плавно, словно в воде, уложив ее на попутное течение реки, выносит Элис прочь. Ее глаза закрываются, но она успевает почувствовать, как слезы, крупные и горячие, какими она до этого никогда не плакала, выкатываются из-под ресниц. Справа и слева. Они бегут вниз, по скулам, огибая черты ее лица. Какой-то свет недолго слепит ее даже через закрытые веки, отчего перед глазами все становится кроваво-красным…
Провал.
Движения.
Далекие голоса.
Снова слепящий свет. Много точек света, белого света. Они складываются в линию, пробегают через нее, через ее закрытые, кроваво-красные глаза… там, с внешней, другой от нее стороны, кто-то волнуется, повышает голос. Кричит и зовет. Она летит прямо, потом направо, прямо как в «Хорьхе». Но Элис больше не в автомобиле, потому что улица перестает звучать. Прохлады, захватывающей ее своими крыльями с обеих сторон, больше нет. Внутри все сжалось. И высохло. Она тянется рукой к животу. Там много крови? Они знают, что она беременна? Надо им сказать, иначе они потеряют время на ненужный осмотр, и не смогут его спасти. Крошка, зацепленная за край жизни. Она катится по белой льняной салфетке вниз, — это Элис смахнула ее, не заметив.
…Из красного появляется лицо. Старое, сморщенное, доброе. Оно трясется над ней, рот открывается, наверное, он хочет что-то узнать, но Элис ничего не знает. Глубокие линии этого старого лица еще какое-то время нависают над ней, закрывая от нее невыносимо-яркую, кипельную потолочную лампу, а потом снова исчезают. Ей становится не больно, она скатывается в провал. И только белый-как-лунь доктор маячит над ней дальним светом.
* * *
Агна идет прямо. Через два дома, в переулке, стайка мальчишек гоняет мяч. Их громкие голоса, сплетаясь звонкой трелью, уносятся в небо. Прислонив ладонь ко лбу, она радостно улыбается, когда один из футболистов, сказав что-то на бегу остальным, спешит ей навстречу, широко раскинув руки.
Вечернее солнце освещает его невысокую фигурку бликами теней и остатками света. Тощие ноги со съехавшими вниз гольфами темнеют ссадинами. Еще одна секунда, — последняя и самая радостная, — и тонкие детские руки крепко обхватывают ее талию. Мальчик врезается в Агну с разбегу, отчего она теряет немного равновесия, и замирает, прислонившись кудрявой, темной головой к ее животу. Он молчит, и Агна молчит тоже. Из всех встреч это мгновение — ее любимое: у них еще есть несколько минут, и пока не нужно расставаться.
— Мариус…
Тихий, ласковый голос Агны приводит мальчишку в движение. Он отпускает девушку, с любопытством смотря на нее снизу вверх. И вот фея, которая однажды, — под самое Рождество! — отдала ему все свои деньги, опускается перед ним, и улыбается широкой, красивой улыбкой. Край ее белого платья касается земли, и Мариусу жаль, что оно, такое красивое и воздушное, станет грязным от дворовой пыли. Фея чуть-чуть покачивается на каблуках, а он хватает ее за руку, — не грубо, но крепко, чтобы удержать, если она начнет падать. Мариус не очень много знает из всяких волшебных дел, но если красивые рыжие феи, такие как эта, могут жить среди людей и даже общаться с обычными, как он, «грязными мальчишками», то и упасть они наверняка тоже могут. Поэтому он держит ее за руку. Очень аккуратно, так, чтобы грязь с его ладони не слишком сильно замарала ее светлую-светлую кожу.
Мариусу очень нравятся их редкие встречи. Они всегда разные. Иногда совсем короткие, на несколько минут, иногда длинные. Но фея всегда разрешает ему себя обнять, и обнимает его в ответ. И почему-то плачет, тоже всегда. То прозрачными слезами, — и тогда она вытаскивает из сумочки платок, и вытирает глаза мягким белым уголком, — то, как это Мариус объясняет себе, «одними глазами», — это когда слезы не успевают еще перебежать на щеки, и только-только собираются в зеленых, феиных, глазах.
Сейчас она тоже плачет. Не одними глазами, а прозрачными слезами, бегущими по лицу быстрыми строчками. Фея улыбается, не обращая на них внимание, и раскрывает ярко-зеленую, похожую на солнечный бархат, сумочку. Мариус ждет, когда из-за темно-желтого медного бортика покажется привычный белый уголок платка. Но в этот раз вместо него она снова достает деньги. Это значит, что у нее мало времени, и на платок нет ни секунды. Мариус застывает в волнении, что происходит с ним всегда, когда фея дарит ему банкноты, свернутые пополам. Он никак не может привыкнуть к этому, предвкушая бессловесную от слез радость мамы, которой Мариус отдает хрустящие бумажки.
Фее даже не нужно просить его о том, чтобы он держал их встречи в тайне, — он и так это знает. И хотя Мариус отдает маме все деньги, отчего потом в их доме появляется свежий хлеб и даже мясо, себе он оставляет самое ценное: знание о том, как выглядит фея.
Она гладит его по голове, по густым кудрявым волосам, и улыбается в ответ на его улыбку. Он говорит, что у него все хорошо, и спрашивает, когда она снова придет? Фея ничего не отвечает, и, выпрямившись, поправляет подол платья. Ее рука исчезает за бортиком кармашка, по белому краю которого вышиты мелкие синие цветы. Заметив внимательный взгляд, она шутливо нажимает на кончик его острого носа, и говорит, что это — васильки. Потом протягивает Мариусу шоколад в золотой обертке, крепко целует в пыльную щеку, и, стерев следы красной помады, прощается с ним, обещая, что скоро они снова увидятся.
Мариус кивает, говорит «спасибо!» и наклоняет голову вниз, потому что это очень стыдно, — когда от поцелуя на щеках выступают пятна, ведь он уже взрослый, ему почти семь: еще немного и взрослый мужчина. Но каждый раз ему становится жарко, когда она целует его и смотрит в карие глаза с волшебной улыбкой на губах. В такие моменты он начинает думать, что, может быть, в нем есть что-то необычное, если такая красивая фея приходит именно к нему?.. Мариус убегает обратно, к мячу и мальчишкам, и все-таки еще раз оглядывается на фею, с которой теперь разговаривает высокая женщина с белыми волосами.
— Фрау Кельнер! Какая неожиданная встреча!
Ханна Ланг растягивает слова в своей привычной манере, и выжидательно смотрит на девушку.
Агна оглядывается, чтобы убедиться, что Мариус теперь — не более, чем отдаленная, неразличимая в толпе мальчишек, точка, звонко кричащая «гоооол!». Это значит, что уже он далеко, и Ханна их не заметила.
— Правда, фройляйн Ланг? — Агна поворачивается к блондинке, и ее зеленые глаза темнеют.
— Как Харри?
Вопрос поднимается вверх, зависает в воздухе грозой, разыгранной как по нотам. Ханна уверенно смотрит на Агну. Вот она, перед ней: рыжая, маленькая, вряд ли чем-то примечательная, кроме своего лица.
Смех Агны начинается внезапно. С улыбки, скользнувшей по губам, он вырастает в тихий, беззвучный смех, и превращается в хохот. На глазах выступают слезы. Плечи мелкой фрау еще дрожат, когда она, шагнув по направлению к Ханне, пытается унять веселье и задать вопрос одной фразой. Но это не получается, — губы то и дело уходят в улыбку, растягиваются в стороны, обнажая белые зубы.
— Интересуетесь чужим мужем, фрау Ланг? Накануне собственной свадьбы?
Глаза Агны искрятся таким весельем, что сама Ханна улыбается. Сначала дежурно-непонимающе, потом — со страхом. И когда в ее взгляде мелькает быстрая тень удивления, Агна хватает ее за ворот платья, явно сшитого на заказ, и четко шепчет:
— А Георг Томас знает, кто ты?
Ханна, которая при желании могла бы довольно легко освободиться от хватки Агны, замирает под ее свирепым взглядом.
— Знает?!
Агна притягивает Ханну с такой силой, что под ее цепкой изящной рукой платье haute couture трещит по швам.
— Попробуй еще хотя бы раз подойти ко мне или к моему дому, и я расскажу твоему будущему мужу о тебе все, что знаю!
Агна со всей силы отталкивает Ханну от себя, и добавляет чуть громче:
— Я знаю много, Ханна. Сама понимаешь, — модный дом, высокие гости, новые слухи…
— Ты!.. — Ханна взмахивает над Агной рукой.
Вдруг плечи ее замирают, а глаза, до этого смотревшие на соперницу высокомерно, теряют всякое человеческое выражение, становятся смиреннее самых последних, собачьих, молящих глаз, и она шепчет:
— Умоляю, не говори. Не говори ему!
Смерив Ханну взглядом, Агна улыбается и быстро уходит вперед, не оглядываясь.
…Агна знает, что Ханна наблюдает за ней. За каждым ее шагом, движением, жестом. За тем, как она перебегает дорогу, подходит к «Мерседесу», в котором ее ждет Харри, садится рядом с ним, и, не давая времени произнести приветствие, долго его целует.
— …Нам нужно в Нюрнберг, Агна, — медленно шепчет Кельнер, удивленный таким пылким поцелуем.
Она не отвечает, — только улыбается ему и своим мыслям, неведомым Харри, и потому он все так же удивленно уточняет:
— Все в порядке?
Агна переводит на него озорной и лучистый взгляд, и, не в пример выражению своих глаз, покорно отвечает:
— Все хорошо, Харри. Значит, поедем в Нюрнберг.
Кельнер молча кивает, и медленно отъезжает от здания модного дома. Если у него и есть догадки о причинах столь неожиданного поведения Агны, то он скоро забывает о них, верно чувствуя, что ни одна из этих версий не имеет ничего общего с настоящей причиной, о которой, она, конечно, не говорит.
* * *
Генрих Остер, член правления IG Farben был предельно краток. Раскурив сигару, он откинулся на спинку кожаного кресла, и, посмотрев на стоявшего перед ним Кельнера через облако дыма, произнес:
— Вы едете в Нюрнберг.
Харри молчал, ожидая продолжения, которое последовало после того, как Остер, отплевавшись от табачной крошки, сморщился и с яростью затушил сигару о дно большой пепельницы.
— Как вы знаете, в сентябре тысяча девятьсот тридцатого мы оказали партии большую услугу.
Кельнер согласно кивнул, уточняя:
— Пожертвования.
Указательный палец Остера повернулся в сторону блондина.
— Именно! С тех пор…
Генрих с трудом вылез из глубокого кресла, — все-таки нервная работа и неразбериха на местах давали о себе знать.
— …Мы всегда оказываем нашим друзьям различного рода услуги. Конечно, выгодные для нас. Вскоре нам предстоит заключить соглашение о поставке никеля с нашими канадскими партнерами, что позволит сэкономить валюту, тогда как остальной никель мы получаем из Англии.
Увлеченный собственными мыслями, Остер ненадолго замолчал, и, улыбнувшись чему-то, коротко и жестко рассмеялся.
— Эти идиоты даже не представляют, во что они ввязались по своей воле, Кельнер! Даже не представляют!... — он резко хлопнул в ладоши. — Но что можем сделать мы, если наши партнеры хотят с нами сотрудничать и получать деньги, правда, Харри?
— Полагаю, ничего, — ровно заметил Кельнер, не меняя положения.
— Именно! Ну а пока ведутся переговоры и готовятся необходимые бумаги…
Остер остановился напротив Харри и положил руку ему на плечо, что, по его задумке, наверняка должно было свидетельствовать о доверии, которое он оказывает сотруднику берлинского филиала «Фарбен», и этот жест мог бы стать таким, если бы Генрих не был на голову ниже Кельнера. Сообразив, наконец, что его жест в сочетании с разницей в росте выглядит скорее комично, чем доверительно, Остер поспешно убрал руку с плеча блондина, и растер ладонь о полу пиджака, стирая с нее капли пота.
— Вы едете в Нюрнберг, где завтра открывается съезд. Побудете там, разведаете обстановку, выразите, если представится случай, наше дружественное расположение партии, и вернетесь сюда. От вас после Нюрнберга я жду отчет.
Прежде чем ответить, Кельнер прочистил горло.
— Я думал, герр Остер, мы доверяем членам партии, ведь речь идет о самом фюрере.
Генрих с утешающей улыбкой посмотрел на наивного Харри, и ласково произнес:
— Конечно, мы им доверяем! И членам партии, и самому фюреру, конечно… но никогда не стоит забывать о своих интересах, правда? Вы слишком молоды для того, чтобы все понять, но я скажу вам одно, Кельнер: это все, — Остер сделал несколько шагов назад, и обвел руками воздух, — большая игра, Кельнер, большая и-г-р-а… и мы с вами будем играть по своим правилам: при удобном случае объединимся с теми, кто нам нужен, как, например, Грубер и Рем в самом начале, или… оасстанемся, как случилось совсем недавно с беднягой Эрнстом в тюрьме… — заметив, как вытянулось от удивления лицо подчиненного, Остер снова рассмеялся.
— Как, вы не знали? Ладно, скажу вам по большому секрету: Рема убил Теодор Эйке. Оно и понятно, нельзя же доверять случайному человеку столь важное дело. Но Эйке таким образом доказал свою верность, Кельнер. Он честно служит партии, выполняя трудное дело: пытаясь наставить на правильный путь предателей партии, направленных в лагерь Дахау. Кстати!
Остер взмахнул руками
— После Нюрнберга я даю вам отпуск, о котором вы спрашивали, а потом вы снова поедете в Дахау, надо кое-что… ну да ладно! Довольно пустой болтовни!
— Могу я поехать в Нюрнберг со своей супругой?
— О… — Остер сделал вид, что раздумывает над вопросом, — с вашей рыжей красавицей? Конечно, Харри, возьмите ее на праздник.
Генрих улыбнулся, довольный собой и послушным, исполнительным сотрудником. Вскинув руку вверх, он попрощался с подчиненным, наблюдая за ним до тех пор, пока дверь кабинета не скрыла от него Харри Кельнера.
* * *
Эдвард подъехал к дому и заглушил мотор «Мерседеса». Разговор с Остером разжег его тревогу только сильнее.
«С вашей рыжей красавицей?».
Не стоило об этом спрашивать, не стоило привлекать внимание, лишний раз упоминая об Элис, Эдвард понимал это. Но только так отсутствие Агны Кельнер в Берлине на протяжении пяти дней, что продлится съезд, — на котором, судя по слухам, что ему удалось узнать, будет Освальд Мосли, глава британского союза фашистов, — не вызовет ни у кого подозрений.
Ни у кого. В том числе и у жены Гиббельса, с которой, — в этом Милн был полностью согласен с Эл, — следует быть предельно осторожными.
Он столкнулся с Элис на пороге дома.
— Я услышала, как ты приехал.
— Да, я… садись! — Милн забрал у Элис небольшую дорожную сумку, взял ее за руку и повел к машине.
— Что такое? — тихо спросила Элис, смотря на Милна снизу вверх. — Мы не едем в Нюрнберг?
— Едем, конечно, едем! Прямо сейчас. Ты собрала вещи, взяла самую простую одежду, как я просил?..
—…И предупредила Кайлу, да.
— Хорошо, это… хорошо, — Милн закрыл за Эл дверь автомобиля и сел за руль.
Когда их дом в Груневальд остался далеко позади, а стрелка на спидометре «Мерседеса», летящего по загородному шоссе дошла до 120 км/ч, Элис набрала в легкие побольше воздуха, и сказала:
— Это всего лишь съезд…
— Да? — с сомнением уточнил Милн, снижая скорость.
Остановившись на обочине, он заглушил машину и повернулся к Эл.
— На этом съезде будет Мосли[ Освальд Мосли — основатель британского союза фашистов.].
— И Диана Митфорд[ Любовница Мосли.], — добавила Эл, когда Эдвард удивленно приподнял бровь. — Я слышала в модном доме.
Они молча посмотрели на друг друга, прекрасно понимая, о чем идет речь.
— Нам нужно быть осторожными, Эл.
Эшби мягко улыбнулась, глядя в обеспокоенное лицо Милна.
— Ты всегда это говоришь. И мы всегда осторожны, — Элис мягко улыбнулась, стараясь разрядить обстановку, но Милн напряженно продолжил:
— После возвращения из Нюрнберга от меня ожидают доклад. И я почти уверен, что за нами будут следить.
— Почему ты так решил? Ты что-то заметил?
— Остер вызвал меня, и говорил слишком открыто, — Милн повернул ключ в замке зажигания и перевел «Мерседес» на первую передачу, — Нацистам, говорящим откровенно, не доверяют даже их коллеги по гестапо. Поэтому, когда мы будем в Нюрнберге, я буду держать тебя за руку.
Они въехали в город рано утром, пятого сентября. И если бы не улицы, кишащие огромными яркими полотнищами свастики и черной формой бесчисленных эсесовцев, Нюрнберг можно было бы счесть еще сонным, — на часах было только начало шестого.
Не проехав и десяти метров, «Мерседес» остановился. Черный эсесовец подошел к водителю и вскинул руку вверх. Ответив ожидаемым образом, Кельнер вытащил из внутреннего кармана пиджака документы, и протянул их форменному человеку, подумав, что он, — такой вышкаленный и усердный, — наверняка говорит все те фразы, которые Харри много раз слышал до этого от поклонников фюрера: слова о том, как это важно, — хорошо выполнить данный тебе приказ. Впрочем, в этом не было ничего удивительного, ведь новый рейх, величие которого планировалось растянуть ни много, ни мало на тысячу лет, был выстроен на принципах «оскорбленной германской гордости», военной муштры и тотальной дисциплины. Мутные глаза уставились сначала на Харри, потом на Агну.
— Что вы делаете в Нюрнберге?
— Я прибыл на съезд, по поручению руководства компании «Фарбен».
— А она? — эсесовец выдвинул нижнюю челюсть вперед, очевидно этим движением желая указать на Агну.
— Моя супруга, сопровождает меня.
— Женщинам не положено быть на съезде! — отчеканила нижняя челюсть эсесовца, возвращаясь на привычное место.
— А как же жительницы Нюрнберга? Им тоже отказано в удовольствии услышать и увидеть фюрера? — спросила Агна, наклоняя голову и с улыбкой глядя на черную форму.
Глаза эсесовца сверкнули.
— Проезжайте!
Негромко хмыкнув, Агна посмотрела в окно на «Гранд-отель», мимо которого они проезжали. Им нужно было найти номер в Нюрнберге на те пять дней, что продлится съезд, но пока они только следовали от одной гостиницы до другой, раз за разом выслушивая фразы о том, что «свободных номеров нет». Элис улыбнулась, глядя на монументальное здание главного городского отеля, все комнаты в котором тоже были заняты.
Свободный номер нашелся в маленькой гостинице недалеко от центра города. Администратор Hotel am Josephplatz, построенного в 1675 году, с радостью взяла с очаровательной семейной пары тройную плату, которая обязана была соответствовать рейтингу Нюрнберга, что в дни партийного съезда вырастал до небес. Так, небольшой город, расположенный в федеральной земле Бавария, в одночасье стал самым известным и желанным среди всех немецких городов.
Хозяйка проводила пару до двери их номера, и, изломав тонкие губы в ехидной усмешке, ушла. После бессонной ночи, проведенной в дороге, «роскошная кровать с балдахином», преимущества которой Кельнерам расписала все та же услужливая дама, — подкрепив свои слова первой за этот день однозначной ухмылкой, — показалась Элис самым желанным, что только может существовать на свете.
Удобно устроившись на кровати, она наблюдала за Милном, дотошно осматривающим номер, а Эдвард, казалось, был абсолютно поглощен осмотром комнаты и ванной, — это было первым и постоянным пунктом в каком-то невидимом, одному ему известном списке дел, который он выполнял всегда, вне зависимости от своего состояния, настроения, времени суток или погоды за окном. «Осмотр номера на предмет прослушки», — так он это называл.
Стоило Харри и Агне выйти из отеля, как почти сразу же они оказались затянуты огромной толпой в общий, бурный водоворот, состоявший из взрослых и детей, мужчин и женщин, молодых и старых, — словом, всех, кто населяет любой город мира. Отличие заключалось лишь в том, что этот город в их сознании никогда не был, и не мог быть похожим на любой другой город мира. Это был Нюрнберг, — город, избранный фюрером, любимый город Грубера. Люди помнили об этом, гордились этим, и передавали друг другу одни и те же, давно уже всем известные, фразу по бесконечному кругу. Толпа кричала, пересказывая обрывки фраз, брошенные от одного ее конца к другому. Похожие на оголтелых тощих птенцов, которые ждут, когда мама принесет и разложит в их раскрытые клювы извивающихся жирных червей, люди без конца спрашивали, когда же они увидят вождя?
Было около полудня, солнце распекало многочисленные головы страждущих своими знойными, неотвязными лучами, а его все не было. Люди толпились на тротуарах, толкали друг друга локтями, в надежде занять лучшее место в первом ряду, и, одуревшие от шума и душного зноя, огрызались по сторонам грубостью и бранью.
От жары и скученности тел многим становилось плохо. Женщины обмахивались далеким подобием вееров, роль которых выполняли то какие-то буклеты, то бумажки, судорожно зажатые в руках, мужчины, кое-как отовоевав пространство, вытягивали из карманов носовые платки, облегченно утирая ими пот, бесцветными ломаными линиями бегущий по их лицам, лысым и бритым головам, затылкам и вискам.
Крепко сжав руку Агны, Харри медленно шел вперед вместе с толпой, внимательно отслеживая движение людской массы. По своему опыту, который он вывез из Марокко, Кельнер знал, что с толпой лучше не связываться, а все-таки связавшись, держаться ближе к краю, к «выходу» из нее, — на случай паники, бунта или неосторожно брошенного кем-то слова, которое может, как огонь — фитиль, спалить к чертям всю мнимую согласованность людей.
…Они были на тротуаре, в тесном втором ряду, когда «Мерседес» с открытым верхом, в котором Грубер стоял с задранной вверх рукой и с натянутой на лицо потной улыбкой, медленно проехал мимо. Приближение вождя, — как давление по барометру, — можно было точно определить по искаженным лицам людей: чем больше приближался их лидер, тем безумнее в своем слепом ажиотаже крутились по сторонам глаза, цеплялись друга за друга скрюченные, — а в следующий миг уже судорожно выпрямленные, — руки, и кричали сдавленные безотчетным восторгом, глотки. В глазах рябило от множества тел, тесно и нелепо скученных под палящим солнцем, скрюченных восторгом избранности.
Агна дышала с большим трудом. Подняв голову так высоко, как могла, она хватала ртом раскаленный воздух, и не чувствовала облегчения. Вот женщина из первого ряда, которая стоит прямо перед ней, прокричав что-то, бросает под колеса «Мерседеса», в котором едет Грубер, букет цветов. Быстрые черные эсесовцы скручивают ей руки, но увидев на брусчатке всего лишь чахлый букет, а не подозреваемую ими бомбу, теряют к фрау всякий интерес, и грубо вталкивают ее на прежнее место, перед Агной.
…Пробыв в толпе весь день, Агна и Харри медленно тянутся в сторону отеля Deutscher Hof, в котором остановился Грубер. Теперь главные празднества, — в виде речи вождя, ночного шествия под свет многочисленных факелов и живой музыки, — разворачиваются на небольшой площади перед отелем. Вождь, освещенный неровными огнями, высунулся в окно. Его слова, нервные, завывающие и припадочные, вызывают восторг толпы. Вокруг ночь, и от пламени факелов, дрожащих на ветру, она кажется еще темнее. Лица окружающих людей почти не видны. Как и днем, Харри держит Агну за руку, и иногда она сжимает его ладонь в бессловесной беседе.
Повернув голову вправо, за каким-то неясным движением, она застывает на месте. Это длится, должно быть, всего несколько секунд, но она уверена, знает, — лицо, мелькнувшее сейчас в толпе, принадлежит ее брату. Стив здесь! Агна тянет за руку Харри, жарко шепчет на ухо несколько фраз, но в общем безумии происходящего он мало понимает услышанное. Теперь она и сама сомневается в ясности того, что видела. Может быть, это только тень? Или кто-то похожий на Стива? Сердце сжалось и застучало громче, отдаваясь эхом в ушах. Да, наверное, она ошиблась.
Вот под окном, в котором трясутся руки и сальные волосы фюрера, блестит фраза, выдавленная на стене гостиницы круглыми металлическими кнопками: «Heil Hruber!».
Вся площадь перед отелем загружена людьми. Ночь и темнота приносят прохладу, но от множества человеческих тел как будто все еще несет дневным нестерпимым зноем. Оркестр бравурно рассекает ночь музыкой. Она звучит слишком громко, не давая толпе отдохнуть, помолчать, подумать или помыслить о чем-то ином, кроме того, что ей показывают. Недалеко от Кельнеров, в отсветах чадящих факелов, блестит каска дирижера. Она трясется, съезжает с его потной головы то вправо, то влево, несуразная и нелепая, как и статуя торговца, который держит в каждой руке по утке.
И если бы Элис не была так измучена длинным, навязчивым днем, она наверняка бы заметила, как все это нелепо. Потому что она всегда это замечает. И улыбнувшись, говорит об этом Эдварду. Он улыбается в ответ, а потом, в тишине и темноте спальни они много смеются над серьезностью лиц и поз, черными мундирами и спесью избранных, целуют и любят друг друга ночь напролет. Это помогает им дышать, жить и не сходить с ума.
* * *
…Многие люди идут до поля Цеппелина пешком. Гиринг, Гиллер, коротышка Гиббельс — все они рядом со фюрером, ревущим над стекающимся с разных сторон города, народом. Позже нацисты введут для обозначения людей термин «биологический материал», и станут применять его и в отношении «превосходных» эсесовцев, и тех, кого они начнут массово уничтожать.
Это наш второй день в Нюрнберге. Ты идешь рядом со мной, уставшая и жаркая от палящего солнца. Я замедляю шаг, чтобы тебе было легче, но это мало помогает. Твоя ладонь мокрая, с нее капают крупные капли пота, и я беру тебя за руку иначе, переплетая пальцы. Так надежнее. Сердце, избитое сумасшедшим ритмом, задыхается от жары. Мы продолжаем идти почти строем, в большой толпе, похожие на обезумевших фанатиков. Мы слушаем лай Грубера, стоя на поле Цеппелина. Над головой раскинуто бескрайнее, безумное в своей красоте, бирюзовое небо.
Именно на этом месте в следующем году, по проекту главного архитектора рейха, Альберта Шпеера, начнут строить трибуны для размещения «высшего руководства партии». Забравшись на специальное возвышение, Груберу станет еще удобнее сеять чернь в головах своих поклонников. А если запал иссякнет, и из вождя он вдруг превратится в смертного, то всегда сможет справить нужду в туалете, расположенном прямо за его спиной.
Практично.
Надежно.
По-немецки.
…Через много лет, когда война уже отгремит, ты увидишь в газете заметку. Не выдержав, начнешь читать вслух, дрожащим от горечи голосом: воспоминания немки о том, как ежегодные съезды партии в Нюрнберге, которые Грубер провозгласил «самым германским из всех городов», были для нее «самым главным и долгожданным праздником, таким же, как Рождество». Ты прочтешь это и заплачешь, закрывая лицо руками… за одну из них я держу тебя сейчас крепко-крепко.
Речь фюрера гремит долго, и солнце проявляет настоящую милость, уходя за крыши домов. Мы молчим, усталые и голодные, обессиленные не столько зноем, сколько дурманом трибунных речей. Я так сосредоточенно наблюдаю за происходящим, что не сразу чувствую, как мужчина в форме подходит ко мне и передает сообщение.
Меня ждут на закрытой встрече высших чинов партии с промышленниками. В этот раз моя роль усложняется, — на собрании я — один из представителей «Фарбен», а значит, если мне предоставят слово, я напомню друзьям партии, что с каждым годом, начиная с 1924-го, общие вложения американских и английских спонсоров нацистской партии становятся все внушительнее, переваливая за десятки миллиардов марок. Или сотни миллионов долларов, что, по сути, одно и то же.
Потом я расскажу, как «Фарбениндустри» снабжает рейхсвер взрывчатыми веществами, смазочными маслами и синтетическим горючим. И это только начало. Не удивительно, что по прошествии нескольких лет «Фарбен» дошла до разработки и чрезвычайно «успешного» применения «Циклона-Б» в концентрационных лагерях: разработки «чего-то похожего» ведутся уже сейчас, когда о явной войне, кроме кучки безумных кретинов, не знает еще никто. Все версальские договоренности давно нарушены, Германия готовится к новой мировой войне, спонсорами которой по своей доброй воле стали первые страны мира. И Великобритания, Эл, наша с тобой родина, тоже оказывает ей в этом громадную поддержку. Я наклоняюсь ближе, прошу тебя никуда не уходить, занудно напоминаю об осторожности, и обещаю скоро вернуться. Ты отвечаешь мне уставшим взглядом и наклоняешь голову в знак согласия. Шагая за мундиром, я оглядываюсь назад, но в плотной толпе уже не могу тебя различить.
…В «высоком» окружении время ползет и тянется. Крупп, прозванный «пушечным королем», радуется новым многомиллионным займам банка Сиднея Уорбурга, который уже имел честь встретиться с фюрером и его финансовым экспертом Хейдтом, директором банка Тиссена. Все идет как нельзя лучше, перевооружение третьего рейха набирает новые, мощные обороты, и, поздравив друг друга с этим замечательным фактом, мы, наконец-то, расходимся.
* * *
…Стоило Груберу закончить свою речь, как толпа понеслась к трибуне. Я видела, как многие плакали. Не только женщины, но и мужчины. Я всеми силами пытаюсь не поддаваться тому, что все мы слышим из уст нацистов, — круглосуточно, ежедневно, постоянно. Но иногда я с ужасом думаю, что, может быть, этот невидимый яд разъедает и мою душу?.. Людская масса сносит меня с места, тащит вперед. Ты еще не вернулся, но я стараюсь не паниковать, только теперь отчетливо понимая, что ты имел ввиду, когда говорил, что толпа может быть опасна.
Моя рука вытянута вперед и вставлена, словно трость, между двумя телами, трясущимися впереди меня. Попытки выбраться из центра толпы ничего не дают, я по-прежнему безвольно трясусь, следуя вперед.
Вот кто-то тянет меня. Словно морской волной, меня выносит вперед, только не к ногам рыбака со старой сетью в руках, а к группе людей.
Безотчетный, глубинный страх, скручивающий мое тело всякий раз, когда я встречаю Гиринга, мгновенно просыпается. Я еще не вижу, но уже чувствую его присутствие. Вот он, — в нескольких шагах от меня, смеется в компании друзей. Его змеиные глаза отдают хищным блеском, когда он замечает Агну Кельнер.
Пытаясь проглотить ком, застрявший в горле, я со страхом оглядываю окружающих его людей, и замечаю тебя. В первые секунды это кажется сном, который, наконец-то, сбылся. Все становится неважным, кажется, я не слышу даже обволакивающий голос Гиринга.
Ты все такой же: чуть выше Эдварда, легкий и громкий. Я не чувствую, как бьется мое сердце. Я только смотрю на тебя до боли в глазах, и не знаю, что говорить и что — делать. Муштра, ставшая моей привычкой за время, проведенное нами в Берлине, даёт о себе знать: я выпрямляюсь, смиряя движение, выражения лица и глаз. За каждым из нас наблюдают, и я вынуждена вести себя так, словно ничего не произошло и не происходит сейчас. Словно не было всего этого времени, и я не теряла, не искала и не отчаивалась найти тебя. Словно не было разведки, перевёрнутого германского мира и бесконечной тоски о тебе, — тоски с липкими вопросами, на которые я так и не нашла ответы: где ты?
Что случилось? Правда ли то, что о тебе говорят? Почему ты не писал мне? Почему ты молчишь?..
Сотни и сотни раз я спрашивала себя об этом, но не находила ответа, и сейчас я здесь — в стране, из которой нельзя уехать, не вызвав подозрения. В стране, власть которой следит и находит тех, кто ее не признает. Безумно хочется к тебе: пробежать то немногое расстояние, что разделяет нас, и обнять тебя крепко-крепко, прокричать, что это ты! Ты здесь, ты нашелся, Стив... Ты смотришь на меня, не отводя глаз. Пожимаешь руки рядом стоящим, но взгляд твой прикован к моему лицу. Не знаешь, что делать: улыбнуться, назвать по имени или оставаться серьезным? Мысль о моем имени действует как сигнальная вспышка, — что мне, Агне Кельнер, делать, если сейчас ты назовешь меня «Элис»?.. Я вскидываю руку вверх, и сознание прожигает стыд.
Невероятно, нелепо, невозможно, чтобы мы с тобой наконец-то встретились, и — так, вынужденные играть в абсурдную, ужасную игру. Меня называют Агной Кельнер, и твои брови поднимаются вверх. Но как бы сильно ты ни был удивлен, ты молчишь о моем настоящем имени, хотя вопрос едва не срывается с твоих губ. Пожимая мою руку чуть дольше обычного, ты сжимаешь кончики пальцев, как всегда делал в нашем детстве, желая приободрить меня. Я чуть-чуть улыбаюсь в ответ: явная радость, как и явная грусть здесь вызывают вопросы, ответы на которые выбивает гестапо, а это, как сам понимаешь…
Окружающий разговор, может быть, от моего внезапного присутствия, быстро сворачивается, подобный закрытому на замок сундуку. Изображая любезный интерес, ты вызываешься проводить меня, «чтобы с фройляйн ничего не случилось». Я мысленно поправляю тебя, — это обращение ко мне уже не относится, и впервые за все время нашей встречи, я вспоминаю, что об этой перемене в моей жизни ты тоже пока ничего не знаешь. Как и не знаешь о том, кто мой муж.
Восторг и нетерпение душат меня, я едва удерживаю себя на месте, мысленно умоляя, чтобы вся эта официозная чушь поскорее завершилась, и мы смогли бы поговорить наедине.
Мы идем с тобой к выходу с поля. Вокруг нас толпы людей, но от радости кажется, что у меня выросли крылья, и теперь я почти бегу, быстро иду впереди тебя, тяну тебя за руку. Несмотря на разницу в росте и силе, мне это неплохо удается, я не вижу твоего лица, но знаю наверняка, что ты улыбаешься.
Вытянув тебя с поля, я шагаю дальше, замечаю небольшой проход между домами, и тяну тебя туда. Может быть, это не самое удачное место для разговора, но времени нет, мне некогда ждать. Прислонившись спиной к кирпичной стене дома, я первые секунды молчу, и не могу унять улыбку, которая становится то тише, то громче. Но стоило тебе сказать «Ли́са», как я бросаюсь к тебе, обнимаю тебя изо всех сил.
Слезы бегут по щекам, сначала я смахиваю капли рукой, но потом их становится так много, что я перестаю заботиться о том, как выгляжу. Слезы пропитывают твою рубашку и пальто. Легкое, бежевое, оно тебе очень идет.
По привычке, взятой в модном доме, я провожу рукой по отвороту, наслаждаясь текстурой ткани. Ты смотришь на меня сверху вниз, улыбаешься и обнимаешь. Прижавшись к твоей груди, я слышу густой ритм твоего сердца. Наконец, неуклюже вытерев слезы, я заваливаю тебя вопросами: где ты был и почему не писал? Где ты живешь и откуда приехал? Навещал ли ты тетю? И правда ли… правда ли то, что о тебе болтают? Та история с компаньоном папы?.. Сейчас мне странно, что тогда я упустила самый главный вопрос: как ты оказался сегодня в Нюрнберге, в окружении нацистов? Но он не приходит мне на ум, я тороплюсь, волнуюсь, и отдаленно помню, что Эдвард уже может искать меня… Эдвард!
— Стив, ты еще не знаешь главного!
Ты аккуратно снимаешь мою руку со своего плеча и отпускаешь ее.
— Ли́са, мне нужно идти, мало времени. Поговорим потом, ладно?
— «Потом»?! Но когда?! Я не видела тебя так долго, ничего о тебе не знала, думала, что ты… что ты умер! А ты говоришь «потом»?
Ты долго смотришь на меня и молчишь. Наконец, произносишь:
— Хорошо. Ресторан «Гранд-отеля», сегодня, в восемь.
Я киваю и улыбаюсь.
— До встречи, Элисон.
— До встречи… Стив.
Ты уходишь, но пройдя несколько шагов, останавливаешься, и, оглянувшись на меня, задумчиво спрашиваешь:
— Кстати, а что ты сделала со своими акциями? Продала?
Я отрицательно качаю головой:
— Нет, нет! Они мои, они у меня! Это же компания папы, я не могу…
— Ладно, тогда до встречи.
Ты уходишь, а я долго смотрю тебе вслед, и ухожу только тогда, когда ты скрываешься из виду. Уже спокойнее, я возвращаюсь на поле Цеппелина. Оно почти безлюдно, и я сразу замечаю Эда. Остановившись в центре и прикрыв глаза ребром ладони, они оглядывается по сторонам. Заметив меня, машет рукой и спешит навстречу. Я тоже бегу к нему, и не слышу его первых фраз. Он проводит руками по моим плечам, улыбается и снова, — как и все эти дни в Нюрнберге, — берет меня за руку. Как и тебя, от нетерпения я тяну его за руку, выбегая вперед. Он что-то говорит, смеётся и нарочно замедляет мой шаг, притягивая меня к себе. Я тороплюсь, — не хочу начинать наш разговор на ходу, и радуюсь, что до «Мерседеса» остаётся совсем чуть-чуть.
Когда мы подходим к машине, Эд нарочито медленно открывает для меня дверь, веселясь моему нетерпению, от которого я едва не танцую на месте.
И когда он, наконец, садиться за руль и заводит мотор, я говорю ему, что нашла тебя!
* * *
— Стив здесь? — Эдвард с сомнением посмотрел на Элисон. — Ты уверена?
— Да! Как ты можешь мне не верить?! Я говорила с ним, видела его так же близко, как сейчас вижу тебя. Мы договорились встретиться сегодня в ресторане «Гранд-отеля», в восемь. Ты не рад?
Эдвард долго молчал, как будто сверяясь с чем-то, а потом сказал:
— Я верю, но… не знаю, Агна. Тебе не кажется это странным?
Он перевел взгляд сначала на сосредоточенный профиль Элис, по которому без всяких слов было понятно, что в появлении Стива она не видит ничего необычного, а потом на вид за стеклом. Поле Цеппелина совершенно опустело, и больше не производило того всепоглощающего впечатления, которое возникло у Эдварда в первые минуты груберовской речи. С неба накрапывал уютный мелкий дождь, и звук падающих капель напоминал помехи и шуршание, какие бывают, когда ставишь иголку граммофона на пластинку. Еще секунда, треск блестящего диска стихнет, и вокруг зазвучит, разливаясь, музыка… Отстучав на рулевом колесе мотив, Милн повернулся к Элис.
— Что он еще сказал? Может, что-то необычное?
— «Необычное»? Ты серьезно?
— Ну, или…
— Не смей! — Элис резко повернулась к Эдварду, и теперь он четко видел ее лицо. — Не смей, слышишь?! Я… — дыхание сбилось, вынуждая Эл на миг остановиться. — Я искала его, я думала, что он умер! Потом я думала, что он — убийца, я… так его ждала!
И сейчас ты, — она с возмущением посмотрела на Милна, — пытаешься сказать мне, что в его появлении есть что-то странное?!
В глазах Эл задрожали слезы. Одним резким движением она смахнула их с лица.
— Агна, подумай сама: он появился здесь, в Нюрнберге, на съезде, в окружении первых нацистов… это, по-твоему, не удивительно?
Эдвард посмотрел на Элис, и при виде ее слез, его внимательный, жесткий взгляд стал мягче. Он продолжил, но уже тише:
— Ты только что сказала, что он вел себя как обычно, и не выглядел шокированным, стоя рядом с Гирингом. Значит, он знаком с ним? Значит…
— Нет-нет-нет! — Элис закрыла руками уши, отказываясь слушать Милна. — Это нельзя, понимаешь? Это невозможно! Ты даже не спросил, как он, и все ли с ним в порядке! В чем ты обвиняешь его?!
Элис замерла, ожидая ответа, и в упор глядя на Милна.
— Ни в чем, Агна. Я лишь пытаюсь понять, что происходит. Потому что… — Эдвард набрал в легкие побольше воздуха, и произнес на выдохе, —… мы ничего не знаем о Стиве.
— Но он твой друг! Ты сам говорил, что он — твой друг!
— Да. Был. Но я ничего не знаю о нем уже десять лет, Агна! Десять! Где он был? Чем занимался? Зачем он здесь, да еще и в том кругу, в который, как ты знаешь не хуже меня, проникнуть просто так невозможно? А Мосли? Мосли здесь, Агна! Глава британского союза фашистов — здесь, и Стив — здесь! Это тебя не удивляет?
С силой стукнув по рулю, Эдвард отвернулся, рассматривая невидящим взглядом дождевые капли, бегущие вниз по стеклу. Повисла долгая тишина.
—…Ты думаешь, он — такой, как они, да?
Голос Эл сорвался и стих. Она резко покачала головой, и прошептала:
— Ты просто завидуешь ему.
— Что? — пораженно протянул Милн, снова поворачиваясь к ней. — Завидую? Я?
— Да, ты!
Элис выпрямила спину, и села на край сидения, сложив руки на коленях.
— Завидуешь, что он свободен, и ему не надо сверяться с глупыми шифровками, составленными по прихоти идиота-начальника! Ему не надо прятаться, ему не надо жить чужой жизнью! Он может уехать отсюда, когда захочет, а ты останешься здесь и будешь бояться дальше!
Эдвард в упор посмотрел на Элисон, и глухо, с расстановкой, спросил:
— И чего же, по-твоему, я боюсь?
— Своего прошлого! Настолько, что ничего не говоришь! Тебе интересно, чем он занимался? — Элис высоко подняла голову. — А чем занимался ты? Или ты лучше него? Герой? Кто ты такой, чтобы судить моего брата и обвинять его в связи с нацистами?
Эдвард громко сглотнул, тряхнул головой, провел рукой по белым волосам, и, вытащив из внутреннего кармана пиджака фляжку, открутил крышку, жадно припадая к горлышку. Протяжные, тяжелые глотки заполнили своим звуком гнетущую тишину.
— Да, конечно, самое время выпить!
Элис поморщилась, глядя на Милна. Выпив все до последней капли, Эдвард внимательно посмотрел на Эл, и глаза его заблестели. Он медленно опустил фляжку, наклонился вплотную к Эшби и прошептал:
— Я занимался войной, Агна Кельнер. Мне было восемнадцать, — совсем, как тебе, когда мы приехали сюда. Я был в Марокко, убивал местных. Я не рубил им головы, Элисон Эшби, и не фотографировался с ними на камеру, как другие, но я их убивал. Много!.. Эдвард приподнял лицо Элис за подбородок, и, несмотря на ее сопротивление, повернул к себе.
— Тела тех, с кем я воевал в одном окопе, гнили на жарком солнце, Эл. Однажды я попал в окружение. Рифы, — марокканцы — были повсюду.
Кружили вокруг нас, как стервятники, хотя сами тоже были полудохлыми. Они защищались, защищали свою землю от нас. Я тогда пробыл трое суток без воды и почти сдох. Помнишь, ты спрашивала однажды ночью, занимаясь со мной любовью, что это за следы у меня на груди? Спрашивала?
Голос Милна стал мягким и вкрадчивым, и Элис, глядя на него огромными от изумления глазами, только молча кивнула.
— Я сам расцарапал свою чертову кожу, когда подыхал на песке. Поэтому…— Эдвард с улыбкой похлопал себя по карману, в котором была фляжка,— я пью, Эл. Воду.
Глаза Милна заблестели еще сильнее, и он тихо, жутко рассмеялся.
— Желаете еще чего-нибудь, мадам?
Вздрогнув, Элис со страхом посмотрела на Эдварда, и отбросила его руку от своего лица.
— Не приходи сегодня в ресторан.
Со стороны Эдварда послышался тихий, страшный смех.
— Хочешь убежать со Стивом? Думаешь, он возьмет тебя с собой?
— Да, хочу! И да, возьмет!
— Посмотрим, как вы уедете вместе, если даже сейчас он бросил тебя здесь, и не подумал спросить, как ты, и нужна ли тебе помощь.
— Эд…
— А вот про акции он помнит.
Не глядя на взволнованное лицо Эл, Милн завел автомобиль, и тихо пропел:
— Tu m'oublieras bien vite et pourtant
Mon cœur est tout chaviré en te quittant!
Je peux te dire qu'avec ton sourire
Tu m'as pris l'âme…(1)
* * *
Эдвард переоделся и уехал из отеля, в котором они остановились, около шести вечера. После разговора в машине, Эл и Эд больше не сказали друг другу ни слова.
Элис, которая в это время только начала готовиться к встрече со Стивом, вдруг поняла, что она действительно едет в «Гранд-отель» одна. Раздражение на Эдварда за то, что он отказался ее понять, и острая боль, возникшая в сердце в тот момент, когда он говорил о Марокко, не оставляли ее в покое, и она никак не могла успокоиться. Закрыв глаза, Элис сделала глубокий вдох, стараясь привести мысли в порядок. Но перед глазами снова и снова возникало лицо Эдварда, искажённое горечью и болью.
«Мне было восемнадцать… я убивал их, много! Я подыхал на песке, я сам расцарапал свою чертову кожу!». Она очень хорошо знала эти шрамы на груди Эда. Но на ее вопросы о них он никогда прежде не отвечал, — только молчал, курил или переводил разговор на другую тему. И вот, теперь она знает… Элис села на кровать, свесив руки вниз, как плети. Зачем она сказала, что уедет со Стивом? Он ведь даже об этом не говорил. И что теперь делать? Выезд из Германии стал сложным, почти невозможным. И Элис прекрасно знала, что даже за эмигрантами, покинувшими страну, — вне зависимости от давности отъезда, — гестапо ведёт постоянную слежку. Она чувствовала, что Эдвард прав. И понимала, что никуда не уедет, не сможет бросить его. Эл посмотрела на себя в зеркало. Разве она может? После всего? Боль снова стянулась в груди в один тяжелый ком.
Нет! Не может. Но как быть со Стивом?.. Он наверняка спросит ее об Агне Кельнер. И что она скажет? «Я пошла в разведку, чтобы найти тебя. Кстати, я замужем за твоим другом»? Какая глупость! Поглощенная своими мыслями и переживаниями, Элис, казалось, совершенно забыла о встрече. Снова и снова она прокручивала в голове все возможные варианты, но так и не находила ответы. Что теперь делать? Она так переживала из-за Стива, так мечтала его найти, и совсем не подумала о том, что будет после того, как она его найдет! Элис горько усмехнулась, скользя взглядом по комнате.
Время шло, маленькие позолоченные часы пробили половину восьмого, и она вздрогнула от их звенящего боя, мгновенно вываливаясь из омута тревожных мыслей. Быстро натянув чёрное платье с высоким воротом, Эл бросила взгляд в зеркало, и выбежала на улицу, дробно постукивая каблуками туфель.
На ее удачу, одно из такси, стоявших возле отеля, было свободно, и водитель, с ухмылкой взглянув на взволнованную фрау, согласился отвезти ее по нужному адресу, выставив при этом двойную цену.
...Элис вбежала в ресторан и остановилась, чтобы перевести дыхание. Осмотрев беглым, острым взглядом посетителей, она заметила Стива за угловым столиком, и почти побежала к нему.
— Стив?
Стивен Эшби вздрогнул и резко повернулся, едва не ударив ее рукой. Эл удивленно посмотрела на брата, но промолчала.
— С тобой все хорошо? — спросила она, усаживаясь на стул.
— Более чем! — брат посмотрел на нее и рассмеялся. — Боже мой, да ты хорошенькая! Стив вплотную приблизил свое лицо к лицу сестры.
— Прости, ошибся! Ты красивая, сестра, очень!
— Спасибо… — с сомнением протянула Эл, глядя на него. — Что это?
Она поднесла салфетку к лицу Стива и смахнула остатки белого порошка с его верхней губы.
— Ему понравится, ему понравится!... Кстати, как ты? А наши акции? Давно здесь, в Германии, в Нюрнберге? Красиво здесь, правда?
Стив сыпал вопросами, поправляя то волосы, то ворот черной, наглухо застегнутой у горла рубашки. Его светло-карие глаза светились неестественным блеском. Ловко подхватив столовый нож, он поднес его к своей руке, и медленно провел по коже острым лезвием.
Выступившая кровь вызвала у него восторг, и он посмотрел на Элис.
— Правда красиво?
При виде раны Эл застыла на месте, не зная, что ей делать, и медленно выпрямилась, украдкой оглядывая зал.
— Стив, что происходит? Тебе нужна помощь?
Девушка положила руку ему на плечо, и вскрикнула от резкой боли, когда он с силой сжал ее выше локтя.
— Да, помощь нужна, Элисон! Нужна!.. Стой!
Стивен безумно посмотрел на нее.
— Ты же здесь не Элисон, правда? Ты… кто ты? А-а-а… как тебя назвал Херманн-Герман?.. Как?
Боль в руке становилась все сильнее, — Стив выворачивал ее, но выглядел так, как будто ничего не происходит. Элис, — как можно спокойнее, стараясь не привлекать ненужного внимания, — прошептала:
— Не з-здесь… Стив, мне больно!
— Точно, да! Да, ты права!
Стивен резко оттолкнул Элис, поднялся со стула, и пошел вперед, не оглядываясь на сестру. Казалось, Эшби и вовсе про нее забыл, но стоило им пересечь холл отеля и выйти через заднюю дверь в темный, пустой переулок, как он сказал:
— Прости, Лиса, прости! Сам не знаю, что на меня нашло! Я так долго тебя не видел, столько произошло…
— Что с тобой?
Элис старалась говорить спокойно, но никак не могла унять дрожь. Во всем происходящем было что-то скверное, но она никак не могла понять, что именно.
— Мне нужны деньги, Элисон! — Эшби с отчаяньем посмотрел на сестру и вцепился руками в свои волосы. — Много, много денег!
— Всего лишь, Стив? — облегченно выдохнула Элис, подтверждая улыбкой, что это ерунда.
— Много денег! Иначе…
Внутренний голос умолял Элис не подходить к брату, но она все-таки прошла несколько шагов, и осторожно обняла его.
— Я дам тебе деньги, только объясни, что случилось?
Вместо ответа Стив опустил глаза, рассматривая бледное лицо сестры, и поцеловал ее в губы. Сбитая с толку, она не сразу смогла оттолкнуть его от себя, но когда это получилось, Элис размахнулась, оставляя на щеке Эшби тяжелую, звонкую пощечину.
Он рассмеялся и, схватив ее, крепко обнял.
— О да… ты ему понравишься! Освальд любит темперамент, Элисон. Его сексуальные пристрастия несколько специфичны, но…
Он развернул ее спиной к себе, зажимая голову Элис локтем. Из ее горла вылетели сдавленные хрипы. Обезумевшие зеленые глаза Эл дико осматривались по сторонам в поисках помощи.
—…Это ничего, ты привыкнешь. Он даже трахает своих сестер, Элисон! Потому что все можно! Но… — Стив резко перешел на шепот, — Британия — прежде всего![ Лозунг британского союза фашистов.] Не надейся, что ради тебя он забудет самое главное, — свой долг!
— Ты… ты… не мой б-ра-а-а..т! — голос Эл, сбившись на хрип, был едва слышен.
— А давай спросим у Эдварда Милна?
Все также крепко удерживая Элис, Стив достал пистолет, взвел курок, приставил его к виску сёстры и сказал в темноту переулка:
— Эдвард-Эдвард, вы-хо-ди! Я вижу тебя, мой лучший друг! Довольно прятаться, пора нам встретиться!
Послышался неясный шорох, и в круг мутного уличного света выступил Эдвард. Он шел очень медленно, едва слышно, сжав «Вальтер» в правой руке. Прищурив глаза, Милн попытался сосредоточиться на фигуре Стива, но не удержался и посмотрел на Элис, встречаясь взглядом с огромными зелеными глазами, неотрывно следящими за ним.
— Браво, Харри Кельнер! Пришел снова спасать свою Агну?
Стив затрясся от смеха, безумно глядя на него.
— Дружище, ты видел? Я ее поцеловал! Кто бы мог подумать, что моя сестра станет такой красоткой, правда? Помнишь ее веснушки? Все лицо было в них, просто…
Эшби издал отвратительный горловой звук, и сплюнул на землю.
В секундной тишине стало слышно, как плачет Элис.
— Нет-нет-нет, не плачь, сестренка! Ну, что такое?
Стив посмотрел на Элис, поправляя ее выбившиеся из прически волосы.
— Ты правда думала, я ничего не знаю? Думала, «Стив пропал!» и — все? Нет, я жив, я ждал подходящего момента, и мне нужны твои деньги.
— Я о-о-о-от…
— Конечно отдашь! Только сначала я заберу тебя с собой, чтобы ты переписала свою долю папашиных акций на меня. Это много денег, Эл, очень много! Тебе они ни к чему, а нам они очень нужны. Не можем же мы вечно просить деньги у Муссолини! Да и надоело ездить каждый год в Италию.
— Стив, — позвал Эдвард, — отпусти Элис.
— А «что мне за это будет», друг? Помнишь такую детскую игру?
Эдвард кивнул.
— Деньги.
— Хорошо, договорились!
Ни Элис, ни Эдвард не поверили в это, но Стив действительно ее отпустил, толкнув вперед. Эл упала на колени перед Эдвардом. Милн посмотрел на нее, перевел взгляд на Стива, застывшего в нелепой позе, — со взведенным пистолетом в руке. Эдвард наклонился к Эл, помогая ей подняться, и крепко удерживая под руку. Она быстро взглянула на него, растягивая разбитые губы в подобии улыбки, от которой Милну стало не по себе: кровь смешалась со слюной, и когда Эл попыталась улыбнуться, на зубах показалась розовая пена. Ее сильно повело в сторону, и она удержалась на ногах только благодаря Эдварду.
— Про… прости…
Он хотел что-то ответить, но его прервал крик Стива.
— А знаете, я ошибся! — Стивен посмотрел на них. — Элисон, иди сюда, я рано тебя отпустил!
Эшби уставился на сестру, уверенный, что она вернется к нему.
— Иди к черту, Стив! Я никуда с тобой не пойду!
— Может быть, Лиса, но… мне нужны деньги. Вернись сюда!
Голос Стива зазвучал истерично, он топнул ногой. — Сюда!
— Стив, успокойся, — повысив голос, сказал Эдвард.
Эшби засмеялся, наклоняясь вперед.
— Вы очень смешные, разведчики «Ми-6»! Так уверены в себе, так… но что я вам скажу? А, вот! Мне, — пистолет в руках Стива начал переходить с Элис на Эдварда, и обратно, — нужны деньги! Лиса! Ты идешь со мной, иначе…
Дуло зауэра, сжатого дрожащей рукой Стивена, сдвинулось, прицеливаясь к груди Милна.
— А ты, «Кельнер», положи пистолет на землю.
Милн сделал так, как сказал Эшби. Вальтер стукнулся о брусчатку, и Эдвард выпрямился, глядя на Стива, и пытаясь увести Эл за свою спину.
— Не надо!
Элис дернулась вперед, и вырвавшись из рук Эдварда, шагнула к брату.
— Умница!
Эшби улыбнулся и положил руку, в которой был зажат пистолет, на плечи сестры. Они прошли пару шагов, когда Эл оглянулась на Эдварда. Его пистолет по-прежнему лежал на земле, — зауер в любой момент мог ранить Элис, и Милн с диким отчаянием смотрел на нее. Он наклонился, чтобы поднять вальтер, но Эшби, проследивший за взглядом Эл, усмехнулся. В его глазах зажглась какая-то мысль.
— А знаешь… — зашептал он, поворачиваясь лицом к Эдварду, и поворачивая вслед за собой Эл, — … я все-таки убью его, он перестал мне нравиться.
Стив убрал руку с плеч Элис, и снова навел пистолет на Милна. Времени не осталось. Даже самое короткое слово не остановит пулю. И значит, время терять нельзя. Элис толкнула руку Стива и побежала к Эдварду. Схватив Милна за запястье, она развернулась и закрыла его собой. Пуля зауэра прошила воздух в миллиметре от предплечья Милна, оцарапывая щеку Эл. На втором выстреле пистолет дал осечку, но Элис хватило пары секунд замешательства Стива для того, чтобы поднять вальтер быстрее Эдварда, и выстрелить в брата. Пуля вошла в грудь Эшби. Он покачался, неуверенно переступил ногами, и медленно осел на землю. Из правого угла рта густой строчкой медленно потекла кровь. Эдвард и Элис ошеломленно смотрели друг на друга. За исключением разбитых губ Эл, и царапины на ее щеке, с ними все было в порядке. А вот Стивену Эшби повезло меньше: он умирал, повалившись на холодную землю «главного немецкого города».
Эдвард присел рядом с ним, пытаясь проверить пульс. А Элис, прижав ладони к искажённому лицу, опустилась на колени рядом с братом. Ее плечи затряслись от беззвучных рыданий. Собрав последние силы, Стив посмотрел на нее, и прохрипел:
— Мы по… бедим…
После этих слов он сделал ещё один вдох, и умер, остановив взгляд замерших, только что живых глаз, на чёрном небе, раскинутым надо всем миром.
Эл упала на его грудь и заплакала. Боль, скрутив ее, вырвала из груди страшный, отчаянный вой.
— Пойдем…
Эдвард обнял ее за плечи.
— Нет, нельзя… я… по-хо… по-хо...
Белая голова отрицательно закачалась, похожая на метроном.
— Мы не можем его похоронить, Эл. Нужно оставить его здесь.
Она посмотрела в сторону Милна. От слез его фигура снова, — как тогда, в первую их ночь после приезда в Берлин, — стала ужасно размытой.
— Он замерзнет… у-у-уже холодно ночью…
Эл больше не могла говорить, но продолжала сидеть рядом с братом, осматривая пулевое ранение, а потом, — если поднять взгляд — лицо. Замершее, мертвое, уже холодное. Она наклонилась ближе, чтобы поцеловать Стивена в щеку, но ее губы сжались, затряслись, и девушка смогла только провести рукой по его темным волосам и отвороту пальто, которым она любовалась сегодня утром. Судорога снова скрутила Эл, превращая ее тело в комок. Она сжалась на земле, рядом со Стивом, и закрыла лицо руками. Больше ждать было нельзя, их могли увидеть в любой момент. Эдвард поднял свой вальтер с земли, убрал пистолет в кобуру, и, снова наклонившись над Эл, взял ее на руки. Она уже не сопротивлялась, и не останавливала его. Руки Элис, которые Эдвард завел за свою шею, прежде чем оторвать ее от холодной земли, безвольно скользнули вниз, ссыпаясь, подобно сломанным веткам, между ними. Она тяжело дышала, раскрыв разбитые губы, а частые, недолгие судороги по-прежнему скручивали ее тело.
…Милн шел по аллее Нюрнберга, в конце которой был припаркован «Мерседес», когда Эл, сжав ткань его рубашки в комок, с силой потянула вниз, приближая его голову к своей. Он оглянулся по сторонам, но этим поздним вечером в парке уже никого не было. Тогда, подойдя к скамье, Эдвард аккуратно сел, бережно удерживая Элис на руках.
Она скорее почувствовала, нежели поняла, что он остановился. Сжавшись, Элис судорожно обняла Эдварда, спрятав руки под его пиджак. Тепло его кожи, согревающее ее через тонкую ткань рубашки, действовало успокаивающе. На несколько минут Эл затихла, прижавшись ухом к груди Эдварда. Его сердце, которое сначала стучало быстро и дробно, замедлилось. Пульс стал размереннее и тише. Элис долго не размыкала рук, а Эдвард не смел пошевелиться, — только обнимал ее за спину и плечи, слушая, как медленно, очень медленно стихают обороты судорог в ее теле. Без них прошло целых пять минут, когда Элис резко села, посмотрела перед собой во тьму, и монотонно сказала:
— Я убила своего брата.
Она перевела взгляд на Милна, и долго смотрела в его заостренное от волнений, лицо. Затем нежно провела пальцами по щеке. Судорожный глубокий выдох вырвался из его груди. Элис серьезно посмотрела на Эдварда и спросила:
— Пойдем?
Милн неуверенно кивнул, внимательно наблюдая за ней.
…Забрав из отеля Нюрнберга те немногие вещи, которые у них были, Харри и Агна выехали в Берлин. Самые темные ночные часы они провели в дороге. Никто из них не спал, никто не сказал ни слова. На рассвете они остановились у своего дома в Груневальд, и долго сидели в машине, в лучах восходящего солнца. Оно щедро посыпало золотом все, к чему прикасалось. Оно видело все, и все знало. Мудрое и наивное, вечное и золотое, оно освещало мир с истока времен. Оно светило и сейчас, — далеким и длинным лучом, — двум дальним, маленьким людям, медленно бредущим к дому с синей крышей. Одному из них предстояло собраться заново, а другому — помочь собраться тому, кого он любил. Сердце одного было сломано, сердце другого — уже однажды собрано заново. И если первый из них не молился ни о чем, то второй впервые за очень долгое время, прошедшее с того дня, когда он просил невидимого бога помочь Элисон Эшби, недавно ставшей сиротой, обратился с горячей молитвой к небу. Он просил о помощи, и о том, чтобы у них хватило сил.
1) Вы забудете меня в ближайшее время,
Мое сердце перевернулось, оставив вас!
Я могу вам сказать с улыбкой,
Что вы взяли мою душу… Строчки из песни «Париж, я люблю тебя!» в исполнении Мориса Шевалье.
...Просвет фонаря, тупик. Я это плохо помню. Хорошо — тебя, твою кожу, кольцо твоих дрожащих, соскальзывающих, рук. Я целую твои горячие губы. Разбитые в кровь, они примешивают к нашему судорожному, полному безумия поцелую ноту безвкусия и стали. Рана на твоей разбитой губе пульсирует жаром, и я замыкаю ее в круг своими. Жажда спасти и спастись становится сильнее, я сжимаю тебя в руках так сильно, как только могу. Твоя близость пьянит, бьется каплей крови на границе сознания.
Я помню, что ты — хрупкая, тебя нужно беречь. Ты — нежная, маленькая, тонкая. Трепетная и теплая, близкая, как никто, никогда и нигде до тебя. Не был и никогда не будет, — я знаю, что говорю. Я не был фаталистом, но сейчас становлюсь им. Я влюблен в тебя.
Я знаю, что мы созданы.
Я люблю тебя до последней границы воздуха, заполняющего легкие.
Я могу без тебя дышать.
Я могу без тебя жить и не умирать.
Но без твоего присутствия цвет пропадает, проваливается в черные ямы забвения. И я — бесцветный, хотя и живой. Мир по-прежнему есть, — это глупости, если скажут, что без любви умирают. Нет, это не так. Просто без нее живут на половину сердца, на двадцать из ста, для сохранения фона.
Твоя горячность пьянит, сердце падает, и остается лежать там, у твоих ног. Горячее, раненое, замершее от любви, оно хочет слушать тебя, распознавать в твоих поцелуях нежность, какой никогда не было, которая нашлась только в тебе и — с тобой. Ты целуешь меня, и сердце так полно болью, горечью и настоящей любовью, что, еще мгновение, и кажется, — оно не выдержит, разлетится в разные части света. Если так станет, то я не буду его собирать, — все закончится сразу, от твоего присутствия, жара и поцелуя.
…Потом, отрезвев, успокоившись, оторвавшись от тебя, я скажу, что это было наваждение. Новая боль после смерти Стива объединяет нас, я хочу с тобой говорить, ведь я глупо убежден, что тебе нужно высказать боль, но ты не слышишь меня.
Не слушай.
Никогда меня, — такого — не слушай. Я не прав. Есть только одна правда. На границе времени и жизни она светится истиной, и я не могу оторваться от тебя.
Мне все в тебе нравится: прерывистое дыхание, наполненное и жаром, и холодом, твои горячие от смущения щеки. Если бы отсвет желтых фонарей был ярче, я бы увидел на них яркие красные пятна. Но темнота ланцетовидной арки скрадывает твою робость, топит волнение в поцелуе, и ты целуешь меня всей своей страстью.
Ты меня любишь.
Первая, из всех, — вот так: скупыми словами, резкими взглядами, чистой, высокой строгостью. Но когда мы вместе, беспредельно вместе, и пальцы переплетаются, ты открываешь мне свое сердце, и тогда я без слов понимаю, как ты меня любишь: так, как никто, никогда и нигде.
Твоя любовь дает мне жажду жизни, впервые за все время я не хочу, чтобы мир сжимался до нас двоих, — от полноты чувств, разрывающих меня изнутри, я хочу вечно носить тебя на руках. Хочу обнять весь мир, поцеловать всю его красоту, до основания, горизонта, экватора: все услышать, увидеть, понять, — до последней ноты в аромате твоей теплой кожи, особенно нежной под завитками рыжих волос. Я сумасшедший, совершенно сумасшедший тобой, — пульс бьется, а потом пропадает, — он не успевает звучать так быстро, как бежит кровь под моей кожей. Я хочу любить тебя вечно. Как весь этот великий мир, открытый мне с тобою. Отстраняясь от меня на мгновение, ты злишься, что между нашими телами есть границы, и крепко обняв меня, говоришь, что любишь.
28/IX/34
…Кто знает, вспомнишь ли ты эти дни, проведенные в Пирне, — маленьком городке на берегу Эльбы, в Саксонии, куда мы уехали на несколько дней, сразу после смерти Стива? Первые семь дней после его смерти. Мы могли бы уехать с тобой даже в Лондон, — нас выпускали. Но когда я сказал тебе об этом, ты промолчала. И только потом, проснувшись ночью от тяжелого сна, и резко поднявшись в кровати, ты сказала, что дома у нас больше нет, а значит, мы можем ехать «куда угодно». И мы поехали в Пирну. Два часа в машине, и вот мы здесь, — в крохотном, уютном городке, чья старинная красота заляпана свастикой, — как, верно, и во всяком другом городе Германии.
И сколько бы времени я ни провел в этой стране, меня до сих пор не перестает поражать молниеносная, «преображающая» черная сила нацизма: она уродует старинную красоту городов, лица людей, вектор морали… Если когда-нибудь это кончится, сколько времени понадобится нам всем на восстановление? И сможем ли мы вновь обрести человеческий облик и светлые, открытые лица, не таящие в себе жажды доноса и страха?..
29/IX/34
…Мы останавливаемся на въезде. Раннее, морозное утро. Ты растираешь ладони, и не можешь согреться. Я беру твои руки в свои, и постепенно, медленно, кончики твоих пальцев становятся теплыми. Раньше ты наверняка улыбнулась бы, но не теперь. Все твои улыбки, какими я их помню, остались там, — до того дня, когда ты выстрелила в брата. Ты спасла меня. Я благодарю тебя за это, и понимаю, как это звучит для тебя, но ты отбрасываешь мои слова в сторону пассом руки, — как невидимый мяч.
Я очень надеюсь, что однажды ты снова сможешь улыбнуться. Но сейчас, в эти первые, особенно острые дни, ты все больше молчишь и тянешься ко мне в поисках опоры. И по тому, как судорожно и крепко ты обнимаешь меня, я чувствую, узнаю пустоту.
Она хочет поглотить тебя полностью, без остатка. Беззвучные слезы снова и снова катятся по твоим щекам. Твои глаза, твоя душа, вся ты — обнажены перед миром. Тебя ранит все, а твоя беззащитность ранит меня. Мое сердце сжимается комом, и я не знаю, как тебе помочь. В эти дни ты особенно остро нуждаешься в молчаливом присутствии. И мы долго, очень долго обнимаем друг друга. Ты судорожно сжимаешь пальцы на вороте моей рубашки, а я стараюсь быть осторожнее: глажу тебя по волосам и спине, мягко опускаю руку на дрожащие, острые лопатки. Ты расслабляешься, резко, со стоном, выталкиваешь воздух из легких, и снова делаешь короткий, рваный вдох, в котором очень много боли.
…Дни идут друг за другом: солнечные, холодные, ясные на восходе. Мы медленно бродим по городу, — от одного портала к другому. Ты отказываешься присесть на сидение в нише, и долго гладишь светло-серый камень портала, а окна в пузатом доме, который неправильным углом вывалился на улицу, вызывают у тебя слабую улыбку: они похожи на маленькие иллюминаторы нездешних подводных лодок, и, составленные из небольших стеклянных донышек зелёного цвета, так и просят прохожих остановиться, и посмотреть на них. Ты долго стоишь у такого окна, зачарованно проводя пальцами по переборам темно-зеленых сфер. «Дьявольский» эркер нравится тебе больше «ангельского». Когда мы приближаемся к нему, ты прежде всего читаешь фразу, оставленную богатым хозяином дома всякому, кто снова, как и тысячи людей до него, захочет спросить: почему здесь — лицо Мефистофеля? «Потому что я так хотел» — написал богач золотыми буквами на балконе эркера, и этим вызвал у тебя смех. Ты еще долго вспоминаешь этот случай, что-то обдумывая про себя. Я иду с тобой рядом. У потери есть своя деликатность, и я не смею ее нарушить.
30/IX/34
...На левой половине твоего лица, на верхней грани скулы, остался след от пули. Он не исчезнет, и теперь будет всегда с тобой. Ты долго рассматриваешь свое худое лицо в зеркале, снова и снова прикасаешься к шраму. В эти минуты на твоем лице появляется страшная ухмылка: она собирается в уголках, постепенно проявляясь на губах все больше и больше. Именно в такие моменты, еще раз бросив на свое отражение в зеркале жесткий взгляд, ты поворачиваешься ко мне и говоришь, что ты — «такая же гнилая, как Стив»:
— Он меня пометил.
Ты отрывисто смеешься, задаешь мне все те же вопросы о Стиве: каким он был, когда мы дружили? К моменту выпуска из Итона? Почему я так мало тебе о нем говорю? Признаюсь, я отвечаю тебе нехотя, — из страха ранить тебя еще больше. Но ты не слушаешь меня, и снова бродишь по комнатам нашего номера. Я предлагаю тебе прогуляться, — кажется, это помогает тебе больше всего, и ты поворачиваешься так резко, что едва не падаешь, но, удержавшись на ногах, громко смеешься, рывком расстегиваешь ставшее тебе большим платье, и сбрасываешь его на пол. Оно темной лужей падает к ногам. Ты не переступаешь за ее границы, и долго, неподвижно, стоишь. По твоей коже пробегает озноб, но стоит мне подойти к тебе, как ты отталкиваешь меня и хохочешь.
Я все равно обнимаю тебя, — всю, как можно крепче и осторожнее. За эти дни ты стала еще тоньше и прозрачнее, Эл. Твоя рана очень сильно болит, и потому ты страшно, глухо плачешь, спрятав лицо у меня на груди. Я обнимаю тебя, словно собираю в целое, — то, какой ты никогда больше не будешь, потому что такая боль не проходит, — она сжигает часть сердца, навсегда оседая пеплом в душе.
* * *
Ханна уже давно наблюдала за Агной. Но девушка по-прежнему не шевелилась. Прохладный ветер причудливо играл тканью ее платья, кольцами коротких, кудрявых волос. Первые опавшие листья кружились у ее ног с тихим, неясным шорохом. Ничего. Ни одного движения. Только взгляд, все так же устремленный в землю, и руки, расставленные в стороны: ладони неудобно упираются в перекладины скамейки с такой силой, что костяшки пальцев побелели, а под светлой кожей Агны четкими синими линиями проступили вены. Ланг хотела уйти, и уже сделала шаг назад, когда девушка, за которой она наблюдала, согнулась пополам, словно от судороги, и упала на землю.
Не понимая, зачем она это делает, Ланг подбежала к ней и схватила за плечи. Агна оказалась довольно легкой. Во всяком случае, решимость придала Ханне еще больше сил, и она без труда посадила девушку обратно, на скамейку. Руки Агны снова судорожно сцепились на деревянных перекладинах скамьи, из ее горла вырвался стон. Не разделенный на слова, он был наполнен такой болью, что Ханна в страхе отшатнулась от фрау Кельнер. Ланг хотела остановить ее, попробовать заговорить с ней, но вот губы Агны, сведенные судорогой, задрожали, и из глаз потекли слезы.
Много, очень много слез. Они капали и капали, падали на зеленую траву тихого двора с нищими деревянными домиками, где, как уже знала Ханна, Агна часто встречалась с одним и тем же мальчиком лет шести-семи.
Тонкий и тощий, отчего его голова казалась еще больше, он начинал светиться каким-то внутренним светом, когда видел Агну. Словно при виде рыжей девушки внутри него загоралась лампочка, и стоило ему подбежать к Агне и обнять ее, как искусственный свет лампочки раскалялся до янтарного сияния бесконечного солнца, которое невозможно было спрятать или утаить за любой, даже самой огромной, тучей.
Ланг несколько раз была незримым свидетелем этих удивительных встреч, и всякий раз, наблюдая за Агной и мальчиком, внутри нее, в глубоко спрятанных, почти захороненных остатках ее души, что-то переворачивалось и даже против ее воли поднималось наверх, отражаясь в голубых глазах Ханны слабым, потаенным мерцанием света.
Так позже, в годы войны, не желая умирать и сопротивляясь, казалось бы, повсеместно установленному и принятому насилию, люди станут укрывать свой свет. Прятать за плотными, сцепленными по краям шторами, светомаскировочной тканью. И были те, кто подчинялся только внешне, принимая условия страшной, навязанной игры. Темнота маскировки укрывала их от тьмы, помогая сберечь свет.
Ханна неловко поерзала на скамейке, и, вытащив из сумочки белый, выглаженный платок, обшитый по краям узкой полоской шелкового кружева, молча протянула его Агне Кельнер, снова согнувшейся над землей так низко, что края ее острых лопаток можно было без труда различить даже под плотной тканью темно-коричневого пиджака. Агна не смотрела на блондинку, и рука с вытянутым в сторону платком, чьи белоснежные, закругленные вышивкой уголки, по своей прихоти трепал ветер, долго без движения висела в воздухе, похожая на выброшенный белый флаг, — как просьба о перемирии.
— Агна… — хриплый, нерешительный голос Ланг нарушил долгую, оглушительную почти до звона, тишину.
Девушка вздрогнула, но не отозвалась, продолжая смотреть в землю. В воздухе мелькнуло ребро ладони. Агна неуклюже, растягивая кожу на щеке, коснулась своего лица, смахивая снова набежавшие слезы в сторону. Тяжелый, больной взгляд темно-зеленых глаз, свет которых от слез стал еще более ярким и невыносимым, — и теперь жег как чистый огонь, — сдвинулся с незримой точки, и после незаметного, — таким медленным он был, — поворота головы, обратился к красивому лицу Ханны. Посмотрев в эти глаза, от боли лишенные всякой защиты, Ланг снова вздрогнула, чувствуя, как внутри оживает давно забытая, забитая горечь, и ее собственная, спрятанная боль. По-прежнему протянутая к Агне рука с платком дрогнула на весу, но Агна не обратила на нее никакого внимания. Ханна осторожно опустила платок на колени девушки, и быстро, будто испугавшись быть застигнутой за сочувствием, теперь так похожим на преступление против рейха, отпрянула назад.
Агна жутко улыбнулась.
— Я могу помочь? — все так же напряженно спросила Ханна, чувствуя, как от вида Агны ее кожа покрывается мурашками.
Фрау Кельнер хотела что-то сказать, даже сложила губы для ответа, но говорить не получалось, — стоило начать, или хотя бы попробовать произнести слова, как лицо и голос ломались, сведенные болью.
Но Агна нашла выход, и короткие кудряшки затанцевали в воздухе, отвечая Ханне вместо не сумевшего собраться в звук, голоса.
— С Харри все в порядке?
Новая судорожная улыбка, искривленная еще больше предыдущих, показалась на лице Агны.
— Только попробуй кому-нибудь сказать, и я…
Фрау Кельнер не договорила, неловко поднялась с парковой скамьи и медленно пошла вперед.
— Да, конечно… — беззвучно протянула Ханна, провожая соперницу беспокойным взглядом.
* * *
Железные ворота лагеря Дахау лязгнули за спиной Кельнера. Отойдя подальше от главного входа, он закрыл глаза, и тяжело втянул воздух через нос, до предела легких. В памяти, против его воли, возникли слова: «Одного знака, слова, крестика в документах гестапо было достаточно для того, чтобы отправить молодого, сильного парня в камеру низкого давления, где уже через несколько часов он будет выплевывать кусочки своих легких, или полную жизни юную женщину к медику, который стерилизует ее при помощи сильной дозы смертельно опасных лучей»[ Цитата из книги «История гестапо» Жака Деларю.]
...Стало больно, но Харри все держал и держал воздух в груди, медленно и неслышно выдыхая его маленькими клубками пара — в морозное осеннее утро. Ясное и чистое, сверкающее пением утренних невидимых птиц, должно быть, рассевшихся на ветках высоких деревьев, небо стелилось над головой пологом синевы и белыми облаками, такими чистыми, словно они были сотканы не для этой земли, но за невозможностью плыть по небу иным путем, молчаливо следовали единственно возможной дорогой.
Кто знает, что они думали, проплывая над Мюнхеном, Дахау, и — лагерем в нем?
Видели они, как он расползся внизу кишащей кучей, призванной «исправить неверных»? Это был всего лишь второй год из целых двенадцати лет нацизма, и из лагеря в Дахау еще выходили. Но уже — реже. Потому что он рос и распухал, питаясь кровью узников.
Вывернутые руки, виселицы в безмолвных дворах, стены домов, измазанные кровью, которую не всегда успевали, — да и не всегда хотели, — спрятать за новым слоем бесконечной побелки… А он, Кельнер? Снова прибыл сюда с «инспекцией». Позже это занятие станет одним из излюбленных у самого Гиллера. А где-то в сороковых, в разгаре и разгуле смерти, на краю очередного глубокого окопа, вырытого заранее для будущих трупов, — они сейчас еще живые, и потому стоят на краю огромной ямы, — он тоже будет там. Но, конечно, не рядом с ними, а напротив них. Та «инспекция» пройдет неудачно: Гиллер вдруг увидит, своими собственными стеклянными глазками, спрятанными за линзами круглых очков, как расстреливают девочек и женщин, и утратит свое хладнокровие. Даже, говорят, упадет в обморок.
…Выдохнув последний клубок пара в холодный воздух, Харри прикуривает сигарету и сильно затягивается, снова — до предела. Привычка, доведенная до автоматизма. Кельнер оглядывается на ворота лагеря, и его голубые глаза темнеют. Может быть, посещение лагерей для него тоже стало привычкой?.. Ведь служит же он в «Фарбен». Причем, как сказали бы иные, — исправно: заполняет бумаги, ходит в лаборатории, читает отчеты, приходит на заседания, перед тем усердно вскинув руку под нужным углом… чем не славный нацист рейха?
Иногда, — это с ним случалось после посещения лагерей в составе «инспекции», — тьма разливалась внутри с новой силой, поглощая и пожирая свет, но Харри всегда умел выплывать из этих темных вод. Правда, теперь подниматься на поверхность становилось все сложнее. Это просто, когда ты видишь маяк. У Кельнера был свой, — с прекрасными глазами густого, зеленого цвета.
В начале всей этой игры в разведку здесь, на германской земле, маяк светил ему особенно ярко. Дерзкий, он горел, преодолевая все преграды. Но сейчас маяк часто гас. Огонь его дрожал, трепетал от ветра, и Кельнер очень боялся, что — таял. По-настоящему. Необратимо. Поэтому порой Харри поддавался хаосу, и даже панике. В такие секунды его руки переставали зажимать длинную сигарету, и она могла упасть вниз. Тогда он ругался, придавливал ее носком дорогого кожаного ботинка к гравию или к булыжной мостовой, и доставал новую. Красные сигаретные пачки сменились белыми с золотыми буквами — Juno Josetti. Харри Кельнер был образцовым служащим фармацевтической отрасли, образцовым немцем 1934 года. Вся его внешность — абсолютное воплощение требований нацистов, — высокий рост, великолепное сложение, светлые волосы и голубые глаза. На него многие, даже мужчины, смотрели с завистью и восхищением. Кто знает, о чем они думали, долго рассматривая его красивое лицо? Может быть, мечтали срезать его с Кельнера и надеть на себя, чтобы уцелеть в накатывающем оглушительным валом безумии нацизма, какого мир не знал до сих пор?
Харри негромко выругался, тряхнул головой, и белые волосы рассыпались, падая на лоб. «Надо лучше следить за собой, — подумал он, — лучше, Кельнер, лучше».
Харри поднял голову к небу, снова закрывая усталые, покрасневшие глаза.Теперь ему было не до сна. Ночами он, снова превращаясь в Эдварда, баюкал на руках свою Эл. Она часто ходила во сне, дрожала, смеялась и плакала. Но когда он обнимал ее, закрывая сильными руками, она постепенно успокаивалась, и затихала. А он не спал. Боялся, что его Элис сойдет с ума. И потому он должен был стеречь и укрощать тьму вокруг нее. Он делал все, что мог, но…
Ветка звонко хрустнула под близким шагом. Харри бросил незажженную сигарету в чахлую листву, машинально втаптывая ее в землю, хотя это было лишним. Тонкая белая трубочка, так и не спаленная искрой огня, закатилась под бордовый лист, и, немного покачавшись в стороны, осталась лежать под ним. Какая-то птица, тяжело поднявшись в небо, оставила за собой подрагивающую ветку, и с протяжным воем неуклюже полетела прочь. Кельнер вытянул руки вдоль тела, чуть сжав правую в локте, плавно шагнул вперед, и остановился: шелест опавших листьев отлично выдавал его. Осмотревшись, он заметил слева полукружье чахлой, но ещё зеленой травы, быстро прошел по шуршащим хрупким листьям, и выбрался на остров блеклой полосы.
Сделав шаг вперед, Харри убедился, что она отлично скрадывает его шаги, и быстро, плавно, — словно в одно мгновение он стал канатоходцем, — пошел к деревьям, с которых начинался лес вокруг лагеря. Полуголые стволы осин, тщательно обнесенные холодным ветром, тихо впустили его в свой мир. Снова движение. Осторожное, неясное, тихое. По ту сторону либо бояться, либо следят. Согнув руку в локте еще больше, Кельнер делает пару небольших шагов.
Тишина.
И только ощущение, — тонкое и замедленное во времени, как стальная проволока, натянутая от гранаты... Харри делает резкий выпад вправо: нажав на скрытую рукавом пальто кнопку, он с облегчением чувствует, как в его руку, гладкая и холодная, словно ящерица, спавшая в тени, проскальзывает сталь пистолета. Длинными пальцами он уверенно сжимает ребристую рукоять, удлиненную специальной вставкой снизу, — для мизинца и лучшей осадки в руке во время выстрела, и только потом смотрит прямо перед собой.
Бедное пространство осеннего леса, сморенного поздней осенью, проясняется. От узких и сухих, дрожащих от малейшего движения веток, отделяется фигура. Она приближается к нему, испуганно смотрит в глаза, и что-то беззвучно шепчет, прижав руку к груди.
— Ты!
Он тоже говорит шепотом, — сухо и отрывисто, чувствуя, как пульс густыми волнами накатывает изнутри.
Ложная тревога.
Кельнер снова ставит пистолет на предохранитель, и по зигзагам металлической ленты, которая тянется от его правой руки, убирает оружие в рукав. Только после этого он снова поднимает глаза и удивленно смотрит на женщину.
— Ты… мог… убить меня?
Кажется, впервые за все время, что он ее знает, этот голос звучит так глухо и испуганно.
— Не говори глупостей.
Она едва улыбается и тихо произносит:
— Даже после того, что я сделала?
Ханна наблюдает за тем, как Кельнер поднимает воротник черного пальто, — он доходит до его лица, скрадывая резкие линии, — и идет прочь.
— Подожди!
Она хочет кричать, но не может, — недавний страх выплевывает из ее груди только свистящий хрип. Кельнер не слышит или не слушает ее, — только упрямо и молча шагает по той же тропе, которая привела его сюда. У кромки леса Ханна пытается поймать Харри за рукав, но его шаги слишком широкие и быстрые, чтобы она смогла это сделать. Девушка бежит за ним, сбившись в дыхании и движениях, и только у черной машины она догоняет его, судорожно вытягивает руку, преграждает путь. Кельнер мог бы легко ее обойти, но вместо этого он только смотрит на Ханну, резко и серьезно.
— Подожди… Я должна сказать!
Он ухмыляется, ждет и говорит медленно, очень тихо:
— Что-то еще, Ханна Ланг?
Между светлыми бровями Ханны пролегает глубокая кривая линия: она не понимает сказанного, и, нетерпеливо покачав головой, — отбрасывая его слова в сторону как разноцветные бусины, упавшие с разорванной нити, — хрипло, задохнувшись, произносит:
— Агна…
Имя действует на Кельнера как удар тока. Он мгновенно выпрямляется, еще больше расправляя плечи. Не приближаясь к Ланг, он, тем не менее, словно нависает над ней, и когда она, откинув назад светлые волосы, заглядывает в его лицо, то видит в нем только замкнутость и ярость. Голубые глаза Кельнера меняют цвет, снова темнеют. Воспаленные, с лопнувшими капиллярами, похожими на хвосты проплывающих у морских берегов медуз, его глаза становятся темно-синими. Грань между черными зрачками и радужкой больше не различить, и взгляд Харри горит такой злостью, что заглянув в знакомое лицо, Ханна осекается, делает неуверенный шаг назад. Она явно хочет уйти, но что-то останавливает ее. Набрав в грудь побольше воздуха, Ланг выдает слова на одном дыхании:
— Она плакала в парке, ей нужно быть осторожной. За ней могут следить, скажи ей…
Ханна чувствует, как Харри медленно подходит к ней, — гравий приятным шорохом сопровождает его шаги. Ее голова наклонена вниз, а потому первое, что она замечает, — темно-коричневые ботинки Кельнера. Хотя нет. Запах. Его запах, смешанный с холодным ветром, дымом от сигарет и пряной осенней листвой. Втянув запах поглубже в легкие, Ланг закрывает глаза, ускользая на несколько секунд от въедливого взгляда Харри.
— Ты опять следила за ней?
Страх привычным комом сворачивается в горле Ханны, когда она поспешно говорит:
— У меня мало времени. Я ждала тебя, чтобы предупредить…
— Только попробуй еще раз подойти к Агне…
Харри намеренно обрывает фразу, — знает, что и без окончания Ханна поймет его. На этот раз должна. Потому что его терпение на исходе, и если она его не услышит, то…
Расчет оказывается верным, Ланг нервно сглатывает слюну, хватаясь за открытое вырезом пальто горло, и кивает.
— Они ищут тех, кто знает о смерти Биттриха.
Кельнер долго молчит, прежде чем ответить, проверяя взглядом светлые глаза Ханны.
— Какого Биттриха?
Отклонившись назад, он отходит от Ханны, и, выдохнув в небо линию пара, идет к машине.
— Вы под подозрением!
Крик Ланг истеричным эхо разносится по пустынному лесному кругу, ближайшее строение к которому — лагерь Дахау, где есть только смерть и страдание. Ханна вскрикивает и закрывает рот рукой. Наплевав на страх перед Кельнером и тем, что он может ей сделать, она подбегает к нему, продолжая упрямо шептать:
— Они ищут, Харри! Ищут! Поверь мне! Допрашивают всех, кто был на вечере. Будь осторожен, прошу. Скажи Агне, пусть…
Тяжелый удар по двери машины служит ответом.
— Зачем ты подошла к ней?
— Я хочу помочь, я…
— Как ты смела тогда?!
Ханна судорожно, тяжело дышит. Долгое время слышен только ее хрип. Ни единого движения. Наконец, она начинает говорить:
— Я ревновала, я злилась. Она была такая счастливая, такая красивая, совсем еще юная девочка… прости… Это зависть, она… съедает меня… Меня никогда не любили. Ты меня так не любил!
— И ты ударила.
— Что? — светлые глаза Ханны со следами растекшейся туши растерянно посмотрели на Харри.
— Решила отыграться на ней?.. Знаешь, почему тебя не любили?
Не слушая ее невнятных возражений, Кельнер перекрывает слова Ханны своим громким голосом.
— Потому что ты не умеешь любить.
Если бы не откровенная злость и пренебрежение в его горящих глазах, может быть, она сказала бы иное, но вместо этого Ханна усмехнулась:
— А ты собирался остаться чистым? Промолчать, сделать вид, что ничего не было? Ты предал ее. Это очень страшно, Хар-ри…
Отчетливо произнесенное имя того, кем он не был, и кем был только здесь. Злость прожгла Кельнера насквозь, как огненный набат, и в его груди разнесся звон:
Предал!
Предал!
Предал!
Почувствовав жар, Харри оглядывается, подносит руку к глазам, и удивленно смотрит на глубокий порез, сочащийся густой кровью. Нахмурившись, он внимательно разглядывает рану, из которой неровным углом торчит прозрачный осколок стекла, и снова — кровь. На его лице появляется удивленное выражение, похожее на досаду оттого, что порез, который появился совсем не вовремя, теперь требует внимания. Кельнер оглядывается, замечает разбитое стекло автомобиля, и медленно кивает самому себе.
— Я знаю. Я сам знаю все, что я сделал. Это...
Он говорит медленно, неторопливо вытягивая из раны стекло. Ему удается полностью вытащить осколок, не повредив и не сломав его. С шипением, сморщившись то ли от боли, то ли от вида окровавленного осколка, он швыряет его на землю, и обматывает руку белым платком. Харри долго молчит, наклонив голову вниз. Подняв на Ханну неправдоподобно яркие глаза, он хрипло шепчет:
— …Нельзя простить.
— О, боже!...— изумленный шепот срывается с ее губ.— Ты так ее любишь?!..
Ухмылка резкой линией тянется по его лицу, — вверх, в сторону, криво.
— Иногда этого мало. Прощай, Ханна. Если подойдешь к моей жене, — я за себя не отвечаю.
Разговор закончен, и Кельнер, развернувшись, обходит «Мерседес» с водительской стороны. Он уже не слышит ее, но Ханна все равно говорит:
— А я тебя любила…
Ланг смотрит на него и плачет. Когда машина трогается с места и скрывается за поворотом, она падает на колени, закрыв лицо руками.
5/X/34
…Наш последний день в Пирне, ты невероятно взволнована: увидев издалека темно-красные, залитые лучами осеннего солнца, крыши замка Зонненштайн, говоришь, что нам нужно туда. Мы быстро идем, почти бежим к нему, но чем ближе становится замок, тем больше ты замедляешь шаг. В переулке, рядом с главной церковью города, ты останавливаешься, поднимаешь голову к высокому небу, и после долгого молчания говоришь:
— Он меня накажет.
— Нет!
Я почти кричу, трясу головой, как столетний старик, и уже спокойнее добавляю:
— Если так, то меня он тоже должен был наказать.
Ты поворачиваешься, смотришь на меня так, словно не узнаешь, и падаешь в обморок.
15/X/34
…Кайла подходит к тебе, чтобы помочь снять пальто. Увидев твое лицо и взгляд, она начинает плакать. Потому что ты похожа на маленький, иссохший призрак.
Потянув не за тот конец платка, ты с силой затягиваешь его тугим узлом вокруг шеи, и начинаешь задыхаться. Я подбегаю к тебе первым, цепляясь пальцами за перекрученный узел, который ты судорожно держишь в руках, и затягиваешь все сильнее и туже...
Я вырываю из твоих пальцев концы платка, а ты… Смотришь на меня измученным взглядом, полным непередаваемой боли, и хрипишь.
Опустив руки вниз, ты наблюдаешь за тем, как я торопливо, и в начале неловко, пытаюсь развязать узел. Из-под твоих закрытых, дрожащих век, одна за одной, бегут крупные слезы. Я смотрю на тебя, кажется, очень долго. Узел, наконец, поддается, и я развязываю его, но на твоем лице — все та же глубокая отрешенность…
Кайла спрашивает, можно ли ей проводить тебя в комнату, я механически киваю, неотрывно наблюдая за тобой. И в тот момент, когда она, осторожно обняв тебя за талию, идет с тобой к лестнице, ты поворачиваешься ко мне, и улыбаешься той самой, жуткой улыбкой, которая впервые появилась у тебя в Пирне.
21/X/34
…Я сожгу эти записи. Но сначала — закончу их. Они помогают мне держать равновесие, или, хотя бы, помогают думать, что я как-то его удерживаю. Здесь нет никакой строгой хронологии событий, — только несколько следов от первых двух недель после гибели Стива, о котором ты теперь не вспоминаешь, — по крайней мере, вслух, — и ничего не спрашиваешь. Странно было бы думать, что «дома» тебе станет лучше, — ведь мы оба знаем, где этот дом.
22/X/34
…Уже два дня ты очень тихая. Ты меньше и реже вздрагиваешь от резких звуков, — как было в самые первые дни, — и мне хочется думать, что постепенно, пусть и очень медленно, но хотя бы чуть-чуть, тебе становится легче.
25/X/34
...Погруженная в свои мысли, ты отдаляешься от меня, не разрешаешь прикасаться к тебе. Ночью, проснувшись, ты выскальзываешь из-под моей руки. Будишь меня, и, смотря в темноту широко раскрытыми, блестящими глазами, спрашиваешь, «ты снова будешь ездить к Ханне?». Пока я просыпаюсь и пытаюсь понять услышанное, ты говоришь, что «все это — ложь»... Твои слова прерывает сначала громкий стук во входную дверь, а секунду спустя — звук разбитого стекла.
Два шутце, — рядовых СС, — которых всего неделю назад поставили в конце пищевой цепочки гестапо, отбив подошвами черных, блестящих сапог осколки на входной двери дома Кельнеров, замялись на месте. Переступая с ноги на ногу, они спорили о том, кто первый войдет в богатый дом, самый первый в их будущем, — как они надеялись, — длинном списке «инспектируемых» домов.
Вчерашние пимпфы(1), оба они были примерно одного возраста с Агной Кельнер, но — высокие, нескладные, с длинными, худыми руками, которыми они жестикулировали так часто, будто не знали, чем их занять.
Не договорившись друг с другом, они снова начали толкаться у деревянной створки, из которой только что с таким усердием вынесли витражное стекло. Идея открыть дверь, и войти в дом обычным путем либо не посетила их светлые головы, либо показалась скучной и непримиримо банальной для новеньких, и потому особенно ретивых, эсесовцев. Они долго мялись у двери, но когда стало понятно, что пролезть через выбитый проем может только один из них, высокий и тощий, замотанный в талии широким ремнем на два оборота, нехотя уступил место своему товарищу, — тот был ростом пониже и чуть плотнее. Довольно оскалившись, плотный пролез в щель, громко дробя каблуками сапог разноцветные осколки стекла, валявшиеся по обе стороны двери. Тощий последовал его примеру, и скоро они стояли в полутемной гостиной дома Кельнеров.
Позади них слышался неторопливый ход старинных напольных часов: тяжелый золотой маятник медленно раскачивался из стороны в сторону, всем своим видом и звуком сообщая дому незыблемость и прочность существования.
Осмотревшись, шутце включили карманные фонари и синхронно шагнули вперед, желая немедленно произвести запланированный арест, но с верхней площадки лестницы, переступив несколько ступеней, к ним вышли босые ноги в темно-синих пижамных штанах. Плавно спустившись по ступеням, они остановились перед рядовыми, которые, замерев на месте почти с открытыми ртами, с удивлением рассматривали сначала босые стопы, а потом и всю фигуру худощавого блондина в целом.
Он остановился на месте, скрестил руки на груди, и выжидательно посмотрел на рядовых. Один из них выхватил из кармана черной формы сигареты и зажигалку, и неловко закурил. Нужный эффект — устрашение и нагнетение страха за счет внезапного ночного «обыска» не был достигнут, и с невидимого счета юных элитных воинов чья-то рука уже сняла десятки очков. Шутце разозлились, и в первые минуты даже не знали, что им следует говорить или делать дальше, — кто бы мог подумать, что добыча обнаружит охотника прежде, чем он успеет сориентироваться на местности, а трафарет привычных действий с самого начала полетит к чертям. Выход нашелся неожиданно, — в полумраке гостиной, за спиной блондина, мелькнула тень.
В тусклых отблесках уличного света, который пробивался с улицы, она приобрела облик фрау Кельнер. Тощий рядовой довольно улыбнулся, направил на нее луч фонаря, и прежде, чем она успела отвернуться от слепящего света, выдохнул сигаретный дым в лицо девушке. Фонарик выпал из его скрюченных пальцев и быстро покатился по полу, — Кельнер заломил руку сопляка.
Конечно, второй черный мог помешать хозяину дома, в конце концов, из всех трех мужчин именно Кельнер был безоружным, но плотный гестаповец как-то испуганно сник, и неровно посветив на блондина фонарем, крикнул, переходя на визг:
— Вы должны пойти с нами! Это приказ!
Кельнер посмотрел на взволнованного шутце светлыми, блестящими глазами. Резко отпустив тощего, он сказал:
— Идем!
Харри пошел вперед сам, и один из эсесовцев, — очевидно вспомнив еще плохо выученные инструкции, — выпалил, что им запрещено брать с собой какие бы то ни было вещи. Кельнер остановился возле вешалки с верхней одеждой, оглянулся на молчаливую Агну, и помог ей надеть пальто. Когда его руки коснулись ее сведенных плеч, он почувствовал, как сильно она дрожит. Не обращая внимания на ночных гостей, он присел перед Агной, выбрал ту пару закрытых туфель, которые она носила чаще всего, и помог ей надеть обувь. Девушка закачалась из стороны в сторону, и схватилась за плечо Харри, удерживая равновесие. Быстро завязав шнуровку на туфлях, блондин кивнул самому себе, и выпрямился, незаметно для шутце сжав ладонь Агны. Она не ответила на этот, давно принятый между ними знак, продолжая рассматривать замысловатый узор на темно-красном ковре. Кельнер посмотрел на свои босые ноги и пижамные штаны. Усмехнулся, засунул ноги в ботинки, накинул пальто, и, придерживая Агну за талию, открыл входную дверь.
Если бы Эл и Эд были близки как прежде, они наверняка бы потом посмеялись всему произошедшему, — тому, как оторопело уставились на Эдварда оба шутце, и как они, слушаясь его жеста, молча пошли вперед, отчего стало абсурдно, страшно и смешно одновременно… Но они не говорили об этом. Ни после возвращения Харри и Агны с ночного допроса, ни позже.
* * *
Как и в первый раз, их привезли в дом номер восемь по улице принца Альбрехта. Как и тогда, их снова сопровождала ночная темнота. В пути оба рядовых успокоились, пришли в себя и громким шепотом спорили о том, кто из них больше виноват в том, что это первое задержание, которое должно было пройти плавно, как по нотам, на деле рассыпалось кучкой праха, стоило им переступить порог дома в Груневальде.
Они спорили так увлеченно, что не сразу заметили, как остановились у главного отделения гестапо. Повернув головы в направлении центрального входа в здание, отмеченного полукруглой каменной аркой, они резко замолчали. Послышался звонкий шлепок, и один из шутце простонал:
— Не сюда!
С того места на узкой деревянной скамье, где сидел Кельнер, ему было отчетливо видно, как рядовой звонко, с силой, ударил себя по лбу. Харри опустил голову вниз и криво улыбнулся. Глупая привычка, которую многие другие уже подмечали в нем, — в момент опасности он часто неуместно веселился или улыбался вот так, — криво, смазанно, ломаной линией. Посторонние, в том числе и его сослуживцы в Марокко, глядя на него в такие моменты, именно из-за этой кривой усмешки и думали, что он поехавший, спятивший псих, и предпочитали с ним не связываться.
Кельнер сделал глубокий вдох. Очень хотелось курить. Его запястья были свободны от наручников, — в ажиотаже ночного ареста эсесовцы забыли даже об этом, — и он мог достать из кармана сигареты и зажигалку, разложенные едва ли не в каждом его пальто, плаще или пиджаке, но, стукнув себя кулаком по колену, Харри посмотрел на Агну.
В черном грузовике их усадили рядом, на одну скамью. Но она, воспользовавшись спором рядовых и отсутствием наручников, при первой же остановке машины на светофоре, — когда их еще везли сюда, на улицу принца, — пересела на противоположную от Харри скамью, устроившись в самом дальнем, темном углу.
Всю дорогу Агна сидела почти неподвижно, опустив голову вниз. Уличные фонари, пробегая тяжелым светом по борту блестящего грузовика, бросали на ее спину желтые, мутные полосы, быстро исчезающие в глухой темноте спящего Берлина.
Харри они тоже выхватывали из темноты, светили ему в лицо внезапными всполохами электрического света, очень похожего на свет от карманных фонариков шутце, — правда, не столь яркий, и не так яростно разъедающий глаза. Машину круто развернули, отчего Агна и Харри резко съехали со своих мест в сторону. Выглядывая в узкое окно, забитое решеткой, Кельнер видел только ночную темноту и всполохи уличного света, и это никак не помогало ему определить новое направление, по которому их везли уже несколько минут.
Но вот машину подбросило на дорожной выбоине, водитель чертыхнулся, его сосед клацнул зубами, к тому же, — судя по стонам, — больно прикусил язык, и грузовик вынесло на одну из центральных улиц города. Кельнер закрыл глаза. Первый, второй, третий. Поворот. Прямо, налево, и… к воротам большого дома с мраморной лестницей, по которой он и Агна в качестве гостей поднимались уже дважды.
Машина остановилась, снова немного покачиваясь, и Харри открыл глаза. Он знал, где они. Железный засов на внешней стороне кузова загремел в ночной тишине особенно громко. Агна, бросив взгляд на створки дверей, быстро поднялась, но Харри опередил ее, и встал первым к выходу. Если эти щенки обозлились из-за собственной глупости, — оттого, что перепутали адрес доставки, — и потому захотят сейчас сорвать досаду на них, — он, по крайней мере, сможет затушить большую часть их злости о себя. Расчет Кельнера оказался верным. Когда двери кузова распахнулись, фосфорически-яркие лучи от двух фонарей снова забили светом ему в лицо. Его стащили на землю первым, и зашуршавший под ботинками гравий подтвердил то, что он уже знал: их привезли в его дом.
Рядовые не были злы. Они были очень расстроены своей неудачей, и все так же продолжали спорить шепотом друг с другом. Когда Харри, который держал сцепленные в замок руки за спиной, выпрямился, тощий шутце, по-видимому, все еще таивший на блондина злость за заломленную руку, замахнулся на него. Удар кулаком пришелся бы прямо по скуле, но второй гестаповец резким шипением осадил напарника, напоминая о том, что им пока «запрещено».
После этого напоминания с Агной они обошлись мягче, почти аккуратно. Она, как и Харри, завела руки за спину, и со стороны это выглядело так, будто двух людей, действительно закованных в наручники, ведут на допрос. И все было бы именно так, если бы в качестве места для допроса не выступал дом самого Гиббельса. Харри осторожно осмотрелся по сторонам, выхватывая из окружающего их пространства все, что могло бы дать ему больше информации о происходящем. Поднявшись по ступеням мраморного крыльца, он снова с облегчением подумал о том, что его отказ от побега во время перевозки был самым верным решением. Убежать от двух рядовых, поглощенных спорами друг с другом гораздо больше, чем схваченными людьми, было не сложно. Но последствия?.. Кельнер пока не много знал о том, как именно работает ночной механизм гестапо, но даже из той информации, что была ему известна, становилось понятно, что стражи тайной полиции Германии — не те ребята, которые оставляют дела незаконченными.
А знаком завершенного дела для них служила только кровь. Шутце потолще вежливо постучал в дверь и откашлялся в кулак. Входная тяжелая дверь медленно отъехала в сторону, и на пороге, выступая из-за двери только на половину, показалась все та же служанка Гиббельса, которую Харри и Агна видели раньше. Харри тряхнул головой, отгоняя воспоминания, и украдкой посмотрел на Агну. В его взгляде мелькнуло беспокойство, но он смог быстро скрыть его от посторонних глаз. Может быть, он и правда был неплохим разведчиком, но в том, что касалось Эл, он часто терял голову, действуя слишком несдержанно или слишком прямолинейно. Словом, фраза Баве, сказанная Милну во время их встречи в Лондоне: «Никогда не понимал женщин: то они плачут, то смеются, а то задыхаются от нежности в твоих объятьях», идеально описывала настоящее положение дел.
Кельнеров завели в дом, и вели все время прямо, по коридору, который и Агна, и Харри очень хорошо помнили, — один поворот направо, в душную, маленькую комнату, заставленную слишком большим количеством мебели и вещей, и вот оно — подобие личного золотого алтаря Гиббельса, на вершине которого, — святая святых нацистов, — «Mein Kumpf». Книга, в представлении людей, написанная самим фюрером, но на самом деле — двумя «литературными неграми», с одним из которых под общий кровавый шум Груберу удалось неожиданно и удачно расправиться в пылу то ли «дела» ван дер Люббе, то ли в не такую далекую «Ночь длинных ножей». Второй «негр», через много лет после описываемых событий, будет убит в концентрационном лагере, — охрана из подразделения «Черная голова» проследит за этим особенно ретиво, потому что для тех, кого Грубер считал своими противниками, не существовало «срока давности», — они могли быть уничтожены в любой момент, который фюрер посчитает подходящим.
За небольшим столом, в уютном свете настольной лампы, сидел улыбчивый Йозеф Гиббельс, министр пропаганды и просвещения третьего рейха. Улыбка не шла ему, — ни его мелкой, узкой фигуре, словно сцепленной из острых углов и ломаных линий, ни его сосредоточенному, мстительному лицу с блестящими, черными, выразительными глазами и сжатыми в единую линию узкими, короткими губами. Улыбка не украшала, но уродовала это лицо: когда она выступала на сжатые губы, оно становилось подобно открывающейся двери, ведущей в огонь ада, — глаза светились фосфорическим блеском, и при взгляде в них пробирал страх, — такими жестокими, бесчеловечными, безумными и страшными они были.
Агну Кельнер завели в святыню министра первой, и хотя Харри не мог ясно видеть ее лица, он успел заметить, как она долго держала голову прямо, но в последний момент, — перед тем, как шутце надавил на ее плечо, с силой усаживая девушку на стул, — она резко повернула голову влево, в сторону «алтаря», в тот угол, где Гиббельс, известный своей похотью и охотой на женщин, однажды зажал ее в попытке изнасиловать.
Кельнера подвели ко второму стулу, поставленному напротив улыбчивого министра. Закрытые губы коротышки растянулись больше, а шутце, наконец-то угадавший и с адресом доставки «груза», и с поставленной задачей, ударил Кельнера прикладом по плечу. Блондин сморщился, оседая от удара, но сумел удержать равновесие, и медленно выпрямился, переводя острый взгляд на рядового. Он разжал руки, до сих пор сцепленные за спиной, и спокойно вытянул их вдоль тела. Гиббельс опустил взгляд и вскочил с места, указывая пальцем на свободные руки Кельнера.
— Что это?! — протяжно, по привычке, перенесенной им с официальных трибун, — прокричал Гиббельс.
Шутце развел руками, пытаясь понять, о чем его спрашивают. И понял только тогда, когда Кельнер, по-прежнему не отводивший взгляда от лица рядового, спокойно растер сначала одно запястье, а потом другое.
— Я-я-а-а-а… не могу знать, господин министр!
— Зато я знаю! Вы не исполнили приказ, не надели наручники! Я вас!..
Черные глаза «усохшего германца» впивались в лицо рядового с такой ненавистью, что, казалось, отнимали у него не только физические силы, но и саму душу.
Эсесовец зашатался, то хватаясь с силой за собственное горло, то поднося ладонь к виску и к краю черной фуражки.
Харри смотрел на него с удивлением и с некоторой долей сожаления.
— Вон! Во-о-он! Самих в карцер… обоих! Гейдриху! А если бы они… они сбежали!...
Маленький министр зашелся кашлем и слюной, и потому вынужден был замолчать. Оба рядовых безмолвно и быстро выбежали из кабинета, гремя подошвами тяжелых сапог.
Гиббельс тяжело опустился на стул, сцепил пальцы на хрустальном стакане с водой, и залпом осушил его.
— Харри и Агна Кельнер.
Взгляд министра, перейдя от блондина к девушке, опустился тяжелой завесой на ее белом лице.
— Я давно хотел с вами поговорить.
Коротышка указал на стул, и Кельнер сел, продолжая слушать его выразительный голос.
— Но все никак не мог найти подходящий случай.
Черные глаза Гиббельса снова вернулись к лицу Агны, и загорелись блеском.
— Спасибо.
Светлые брови Кельнера от изумления почти сошлись на переносице, а затем поднялись вверх, и Гиббельс пояснил:
— У вас была возможность сбежать, убить этих двух идиотов, но вы не сделали этого.
— Не думаю, что такая возможность у нас была, министр. Бегут те, кому страшно, нам же бояться нечего.
Кельнер говорил медленно, и голос его звучал учтиво: он знал, что эти люди дотошно ценят вежливость.
— А скрывать?
Пока Харри раздумывал над ответом, Геббельс резко хохотнул, наблюдая за ним:
— Вы, — он обвел взглядом Кельнеров, — убили Рудольфа Биттриха!
От имени назойливого оберштурмфюрера, которому слухи прочили блестящую карьеру, фрау Кельнер вздрогнула и подалась вперед, выходя из страха и глубокой задумчивости, которые буквально парализовали ее с первой минуты, стоило ей увидеть шутце в своем доме.
— Его убили?..
Агна сжала в руке складки домашнего платья, которое успела надеть прежде, чем спуститься вниз, когда в дом Кельнеров явились эсэсовцы.
Гиббельс улыбнулся.
— Об этом вы мне расскажите, фрау Кельнер.
Продолжая смотреть на Агну блестящими глазами, карлик поднялся и наклонился вперед, чтобы лучше рассмотреть ее лицо. Но этого ему оказалось мало, и он торопливо вышел из-за стола, молча наблюдая за ней. В его жутких глазах засветился азарт, и он мог бы явить себя перед фрау очень эффектно, — полутьма душного кабинета помогала ему, но в последний момент, когда до стула, на котором сидела девушка, оставалось не более шага, министр неловко запнулся о складку ковра, и упал перед Агной на колени. Она вскрикнула и прижала ладонь к лицу.
Что-то пробормотав себе под нос, Гиббельс неуклюже поднялся, еще заметнее припадая на свою короткую ногу, и завопил, брызгая слюной:
— Признавайтесь! Вас последней видели с ним в тот вечер!
Карлик подскочил к фрау Кельнер, и встряхнул ее за плечи.
— Министр! — гигантская тень Харри растеклась по стене и потолку, и нависла над тенью Гиббельса.
— Молчать! С вами я буду говорить после! — он бросил злорадный взгляд на Харри. — Хотя… вы правы. В конце концов, однажды вы помешали здесь мне, теперь я…
Гиббельс не договорил, вернулся за свой стол, но остался стоять, отчего его голова, которая в сочетании с мелким ростом даже при свете дня казалась огромной, отбросила на стены едва освещенной комнаты фантастичные тени.
— Отвечайте быстро, у меня мало времени!
Гиббельс положил маленькую руку на телефонный аппарат, и повернулся к Кельнеру.
— Вы убили оберштурмфюрера Биттриха?
— Нет.
— Когда вы видели его в последний раз?
— В этом доме, во время показа.
— Вы видели, как Биттрих танцевал с вашей женой?
— Да.
— Вы ревновали?
— Нет.
— Почему?
Кельнер помедлил, удивленно смотря в черные глаза министра.
— Для этого были причины?
— Здесь я задаю вопросы! Почему вы не ревновали?
Харри посмотрел на Агну, снова перевел взгляд на Гиббельса, и спокойно ответил.
— Для этого не было причин, я доверяю своей жене.
Министр затрещал сухим, резким смехом. В наступившем веселье он, очевидно, хотел пройтись по комнате, но, вспомнив свое недавнее падение, к тому же перед женщиной, предпочел остаться под прикрытием стола.
— Доверяете? Даже тогда, когда он так настойчиво ухаживал за ней, приходил поздними вечерами в дом мод, где она подшивала его мундир? А когда он целовал ее? Провожал домой? Доверяете?
Гиббельс сложил руки на груди, и, припадая на короткую ногу, с довольным видом стал прохаживаться вдоль стола. Он уже не торопил Кельнера с ответами, наоборот, — злорадная усмешка, растянутая на его сухих, узких губах, свидетельствовала о том, что происходящее ему очень нравится.
Поправив выбившиеся из влажной укладки волосы, он внимательно следил за Харри. Но Кельнер не сразу позволил ему увидеть свое лицо. Некоторое время он смотрел в сторону, зная, что так Гиббельс не сможет уловить выражение его глаз. Когда Харри был готов, он резко развернулся в сторону министра, и очень медленно сказал:
— Доверяю.
В кабинете повисла пауза. Даже министру стало душно, — он засунул указательный палец за ворот рубашки, стянутой у короткого горла узким галстуком, и снова посмотрел на Агну.
— Вы убили Биттриха?
— Нет.
— Зачем вы ездили в Пирну?
— Это был небольшой отпуск.
— Вам было плохо в Берлине?
— Нет, мне нравится этот город.
— А ваша работа?
— Я ее очень люблю.
— Биттрих целовал вас?
— Да.
— Он провожал вас домой?
— Да.
— Вы принимали его в доме мод?
— Он приходил в ателье, как ответственный за показ.
— Он трахал вас?
Дыхание Агны сбилось, она шумно сглотнула, и сделала глубокий вдох.
— Нет.
— Вы не похожи на немку.
— Я уже говорила вашей супруге: мне очень жаль, что я мало похожа на настоящую арийку, но, могу уверить вас, я истинная сторонница рейха.
Гиббельс резким движением развязал узел галстука, и сделал знак рукой. Черный эсесовец, все это время недвижно и неслышно стоявший в темном углу комнаты, за дверью, прошел по комнате и открыл окно. Почувствовав волну свежего, холодного воздуха, Агна облегченно вздохнула и прикрыла глаза.
— Вы знакомы с Ханной Ланг? Вам нравится ее внешность? Вы считаете ее красивее себя?
Фрау Кельнер улыбнулась, предельно выпрямляясь на стуле.
— Да.
— Что «да»?
— Я с ней знакома, мне нравится ее внешность, я считаю ее красивее себя.
Геббельс навалился на крышку стола.
— Как вы относитесь к тому, что у вашего мужа был роман с Ханной Ланг?
— Это было до нашей свадьбы, и значения не имеет.
— А его измена вам, когда вы уже были женаты? Кстати, когда состоялась ваша свадьба?
Агна смахнула капли пота, бежавшие по виску.
— 15 февраля 1933 года, — ответил за Агну Харри.
— Вы так хорошо помните, Харри Кельнер! Кстати, я так и не успел спросить, как вышло, что у вас та же модель автомобиля, что и у фюрера? Вы знаете, что это запрещено?
Харри глупо усмехнулся, развел руками и посмотрел на Гиббельса тем взглядом, который сообщил министру, что Харри очень неловко говорить об этом в присутствии жены.
— Это моя глупость, министр. Личная инициатива. Я потратил на покупку машины все деньги, что тогда у меня были, хотел впечатлить будущую фрау Кельнер.
— Удалось?
— Вряд ли.
Гиббельс смерил блондина долгим, пронизывающим взглядом. Тишина в кабинете перестала быть простой паузой, становясь физически ощутимой. Харри слышал, как в звенящей тишине Агна сделала несколько торопливых вдохов, последний из которых заглушил лающий хохот министра. Сухой, режущий ухо смех стих так же внезапно, как и начался. Гиббельс, все еще посмеиваясь, протянул «женщины!», и подал знак эсесовцу у двери. Тот остановился между Харри и Агной, и вытянул руки вдоль тела.
— Наконец-то нам удалось познакомиться с вами поближе, Харри и Агна Кельнер. Вы свободны.
От последней фразы глаза Агны расширились, она слишком резко поднялась со стула, и ее повело в сторону. Глядя на то, как Кельнер держит жену под руку, карлик негромко заметил:
— Истинная арийка не должна ревновать своего мужа, не правда ли, фрау?
— Не должна, — смотря в упор на Гиббельса, глухо ответила Агна.
Трое — Кельнеры и эсесовец были уже у двери, когда до них долетел голос министра пропаганды. Он говорил тихо и нараспев, словно никого, кроме него, в кабинете не было.
— За убийство эсэсовца любой понесет наказание… Кстати, вам нравилось внимание Биттриха? Он был хорошим воином, я рассчитывал на него, а теперь его кто-то убил…
Рассмеявшись сухим смехом, министр махнул рукой, эсесовец подтолкнул Кельнеров вперед, и они пошли к выходу из дома.
* * *
— Что ты делаешь?
Нитка, которой Эл до онемения замотала руку, порвалась, и она задумчиво наблюдала за тем, как к побелевшей части ладони снова приливает кровь.
— Переезжаю в другую комнату, — коротко бросил Милн.
Эдвард достал из открытого шкафа несколько плечиков, на которых была развешана его одежда, перебросил их через руку, забрал с прикроватной тумбочки сигареты и несколько номеров нацистских газет, и пошел к двери.
— Значит, ты так решил?
— Да, — не поворачиваясь, ответил Эдвард. — Надеюсь, так тебе будет лучше.
Элис зло рассмеялась.
— Может, мне тебя пожалеть?
Милн повернулся к Эл и с болью посмотрел на нее.
— Мне очень жаль, что все это случилось с тобой. Я хотел бы забрать твою боль себе, но ты не выносишь ни моего присутствия, ни моего прикосновения, снова и снова спрашиваешь, когда я тебя «брошу», и сколько, и с кем буду тебе изменять… Ты не разрешаешь помочь тебе. Да, Эл, я страшно виноват. Я предал тебя, и я сам себя за это не прощаю, и знаю, что ты не можешь простить меня. И я… Я не знаю, как еще сказать тебе, и что сделать… Я люблю тебя. Я предал тебя, и я люблю тебя. Я хочу, чтобы тебе стало лучше. Но я не могу, не хочу больше так жить.
— Может, мне извиниться за то, что я переживаю визит в гестапо, смерть нашего ребенка и твою измену не так, как следует? Слишком остро?
— Нет. Но я тоже его потерял, Эл. Наш ребенок был и моим ребенком тоже.
На глаза Эл навернулись слезы, и она замерла, опустив взгляд вниз.
— Ты прав: я не разрешаю тебе помогать мне, я не выношу тебя и твои прикосновения… меня тошнит от всего этого! От всего тошнит!
Отбросив в сторону одеяло, Элис соскочила с кровати и подбежала к раскрытому шкафу. Обняв двумя руками все плечики, на которых еще оставалась одежда Эдварда, она с грохотом швырнула их на пол.
— Уходи! Ненавижу тебя!
Эдвард долго смотрел на нее, обводя медленным, блестящим взглядом всю небольшую фигуру Эл, — от кончиков босых ног до горящего гневом и болью лица. Он хотел что-то сказать, и даже начал говорить, но горло захрипело то ли стоном, то ли глубоко забитыми в него словами, которые он не знал, как произнести… И в эту секунду, со страшной, бесконечной очевидностью Милн понял, что больше — незачем. Его рука механически, с силой взъерошила на затылке светлые волосы, так, словно хотела вырвать их, потом резко нажала на дверную ручку, и Эдварда вынесло за дверь. Медленно спускаясь по лестнице, он слышал, как плачет Элис.
1) "выпускники" гитлерюгенд
Часы в доме Кельнеров неспешно пробили девять раз. Кайла смущенно посмотрела на Агну, которая за все время их долгого разговора почти не изменила позы, — погруженная в свои мысли, она, казалось, даже не слышала сказанного женщиной. Но стоило Кайле прервать свой рассказ, как Агна, повторила:
— Пожалуйста, продолжай.
И Кайла продолжала говорить о третьем случае, произошедшем с ней за последнюю неделю, когда ее остановили на улице и потребовали предъявить документы. Агна слушала не перебивая: про гестаповцев, обосновавшихся на улицах Берлина с еще
большей, чем то было раньше, уверенностью; про документы Кайлы Кац, на которые они даже не взглянули и швырнули ей под ноги, со смехом наблюдая за тем, как она поднимает их из уличной грязи. Особо ретивый поборник нацистского порядка наступил лощеным сапогом на удостоверение Кайлы, все больше заводясь смехом от того, что она пытается вытянуть корочку из-под его ноги. Дождавшись нужного момента, он отступил назад, и Кайла упала перед ним на колени. Послышался гогот двух арийских глоток.
Рука, сбивая шляпку с ее головы, схватила Кайлу за волосы, и с силой притянула женщину к черной форме с серебряными нашивками. Смачный плевок густой слюной, смешанной с табачной крошкой, залепил глаза Кайлы, но она не издала ни звука: дыхание сбилось от резкой боли, и она начала заваливаться назад, следуя за рукой полицейского.
Обшарив Кайлу, — ибо «обыском» это едва ли можно назвать, — они отпустили ее, посоветовав больше «не попадаться на пути».
Кожа на ребре изящной кисти, перевязанная множеством тугих нитей лопнула, и из раны на руке Агны потекла кровь. Она посмотрела на Кайлу жгучими зелеными глазами, полными слез.
— Как тебе помочь? — прошептала она, и положила порезанную руку на белую скатерть.
— Фрау Агна! — Кайла со страхом посмотрела на молодую женщину. — У вас кровь!
Агна медленно перевела взгляд на свою руку, и молча наблюдала за тем, как на поверхности раны выступают красные капли.
— Оставайся здесь, Кайла… Оставайся в доме, прошу.
Женщина устало покачала головой.
— Нельзя, фрау, вы знаете.
В столовой повисла тяжелая тишина, нарушаемая церемонным, глубоким звоном старинных часов.
— Может быть… — начала Агна, но ее слова прервал стук входной двери.
— Герр Кельнер!
Кайла, смахнув слезы, оглянулась, и быстро встала из-за стола, вытягиваясь перед Харри.
— Добрый вечер, я…
Кивнув скорее голосу, чем самой женщине, Кельнер хрипло проговорил ответное приветствие, и быстро прошел мимо, даже не взглянув на нее.
— ...Уже ухожу, — тихо закончила фразу Кайла, и посмотрела на Агну. — Мне нужно идти, фрау Агна, Дану ждет меня, здесь, недалеко…
— Почему он не пришел сюда?
Кайла опустила глаза.
— Прости… Не нужно рисковать. Я опять тебя задержала…
Агна порывисто обняла Кайлу, и застыла, крепко сцепив руки на ее плечах.
— Прости… — ребром разрезанной ладони Агна машинально провела по щекам и скулам, смахивая слезы, отчего ее лицо, с размазанными по нему полосами крови, стало выглядеть еще более беззащитным и пугающим. Кайла положила руку на плечо девушки, и с сожалением оглянулась на нижние ступени лестницы.
— Все будет хорошо.
— Да, конечно.
Женщина с тревогой посмотрела на Агну. На ее слова она ответила слишком быстро. Слишком быстро для того, чтобы хотя бы успеть сделать вид, будто она сама верит в то, что говорит.
* * *
Элис поднялась на третий этаж дома, который до переезда Эдварда был пустым, и остановилась на верхней площадке лестницы. Все здесь было почти чужим. Она попыталась вспомнить, когда, — до их ссоры, с момента которой прошло чуть более полугода, — она была здесь последний раз, и память вернула ее ко дню свадьбы Харри и Агны Кельнер.
...Когда молодожены подъехали к своему дому по улице Херберштрассе, уже началась настоящая метель. Элис помнила, как Эдвард поднял воротник черного пиджака и с кривой улыбкой посмотрел на нее. А потом вынырнул в снежную берлинскую бурю, и быстрой черно-белой тенью обогнув «Мерседес», — который уже успел заметить сам Гиринг, — открыл перед Элисон дверь, вытягивая левую руку ей навстречу, и помогая молодой фрау Кельнер выйти из машины.
Воспоминания, словно кадры кинофильма, яркими вспышками скользили перед внутренним взором Элис. По телу пробежала дрожь, ее губы изогнулись в мягкой улыбке. Она вспомнила, как улыбнулась Эдварду в ответ, вложила свою руку в белой атласной перчатке в его раскрытую ладонь, и, придерживая маленькую круглую шляпку с вуалью, вышла из автомобиля, мгновенно подхваченная порывами сильного ветра, смешанного с крупными хлопьями снега. Взявшись за руки, они побежали по заснеженной дорожке к дому, а поднявшись на крыльцо, стали со смехом стряхивать друг с друга снег, который еще не успел стаять и превратиться в те капли воды, которые почему-то не впитываются в ткань и не скатываются вниз, но продолжают оставаться на занятых местах, — плечах, прядях волос и кончиках длинных ресниц...
Открыв входную дверь, Эдвард Милн, уже снова ставший Харри Кельнером, посмотрел на свою жену, крепко сжал ее руку, и повел за собой. Тогда они обошли весь этот дом, не спеша исследуя все его комнаты, повороты, пару тайных комнат, скрытых перегородками… Они были и здесь, — стояли точно на том же месте, где Элис замерла от воспоминаний теперь, и сразу, следуя молчаливому договору, решили, что пока не будут занимать этот этаж, — и без него в особняке им вполне хватало места.
Пока.
Элис тяжело вздохнула, проводя рукой по темно-рыжим, коротким волосам. Мысли беспокойно бились в голове. После ухода Кайлы она не раздумывая пошла сюда, намереваясь поговорить с Эдвардом. Но чем больше сокращалось расстояние до его новой комнаты, тем больший страх и волнение охватывали ее. Стоило все обдумать, — слова, фразы… Может быть, даже свой внешний вид, прежде чем приходить, но… времени не было. Возмущение и горечь, с подмешанным к ним волнением, торопили Элисон. Ей нужна помощь Эда, нужно знать, что он… Мысль оборвалась, когда она заметила, что дверь в комнату Милна приоткрыта.
Мягко ступая босыми ногами по паркету, Элисон остановилась на пороге, не решаясь войти в комнату, освещенную мягким светом настольной лампы, чей отсвет казался особенно ярким на фоне тьмы, уже спустившейся за окном. Эдвард, не заметив ее, быстрым шагом прошел по комнате и остановился возле письменного стола. Электрический свет неровным лучом упал на его обнаженную грудь и мускулистые руки, выхватил из полумрака край острой лопатки. Разложив на столе какие-то документы, он напряженно вглядывался в них. Элисон, все так же стоя на пороге, не могла различить, что было на тех листах, — текст, фотографии, схемы или что-то другое.
При виде Эдварда ее сердце сжалось и тяжело забилось в груди, разнося боль по всему телу. Она давно не видела его так близко, и сейчас с тоской и болью следила за его движениями, сосредоточенным взглядом, изгибом руки. Вот он передвинул несколько листов, пробежался взглядом по каждому из них, едва заметно, по давней привычке, кивнул, убирая со лба светлую прядь волос, и расставил руки по краям стола.
Эл судорожно втянула воздух в легкие, и неотрывно смотря на Милна огромными глазами, по которым легко можно было различить недавние слезы, сбитой, оглушительно-громкой в окружающей тишине, дробью, постучала в дверь. Она заметила, как Эдвард вздрогнул, перевел взгляд вправо, и посмотрел на нее. В последнее время его взгляд стал именно таким, — резким, быстрым, жестким. Молниеносно оценивающим обстановку, готовым к атаке или к ее отражению, нападению и защите.
Элис была уверена, что он не взглянул на нее, но выражение его глаз переменилось, когда он понял, что это она. Взгляд стал отвлеченным и глухим, — к ней и ко всему внешнему миру. Его лицо едва заметно исказила боль, — как если бы Милну нанесли неожиданный, сильный удар, против которого он не успел выставить защиту, и потому она смогла проникнуть слишком глубоко, прошив его горячей волной насквозь. Руки Эдварда оторвались от стола, вытянулись вдоль тела. Он не спеша, уверенной и мягкой походкой, обычной для него, шел к Элис. Быстро улыбнувшись, девушка сбивчиво проговорила:
— Кайла… Нужна твоя помощь!
Замок закрытой двери плавно щелкнул, и Элис осталась в прохладной темноте коридора.
— Пожалуйста… — она провела рукой по двери.
По ту сторону не раздалось ни единого звука, — ни шагов, ни шороха от дыхания… Милн словно исчез из комнаты, и только слабый луч все той же настольной лампы тусклым далеким светом продолжал гореть, выбегая в коридор этажа через нижнюю дверную щель.
— Поговори со мной! Хотя бы раз за это время…
Элис нажала на изогнутую ручку, но дверь не поддалась.
— Ты не терпишь меня, но Кайле нужна помощь. Пожалуйста.... вспомни, она спасла нас.
Пружина в замке недовольно звякнула, извещая Милна, застывшего по другую сторону двери, что такое обращение с ней никуда не годится, и замолчала, — Эл ушла так же тихо, как и появилась. Еще долго после ее ухода Милн стоял на месте, уперев руку в дверь. Сомнение разгорелось внутри с новой силой, пожирая долго и тщательно выстроенные им барьеры с той же легкостью, с какой огонь сжигает сухую траву.
Он говорил себе не смотреть на нее, не сметь! Но на долю секунды его взгляд все-таки зацепился за край ее губ, не высохшие прозрачные строчки, какие бывают от недавних слез, и этого было достаточно.
* * *
— К тебе приехал этот… нацист.
Дану Кац недовольно махнул рукой в сторону двора.
— Герр Кельнер?
Кайла с тревогой, которая теперь постоянно звучала в ее голосе, выглянула в окно, наблюдая за тем, как Харри заглушает мотор мотоцикла и выправляет подножку.
— И сколько раз я просила тебя не называть его так!
Она возмущенно посмотрела на мужа, пристально рассматривающего темно-зеленый с оранжевыми обводами Harley Davidson Кельнера.
Перекинув белое кухонное полотенце через плечо, Кайла вытерла и без того сухие руки, и поспешила навстречу Харри.
— Что-то произошло? Что-то с фрау? Наверное, рука… — Кайла посмотрела на Кельнера.
— Рука? Нет, с фрау все в порядке… А вы?
Блондин кивнул в сторону дома и хмурого Дану, стоявшего за окном.
— Агна сказала, что вам нужна помощь.
Смуглые руки Кайлы судорожно сжались в замок.
— Зря она сказала, вам нельзя мне помогать.
Кельнер тяжело и медленно вздохнул, мысленно, — хоть и без особого желания — соглашаясь с Элис.
— Когда я пришел сюда с Агной на руках, вы не думали над тем, стоит ли нам помогать. Вы просто помогли. — Его голос смягчился и стал еще тише, он положил руку на плечо женщины. — Кайла, скажите мне.
Она подняла голову вверх, и из ее глаз побежали слезы.
— Они останавливают нас на улице… обыскивают, смеются… За последнюю неделю меня останавливали трижды, — обыскивали, били, давали пощечины… Дану избили три дня назад, уже не так сильно, как в прошлый раз, но… Они говорят, чтобы мы не смели «попадаться у них на пути»… Что с нами будет?!... Нам запрещено… «евреям вход воспрещен»… Вы видели, правда?
Кайла обхватила себя руками и заплакала.
— Мою соседку ударили прикладом по голове… Днем, на улице, в центре… Она умерла там же, ей никто не помог, понимаете?... Как же так, герр Кельнер… Как же так?..
Харри осторожно обнял Кайлу, чувствуя, как сильно она дрожит. Когда первая волна слез немного стихла, и женщина задышала ровнее, Кельнер достал из внутреннего кармана пиджака узкие белые карточки с золотым готическим шрифтом.
— Кайла, послушайте меня.
Убедившись, что женщина его слушает, Харри тихо продолжил:
— Возьмите это, на первое время. Пока этого должно хватить, но я что-нибудь придумаю.
— Что это?
— Визитные карточки. Небольшая ценность, но, будем надеяться, что пока я ищу для вас более серьезную помощь, они обезопасят вас. Вас и Дану. Пусть скажет, что работает у меня… У нас.
Кайла посмотрела на белоснежную визитку из плотной бумаги с золотой окантовкой, повернула ее, и с недоумением взглянула на блондина. Отвечая на безмолвный вопрос, он пояснил:
— На обороте, в углу, указан номер. Вам не нужно знать, чей он и куда ведет. Но если вас или Дану снова остановят, покажите визитку им. Они все поймут сами.
Нажав на педаль мотоцикла, он дождался, когда мотор зарычит, сел за широкий руль, и, убрав ногой подножку, резким полукругом отъехал от дома семьи Кац, подняв за собой небольшой столб гравийной крошки.
— Герр Кельнер, вы ехали без шлема?!
Невысокая изящная блондинка со светло-серыми глазами изобразила на своем смазливом личике ужас, и крепче прижала папку с бумагами к груди.
— Доброе утро, Софи, — с расстановкой ответил Кельнер, стягивая мотоциклетные очки, от которых на его лице остались небольшие полукружья следов.
Харри выпрямился на кожаном сидении и несколько секунд сидел молча, подняв голову к небу, медленно втягивая в легкие утренний воздух. Холодный и свежий, он тихо сообщал тем, кто не утратил наблюдательности, о близкой осени. Проследив за Кельнером, блондинка улыбнулась, сделала шаг вперед, и запустила пальцы в волосы Харри.
— У вас такие красивые волосы, герр Кельнер… Не такие светлые, как мои, но с любопытными от-т-енками…
Секретарша Харри по привычке растянула последнее слово и однозначно посмотрела на своего начальника. Светлая бровь Кельнера чуть дрогнула, приподнимаясь вверх. Смотря на Софи, он сомкнул пальцы вокруг ее тонкого запястья с золотым браслетом, и аккуратно отвел руку девушки в сторону. Кисть, легко коснувшись бедра, обтянутого темно-коричневой юбкой, повисла вдоль тела Софи. Однако улыбка так и не сошла с ее лица, — лишь из игривой она быстро переменилась на вежливую и натянутую.
— Я подготовила экземпляры договоров, которые вам нужно посмотреть и подписать. Кроме того, вашего согласования ждут планы по разработке и поставкам лекарственных препаратов, удобрений и…
Софи замолчала, переводя дыхание, и перешла на шепот, — у нее не слишком хорошо получалось успевать за быстрыми и широкими шагами Кельнера.
—… Отравляющих веществ.
— Фройляйн Кох, — Кельнер повернулся к секретарше. — Вам следует знать, что подобная подача информации неприемлема. Будьте внимательны, подобного я больше не потерплю. Что-то еще? Важное?
— Необходимо знать, будете ли вы присутствовать на ближайшем вечере.
Светлые глаза Харри строгим взглядом прошлись по лицу Софи. По длинному коридору, ведущему к кабинету начальника берлинского филиала «Фарбен», он пошел один.
Одобрительные крики и высвисты, — благодаря отличному эху, — мощной волной разнеслись по подвальным помещениям, ударяясь о стены высокими волнами.
Зрители, допущенные на импровизированный боксерский бой, замерли, с азартом и напряжением наблюдая за лицами бойцов. Несколько мужчин, сложив руки рупором, задали новую волну зрительского нетерпения. Фройляйн Кох, напуганная криками, вздрогнула и плотнее вжалась в стену. Мужчины смотрели на нее горящими, жадными глазами, но Кох старательно игнорировала их, — она все еще находится на рабочем месте, пусть теперь это не кабинет секретаря, смежный с кабинетом Харри Кельнера, но, — Софи вскинула голову вверх, и платиновые волосы ярко вспыхнули в желтых и ослепительно-белых отсветах раскачивающихся потолочных ламп, — ее начальник — здесь, а значит, она должна вести себя должным образом.
Девушка перевела взгляд на Харри, который готовился к поединку с Эрихом фон дер Хайде. Кельнер вставил в рот защитную пластину, поправляя ее рукой, на которой еще не было перчатки. Его белые волосы сверкнули в электрическом свете так же ярко, как и ее, и Софи была уверена: она и Харри Кельнер очень похожи, у нее непременно все получится.
Девушка медленно, откровенно рассматривала его. Он был очень хорошо сложен: высокий, правда, — на ее вкус — излишне худой, с широкими плечами и рельефными мышцами, — полная противоположность крупному и приземистому, словно прибитому к земле мешком пыли, Хайде. В подтверждении своей мысли Софи перевела насмешливый взгляд на Эриха, сотрудника контрразведки концерна «Фарбениндустри», в состав которой входила и компания «Байер». Поморщившись, она с пренебрежением пробежалась взглядом по толстой спине мужчины, покрытой черными волосами, и прикрыла глаза. Какое счастье, что теперь всем понятно, как должен выглядеть настоящий, красивый мужчина, истинный ариец! Нельзя же допускать, чтобы всякий сброд… Но подобные экземпляры, вроде Хайде, были пока нужны, правда, годились они не более, чем на роль исполнителей.
Серые глаза Кох снова вернулись к Кельнеру, и засветились тем самым огнем, которого так хотели от нее мужчины, испугавшие Софи своими недавними криками. Ухмылка легла на губы блондинки, она без всякого смущения прошлась пошлым взглядом по обнаженной груди Кельнера. А все-таки интересно, насколько правдивы те слухи, которые снова стали разносится с разных сторон, когда стало известно о поединке Хайде и Кельнера?
Говорили, будто бы Эрих допрашивал Харри, и сильно избил его, но не добился ничего, кроме смеха. А потом, — при мысли об этом сердце Кох замирало особенно сильно, — Харри засмеялся, и, сплюнув на пол кровь, приказал Эриху освободить его…
Лоб Софи наморщился: мысль о допросе, и о том, что Кельнер мог отдать приказ фон дер Хайде, как-то не укладывалась в ее голове.
Зачем терпеть побои, если можно их избежать, и сразу поставить этого жирного оборотня на место?.. Носик Софи поморщился, стоило ей подумать, что этот урод мог бить Кельнера, но вот рефери вышел на середину ринга, объявляя о начале боя, и Кох снова посмотрела на Кельнера.
* * *
— Меня в чем-то подозревают?
Агна Кельнер остановила пристальный взгляд на лице высокого полицейского, опережая его дальнейшие слова своим вопросом.
Сотрудник тайной полиции ответил девушке таким же внимательным, изучающим взглядом, широко расставил ноги, и, откинув вверх обложку маленького блокнота для записей, приготовился записывать показания фрау.
— Работаете на опережение, фрау Кельнер? — светлые глаза мужчины радостно сверкнули.
— Что?
— Задаете вопрос первой, надеясь выиграть время в разговоре, — терпеливо пояснил полицейский, помогая себе жестами. — Что ж, это даже забавно.
Он коротко рассмеялся, врезаясь проницательными взглядом в лицо Агны, покрытое веснушками.
...Свет ослеплял, и, казалось, нещадно жег кожу. Размяв шею, Кельнер легким, пружинистым шагом отошел от Хайде подальше. Пот застилал глаза, и проверять состояние старины Эриха Харри становилось все труднее. Главное, — не дать ему сбить ударом дыхание, и не сбиться с ритма самому. От вонючей смеси пота, духов и пива голова шла кругом. Эрих неслабо зацепил его двумя прямыми выпадами, — сначала по одному виску, потом по другому. Харри видел, что он метит в бровь, — туда, где по верным расчетам Хайде, должен проходить шов, оставшийся у Кельнера после их последней встречи, — допроса с не слишком большим, — при этой мысли Харри оскалился, — и даже маленьким пристрастием.
— Дата рождения? — эсесовец расставил ноги шире, прочно впечатывая их в подвальный пол модного дома фрау Гиббельс.
— 22 марта 1913 года, — медленно проговорила Агна, глядя на оберштурмфюрера снизу вверх, и удобнее села на стуле. — Что-то не так?
— Здесь я задаю вопросы, — мужчина в смерил ее взглядом очень светлых, почти прозрачных глаз, от пересечения с которыми Агне стало не по себе.
— Но согласитесь, это довольно... удивительно: учинять допрос даме вот так, во время рабочего дня, в модном доме самой Магды Гиббельс.
Девушка повела плечами и улыбнулась широкой, красивой улыбкой, при которой правый уголок ее губ нервно дернулся.
— Вы, может быть, и не дама, фрау Кельнер.
Сотрудник тайной полиции с удовольствием посмотрел на молодую женщину.
— Ваш социальный статус теперь, с принятием новых нюрнбергских законов, под вопросом. И отсюда вы вполне можете отправиться сначала в гестапо, а потом в тюрьму. Все зависит от того, что мы решим. Из гражданки рейха вы станете «подданной»… вам понятно, что это значит?
Агна уставилась на полицейского огромными от удивления глазами.
— Неужели вы думаете, что я — ев… еврейка?
— Пока ваши слова и наша проверка не докажут обратное. Место рождения?
— Город Эссен, федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия.
— Отец и мать?
— Погибли во время войны.
— Правда?
Агна изобразила волнение, и пристально посмотрела на эсэсовца. Так, что он не сразу смог отвести взгляд. Несколько секунд прошли в молчании.
— До войны отец работал на шахте Цольферайн. Мне было четыре, когда они умерли. Мама так и не смогла оправиться от смерти отца, умерла через полгода.
Полицейский с улыбкой посмотрел на Агну, наклонился вперед, рассматривая ее как любопытного зверя.
— И все-то они умерли… а вы — совсем одна, и такая храбрая, да?..
В тишине цокольного этажа раздался сухой хруст. Не отводя взгляда от лица Агны, полицейский поднес кулак к ее лицу, и разжал его. На ладони неровными обломками перекатывался черный карандаш. Вернее то, что от него осталось. Немигающим взглядом Агна смотрела на обломки карандаша. Она попыталась улыбнуться, но вместо этого громко сглотнула. Мужчина довольно хмыкнул.
— Кто же тогда вас воспитывал?
— Те… тетка. Благодаря ее связям я поступила в Мюнхенскую академию искусств.
— И там же познакомились с вашим мужем.
— В Мюнхене, да, — фрау Кельнер резко выпрямилась, напрасно пытаясь увеличить расстояние между собой и оберштурмфюрером.
Полицейский, забавляясь, постучал блокнотом по колену.
— Как-то все очень складно, фрау Кельнер. Не кажется ли вам удивительным то, что вы познакомились с вашим нынешним мужем в декабре….
— Тысяча девятьсот тридцать второго года.
— И уже 15 февраля следующего года поженились. Не слишком быстро?
Агна коснулась рыжих волос и медленно отвела их назад.
— Любовь, — глухо прошептала она, сжимая ладонь со следами, которые остались от нитей, в кулак.
— Давай, Эрих! Ну! Сам напросился на бой!
— Размочи его, как обещал!
— Или правду говорят, что это ты обмочил штаны, допрашивая Кельнера?!
— Эрих-только-на-словах-герой?
Совсем рядом загоготали глотки, докатываясь до слуха Кельнера отдаленной, глухой волной. Повернув голову вправо, он улыбнулся Эриху. Тот послушно и медленно шел прямо на него, подобный быку, приметившему красную тряпку, привлеченный то ли сумасшедшим оскалом Кельнера со смесью крови и слюны, то ли приглашающим знаком его руки.
Сюда, Эрих, ближе…
— Значит, вы утверждаете, что вы — арийка, не еврейка?
— Да.
— Что «да»?
— Арийка, не еврейка.
— Я плохо слышу.
Впившись ногтями в свежие порезы на руке, Агна Кельнер медленно и четко произнесла:
— Я — арийка, не еврейка.
Эсесовец медленно втянул носом воздух у самого лица девушки, почти касаясь ее щеки своими губами.
— Чувствуете?
Не дожидаясь ответа, он увлеченно, со страстью, объяснил:
— В воздухе нет никакой вони, значит...
Расчет Кельнера оказался неверным. Почему-то старина Эрих оказался рядом с ним гораздо быстрее, чем он мог ожидать: последовал еще один прямой…
— А ты неплохо… спра… — простонал Харри, оседая на настил ринга.
Лампочки заплясали над ним как сумасшедшие ведьмы, ускользая от его взгляда тонкими светлыми линиями. Он провалился в темную, красную тьму.
— …Может быть, вы и не еврейка.
Круто развернувшись на звонких при ходьбе каблуках лощеных сапог, эсесовец облегченно вздохнул.
— Знаете, фрау Кельнер, я даже этому рад. Как представлю, что нужно вести вас наверх, через все ателье, на глазах у швей и клиенток сообщать самой фрау Гиббельс, что мы вас забираем, везти в гестапо, снова спускать вас в подвал, потом — поднимать на допрос…
Высокий блондин достал из кармана брюк платок и картинно утер им несуществующий пот.
— Вы можете идти, фрау Кельнер.
Агна удивленно посмотрела на мужчину, и поднялась со стула, замедляя движения намеренно, — чтобы не показать ему свой страх, — и пошла к выходу из подвала.
Проходя мимо полицейского, она почувствовала, как он с силой сжал ее локоть, притягивая Агну к себе.
— Очень рад был познакомиться, фрау Кельнер. Очень. Рад.
...Предпоследний раунд, новые три минуты. На исходе предыдущей Эрих снова задел его, отвесив тяжелый удар в челюсть. И в ту секунду, когда перчатка Хайде смазала с лица Харри всякое выражение, он услышал женский крик, почти сразу заглушенный чем-то, может быть, ладонями. Узкими, тонкими ладонями, прижатыми к лицу с веснушками.
Эрих начал новый круг, и в памяти Кельнера мелькнуло лицо Элисон Эшби — потерянное, горькое, с неловкой улыбкой. Элис пришла к нему за помощью. В этот момент она совсем не пыталась казаться красивой, и именно потому в глазах Эдварда была настолько красивой, что его сердце ожгло болью. Хайде снова вышел на первый план, отчего лицо Эл потерялось, стерлось из памяти, и разум Харри затмила ярость.
…Первый из двух финальных раундов он еще видел перед собой старину Эриха. Тот закрывался руками, — локтями и кистями рук, спрятанными в перчатках. Отходил назад и в стороны, задевая канаты. Толпа ревела. Почему? Кельнеру это было не важно. Ярость и долгая боль требовали выхода, и он бил, бил, и бил Хайде. В какой-то момент Эрих извернулся, отбросил высокого Кельнера на ограждающий канат, но это только подстегнуло Харри, выбрасывая его вперед, как освобожденную пружину.
Раз, два, три… стой на месте, Эрих! Отвечай и стой! Не смей падать, не смей! Отвечай, отвечай на все вопросы! Говори, пока дикое одиночество не сожрет тебя. Говори, пока можешь, Эрих, и никогда, — слышишь! — ни-ко-гда не падай. Даже если все уйдут, исчезнут, умрут, разобьются, бросят, оставят и разделяться на красные куски, никогда, никогда, Эрих, не падай! Не смей, — ты должен держаться, такое было решение. Держись, Эрих! Только я сейчас не знаю, зачем? Не получилось так много, Эрих, так много! Я думал, — я вернулся к жизни, когда встретил ее. Я любил ее, как умел, но вышло все не так… а тебя, Хайде, твоя жена любит? Не ненавидит? Ее не тошнит от тебя? Она снится тебе ночами?…Я столько раз пытался понять, где ошибся впервые… Наверное, в самом начале, где были шляпка, вуаль, ослепительная улыбка ярких, зеленых глаз. Таких невероятных, что земля качалась под ногами, Эр… я стал пьяным ею, таким остервенело пьяным, что был уверен — она меня тоже любит. Ни одного сомнения, понимаешь? Только она, ее душа и тело, и моя дикая радость, — что снова могу дышать полной грудью, не опасаясь преследования приходящих во сне почти каждую ночь, мертвецов…
Бой еще не закончился, но Кельнер сбросил перчатку с руки, — отшвырнул ее сторону, — и с силой потянул обмякшего Хайде на себя.
Не смей падать, Эрих!
Харри хотел удержать Хайде, — чтобы он никогда не падал, но почувствовал, как его отвели в сторону, забрали у него соперника, отталкивая Харри к канатам, дальше и дальше.
Дальше и дальше.
Вперед и вверх.
Как было с мамой, когда она уже перестала дышать, а он все сидел рядом с ней, гладил мягкие, красно-белые волосы.
...Всякий звук замер, даже сам воздух, казалось, был недвижим. И Харри сделал вдох. Первый, настоящий — за все последние минуты боя. Растерев глаза руками, он постарался сфокусировать зрение на противоположном углу ринга. И увидел Эриха на полу. И кровь, и кричащих, взволнованных до истерики людей. Кто-то подскочил к рингу и схватил Харри за ногу. Послышались аплодисменты, хлопки, одобрительная ругань.
И Кельнер, наконец, увидел то, во что за последние шесть минут боя он превратил Эриха фон дер Хайде, сотрудника контрразведки концерна «Фарбениндустри». У того, кем в эту минуту был Эрих, не стало лица, — на его месте осталось только кровавое месиво, сплошное и неразличимое, скрадывающее собой все черты некогда человеческого лица.
Кельнер хотел поднять Хайде, но его снова остановили звонкими шлепками по обнаженной, потной груди.
— Полный нокаут, Кельнер! Полный!
Его похлапывают по плечам, разбитую правую руку Кельнера по очереди трясет какая-то нескончаемая вереница людей. Адреналин медленно стихает, осаживая кровь вниз, и он чувствует привкус железа во рту, вязнет в нем, наблюдая, словно со стороны, за собой и за своим телом, часто раскрашенным в красный. Все ту же правую руку Кельнера резко поднимают вверх, а на краешке его памяти бьется старая, корчащая ему знакомые рожи, мысль: он убил человека. Еще одного.
Милн уезжал рано утром и возвращался поздно вечером, а в последнее время — все чаще ночью. Эл пыталась поговорить с ним, но он лишь бросал на нее мимолетные взгляды, и возвращался к своим делам, уходя от нее все дальше, — на свою немую, необозримую глубину. А стоило ей начать разговор о том, что произошло между ними, как она оказывалась перед такой глухой стеной остранения, что глядя на замкнутое и темное лицо Милна, можно было решить, будто Элис в одночасье сошла с ума, и теперь разговаривает сама с собой.
Со временем, когда первая острота стихла, Милн перестал размышлять над тем, как отправить Элис обратно, в Лондон: в целях ее безопасности, но больше для того, чтобы не видеть ее, и не мучить себя этой близостью.
Со временем он снова приучил себя находиться рядом с ней, смиряя себя и сдерживая, и вынужден был признать, что ее присутствие в Берлине необходимо, — оно по умолчанию отвечало на массу негласно заданных вопросов, и продолжало работать на пользу их общепринятой легенде о том, как девушка, следуя за возлюбленным, приехала в Берлин. И столица мира настолько понравилась им, что именно здесь они решили пожениться.
Первые месяцы после ссоры Милн избегал Эл всеми возможными способами, хотя «избегал», пожалуй, слишком сильное слово для того, кто исчезал из собственного дома гораздо чаще, чем оставался в нем. Исчезновение давалось гораздо легче с тех пор, как Харри Кельнер обзавелся мотоциклом Harley Davidson.
Элис не раз видела, как он гоняет без шлема, на бешеной скорости. И каждый раз, когда в ночной темноте раздавался оглушительный шум мотоциклетного мотора, она подходила к окну и облегченно вздыхала, — с Милном все было в порядке. По крайней мере, внешне. Об ином, — о том, что происходило с ним, — он, конечно, с ней не говорил, пресекая любые попытки вторжения Эл на свою территорию так яростно и так четко, что она испытывала искренний страх перед тем, как решиться на новую попытку разговора с Эдвардом. Если бы у них все было хорошо, она бы обязательно попросила его ездить медленнее и тише, — хотя в глубине души чувствовала, как это, может быть, глупо, — но «хорошо» у них, Эдварда и Элис, не было. Оно было только у Харри и Агны Кельнер: четко выверенное, смеренное мерной ложкой хорошее, показанное ровно настолько, чтобы о них не расползлись в разные стороны, — подобно щупальцам глубоководного осьминога, — неверные, ненужные слухи.
Но стоило вниманию окружающих отвлечься от них, переключиться на новые объекты светской игры, как между Харри и Агной вырастал незримый вал молчания и немоты. И если Элис со своей стороны снова и снова пыталась обрушить хотя бы каким-нибудь способом глухую оборону Милна, то он продолжал убеждать себя в том, что ему больше не нужна любовь Эл, что он оставил ее в прошлом и совсем забыл, и что он, Эдвард Милн, вполне сможет жить дальше так, как он жил эти шесть месяцев, и, может быть, — кто знает? — довольно неплохо, и даже радостно.
Эл тяжело вздохнула, вспомнив, как вчера утром они столкнулись в столовой. Агна села за стол, пожелав Харри доброго утра, а когда Кайла подошла к ней с кофейником в руках, чтобы налить горячий кофе, Кельнер оторвал взгляд от очередного номера нацистской газеты, и попросил Кайлу принести его завтрак в библиотеку. Просьба была сказана таким ровным тоном, словно он сказал о том, как неплохо было бы сегодня вечером разжечь камин по причине того, что вечером становится холодно и сыро. Агна долго смотрела на него в попытке вызвать ответный взгляд, но, почувствовав это, Харри резко поднялся со стула, и вышел из столовой.
Сколько еще это будет длиться? Что еще она может сделать, чтобы все исправить? Если это можно «исправить»… Все время их ссоры Эл намеренно не давала себе покоя мыслями обо всем, что произошло. Растравленная душевная рана сильно болела, но именно сейчас ей, как никогда раньше, нужно было все разобрать и понять. Мысленно она все чаще обращалась к детству, Стиву, первому знакомству с Эдом в Ливерпуле, затем — в Лондоне… Ко всему, что между ними было, и что произошло с тех пор и до сегодняшнего дня.
Эл тяжело задышала, скручивая в узел белую простынь. Сердце становилось тяжелее с каждым днем, и все чаще на нее накатывала внезапная паника: ничего не вернуть, она ничего не сможет исправить. Паника душила ее ночью, во сне.
И тогда Агна Кельнер просыпалась с криком на губах, упираясь рукой в холодную подушку на пустой половине кровати, в попытке поскорее очнуться или найти в новом, страшном сне, — где смешивался хохот выжившего Стива и звук медленно падающего на землю мертвого Харри Кельнера, — хотя бы крохотную точку опоры.
Но в иных снах земля буквально уходила у нее из-под ног: светлые, звонкие туфельки на тонком каблуке становились красными. Элис расстреливала брата в упор, снова и снова, разряжая основную, — а за ней и запасную — обойму вальтера в его грудь, в голову, в самое сердце…. А он истерично хохотал и не умирал. Он поднимался, вставал, взлетал с булыжной мостовой, кружил над ней в попытке увести ее с собой, и убивал, и ранил Эдварда, который пытался схватить Эл за руку…
Кошмары чаще всего стихали при первых лучах солнца, и Элис сама не заметила, как оно стало для нее залогом спасения и света. Она все чаще не спала, или спала урывками, не подпуская к себе настоящий, глубокий сон, и все больше думала о том, что осталась абсолютно, бесконечно одна.
Мучительнее всего было осознание того, что она сама во всем виновата. В этом признании не было самолюбования или попытки пожалеть себя, — только бесконечная, постоянная, полынная горечь, которую она не знала, как унять. Ей казалось, что за прошедшие месяцы она передумала обо всем, обо всей своей жизни, и теперь была уверена в том, что Стив ее не любил: только терпел, дожидаясь, пока она повзрослеет, в надежде на то, что она сама отдаст ему деньги, оставшиеся от родителей.
Элис вздрогнула и повела плечами, крепче обнимая руками колени. Сбежать от этих мыслей было невозможно, — она пыталась. Чем дальше шли дни, тем яснее становилось то, что ее слепота в отношении собственного брата грозит стать тем, что разрушит ее, и остатки их отношений с Эдом… но что она знала о Стиве? Элис нетерпеливо отбросила волосы со лба, и крепко обняла голову руками. В ее детских воспоминаниях Стива было совсем немного, — гораздо больше родителей, образы которых теперь, кажется, окончательно поблекли и выцвели, — даже несмотря на то, что она старалась запомнить каждую черту в их лицах.
Папа. Мама. Стив.
Когда, после смерти родителей, они приехали в Ливерпуль вместе с тетей, брат начал готовиться к отъезду в Итон. Ему было четырнадцать, ей всего пять… Можно ли надеяться на объективность детских воспоминаний?
Эл перевела задумчивый взгляд на оконную раму, за которой раскинулась еще одна черная ночь. Перед ее внутренним взором возник Стив, — такой, каким она запомнила его в день отъезда в колледж. Он показался ей тогда слишком высоким, с огромными руками, похожими на раскинутые в разные стороны сухие ветки. Вот он наклоняется к Элис, быстро целует ее в щеку, еще быстрее прощается с тетей, и входная дверь с грохотом закрывается, долго после ухода Стива позвякивая в наступившей тишине дома хрустальным, звенящим звоном витражного стекла.
От воспоминаний стало душно и неуютно. Частое, неглубокое дыхание мешало ей вздохнуть, и сердце билось быстрее и быстрее. Блестящие, большие глаза Эл с волнением разглядывали темноту. Она откинула одеяло в сторону, и снова крепко обняла голову руками. Что-то не давало покоя, словно она наконец-то, за все это медленное, долгое, мучительное время, нашла нужный, но смутный, пока едва уловимый, след.
Или — тень следа, ускользающее предчувствие. Громко сглотнув, Элис уставилась в одну точку. Она всегда воспринимала Стива как любимого старшего брата. Слышала, как мама — далеким, звонким эхо в отрывках ее памяти, — говорила Стиву, что он должен заботиться о ней, об Элис. Потом родители умерли. Эл, Стив и их тетя спешно вернулись в Ливерпуль из Ирландии. И волшебное время эльфов с их сказочными песнями и танцами в бирюзово-звонких зарослях леса, закончилось.
Стив уехал в Итон. Ей говорили, что он обязательно станет приезжать домой на каникулы. Но его не было. Элис долго списывала это на учебу, думая, что брат слишком занят. Ведь там, за окнами их уютного дома, — большая жизнь. «Это тебе не Ливерпуль!» — так Стив однажды написал ей. А она все равно продолжала его ждать, не замечая очевидного.
Он не приедет.
Он ее не любит.
Она ему не нужна.
Элис беззвучно, невесело засмеялась. В его любви к ней она никогда не сомневалась. Даже тогда, когда в Рождество, встретившись впервые за несколько лет, Стив оттолкнул от себя Эл, которой тогда уже было тринадцать, и теперь уже она готовилась к скорому отъезду в школу. Вечер сочельника отчетливой, яркой картинкой вспыхнул перед Элис. Она и не думала, что помнит те события так ясно. Воспоминания яркими кадрами сменяли друг друга. Вот она, слишком взволнованная приездом Стива, порывисто обнимает его, не замечая никого и ничего вокруг. Его руки больно упираются в ее плечи, — он не желает, чтобы она обнимала его, тем более так крепко, и освобождается от ее слишком назойливых, сопливых объятий. И она, почему-то, не удивлена этому. То есть, конечно, да… Но когда Стив отталкивает ее от себя, она жестко улыбается, только углом губ. Потому что она знает правду. Ее взгляд, не задерживаясь, скользит по высокой фигуре Эдварда Милна. Их еще не представили друг другу, но то же самое сердце, которое знает, что Стив на самом деле ее не любит, узнает Эдварда Милна в том высоком молодом человеке, который смотрит на нее очень внимательно, и, кажется, даже с сочувствием.
Она наконец-то осмеливается посмотреть на его худую, вытянутую вверх, фигуру. Быстро, не слишком подробно, — как будто она совсем на него и не смотрит, — и сердце срывается вниз, и в жар, и в холод.
Эл убегает в свою комнату, пытается заглушить беспокойство мыслями о том, что подарить Эдварду на Рождество, — у него обязательно должен быть подарок. Но ничего не приходит на ум. Ее мысли рваными обрывками носятся между братом и Эдвардом Милном, и сердце Элис уже тогда шепчет ей то, от чего еще долго взрослая Элисон Эшби будет отмахиваться: Стив не любит ее. Она ему не нужна. Он никогда больше не приедет домой, — даже если, как сейчас, будет сидеть на первом этаже их родительского дома, в большой, уютной гостиной, украшенной к Рождеству гирляндами и елочными игрушками.
Невидимая слеза скатилась по щеке девушки. Стив уехал так же внезапно, как и появился. От встречи с ним в сердце и в памяти Эл надолго остались недоумение и горечь: почему он так себя ведет? Почему, к концу своего обучения в Итоне, совсем перестает писать ей письма? Где он был эти несколько лет после колледжа? Почему не приехал домой? И почему, — а главное, как — появился тогда на съезде в Нюрнберге? Эдвард был прав?.. Элис скрутило судорогой.
Она села на кровати, стараясь прийти в себя. От резких выдохов кружилась голова, но она снова и снова возвращалась к одному и тому же моменту: Стив схватил ее и повел за собой. О чем она думала в тот момент? Боялась, что он действительно отдаст ее Мосли?
Воспоминание яркой картинкой поднялось перед Элис, подводя ее к самому главному… Нет, не к моменту выстрела, и не к глухому стуку, с каким уже мертвый Стивен Эшби упал на мостовую старинного Нюрнберга.
Глаза Эдварда. Стив ведет ее за собой, больно сжав плечо, но Эдвард остается там, за ее спиной. Вздрогнув, она поворачивается и смотрит на него. Неужели это — все? Конец? Им нужно прощаться?.. Все подчинилось одному порыву, — Эл вывернулась из хватки брата, побежала к Эдварду, и, непонятно как, но сумела выстрелить в Стива прежде, чем он убил ее или Эда.
Я люблю тебя.
Простая и сложная истина.
Вечная, как мир.
Неоспоримая правда.
За нее можно умереть, если так выйдет. Но главное — защитить того, кого любишь. Хотя бы постараться. Сделать попытку. Эл свою сделала. Они были живы, оба. Но теперь, из-за ее боли и слепого гнева, они разведены по разные стороны глухой стены. Путаясь в простыни, Элис сорвалась с места и подбежала к зеркалу. Ей нужно видеть свое лицо.
Элис, почему ты все убила?
Долго, с гневом, она всматривалась в свое отражение, и не находила слов. Губы ломались и дрожали под напором невысказанной боли, слишком поздних сожалений. Воспоминания волнами набрасывались на нее, стоило только обратиться к ним.
Вот она заявила Эду, что их ребенок — это «ее дело», вот сбежала в Лондон, едва ли понимая, чем это может грозить Агне и Харри Кельнер по возвращении в Берлин. А если бы у них не оказалось внешних, благовидных предлогов для поездки? А в начале? Стоило только остановиться здесь, в городе, как Эл бросилась искать фрау Берхен, надеясь, что она поможет ей найти Стива. Как она вообще думала просить ее о помощи?.. Стив. Стив. Стив. Даже он, — при мысли об этом Элис захохотала, скрючившись перед зеркалом, — совсем не виноват в том, что она успела натворить за все это время, прикрываясь его поисками.
Он просто был тем, кем был: перешедшим на темную сторону ублюдком, для которого не осталось никаких границ. Нацизм, партия Мосли отлично согласовывались с ним, а он — с ними. А что она, Элисон Эшби? Наивная и слепая, не желающая замечать очевидных вещей, слишком увлеченная поисками своего доброго брата, чтобы услышать и увидеть хотя бы часть из того, что говорил и делал для нее Эдвард. Элис тихо осела на пол и закрыла лицо руками. Она — сестра Стивена, у них одна кровь. Может быть она — такая же, как он? Тоже гнилая? А родители? Могли бы они подумать, что их сын станет таким? Или не «станет», а «был»? Всегда таким был? И Эдвард. Тогда, во время их разговора в машине, в Нюрнберге, он словно не был удивлен тому окружению, в котором Эл нашла брата… Эд знал? Он что-то знает?.. Он никогда подробно не говорил с ней о Стиве, только спрашивал. Снова и снова — медленно и терпеливо успокаивая все ее тревоги и необдуманные порывы. Черт бы их побрал! Черт бы побрал тебя, Элисон Эшби! Ты во всем виновата!.. Ты даже не подумала о том, что будешь делать, когда найдешь Стива. Уедешь с ним «домой»? Но для Стива родительский дом давно перестал существовать, теперь и у тебя нет дома, только видимость благополучия и роль Агны, от которой ты не имеешь права отступать.
Но все могло быть гораздо хуже, знаешь? Тебе очень повезло, Эл. Эдвард столько раз спасал тебя. Ты могла быть изнасилована Гиббельсом, Гирингом, Биттрихом… Пока судьба и Эд берегут тебя, но что может быть дальше? Черные в темноте, глаза Элис зло осмотрели комнату, останавливаясь на двуспальной кровати. Зато Стив, похоже, хорошо знал, что он станет делать с тобой. «Ты ему понравишься!». И поцелуй. Такой была его «братская» любовь. А если бы не Эдвард, кто знает, где бы сейчас ты была. Оставить Эдварда в Берлине, посреди всего этого, и уехать со Стивом? Элис резко покачала головой. Она могла заблуждаться в чем угодно, она могла упрямо продолжать любить образ своего брата таким, каким он был только в ее наивных воспоминаниях, но она знала, чувствовала точно — она не смогла бы оставить Эдварда. И все произошло так, как произошло: она убила своего брата в попытке защитить того, кого действительно любила, — неровно, неуклюже, жестоко. Ее любовь не грела, — теперь это тоже было ясно.
Элис запомнит тот выстрел на всю жизнь, — с того вечера в переулке Нюрнберга, и до конца. Это уже не изменить. Может быть, ей будет больно всегда. Но сейчас она очень далека от своей последней минуты. И может быть, у нее еще есть хотя бы маленький шанс исправить то, что она разрушила?
Эл поднялась, выпрямляясь во всю высоту своего небольшого роста, стянула с кресла плед и вышла из спальни. Эдвард Милн был единственным, кто любил ее. Даже вопреки самой Эл, ее безумной гордости, за которой пряталось много одиночества, страха и эгоизма. Она скажет ему об этом, попросит простить ее за все большие и мелкие раны, которые она нанесла ему, его гордости. Захочет ли он слушать ее? С учетом их последнего разговора, — вряд ли. Но она попробует. Подойдя к двери, ведущей в комнату Эдварда, Элис нажала на ручку.
* * *
Поднявшись на площадку третьего этажа, Милн остановился на месте, и, подойдя ближе, присел перед спящей Эл. Она сидела на полу, закутавшись в плед, и прислонившись спиной к запертой двери. Эдвард с любопытством посмотрел на нее и обернулся, провожая взглядом луч лунного света, протянутого через окно. Своим окончанием он освещал часть фигуры Элис.
Милн быстро поднялся, не сразу вспомнив, как именно он выглядит после поединка с Хайде. А выглядел он ужасно. Или, по меньшей мере, очень впечатляюще. Не успел он отойти от допроса, учиненного Эрихом, как уже встретил его на ринге. Наверное, единственным утешением могло служить то, что Хайде сейчас выглядел гораздо хуже Кельнера: Харри, по крайней мере, пришел домой на своих ногах, а Эрих... От резкого, необдуманного движения Милн зашипел и поморщился, прислоняя ладонь к голове, словно это могло унять звенящую боль и головокружение.
При повороте ключа замок громко щелкнул, уходя назад. От сухого, заряженного звука Элис вздрогнула и проснулась, сонно проводя рукой по обнаженному плечу, которое щекотал край пальто Милна. Подняв глаза на высокую фигуру, почти скрытую в темноте, она торопливо поднялась.
— Я ждала тебя.
Еще немного, — небольшой поворот головы, — и Эдвард посмотрел бы на нее. Но он намеренно остановил движение, толкнул плечом дверь, вошел в комнату.
— Нет, подожди! — Элис крикнула, останавливая его.
Голубые глаза скользнули по ее лицу. Пожав плечом, он прошел в комнату, и щелкнул настенным выключателем. Спальня резко осветилась ярким, почти белым, светом. Элис, как и в прошлый раз, нерешительно остановилась на пороге комнаты, с волнением наблюдая за тем, как Милн срывает с себя одежду.
Черный широкий шарф, темно-серое пальто, пиджак — все было сброшено на подлокотник темно-красного бархатного дивана, по верхней грани которого изящным узором бежала деревянная резная грань, покрытая блестящим лаком. Расстегнув верхние пуговицы рубашки, Милн вдруг остановился, и повернулся к Элис.
— Говори. Или это, — он вытянул голову вперед, указывая подбородком на место у двери, где по-прежнему стояла Эшби. — Все, на что тебя хватает?
Элис перевела на Эдварда быстрый, — растерянный и сердитый от прозвучавшей колкости, — взгляд, и испуганно вскрикнула.
— Что с тобой случилось?! Что случилось?
Подбежав к Милну, она прикоснулась к разбитому лицу Эдварда, но он поймал ее за запястье и отвел руку Элис в сторону.
— Тебя уже не тошнит?
Милн посмотрел на Эл одним, — не заплывшим, — блестящим глазом.
Если бы Эдвард мог, то он непременно улыбнулся бы и посмеялся над самим собой, над всей этой ситуацией и над тем, как намерение Эл поговорить не соответствует всему, особенно — его внешнему виду. Но у него была только боль. Он чувствует только боль. В лице, во всем теле. Если Элисон действительно хочет с ним говорить, то должна учесть настоящий момент, в котором лицо Эдварда Милна едва ли могло четко выражать какие-либо эмоции кроме боли и желания унять боль. Подняв голову вверх, Элис ответила Эдварду долгим взглядом. Наполненный волнением и страхом, он медленно скользил по лицу Милна, и оторвался от него тогда, когда глаза Эл наполнились слезами. Долго никто из них не говорил ни слова. Страшная улыбка кривила разбитые губы Милна, в углах которых то бежала, то останавливалась смазанная его рукой, кровь. Раны сильно ныли, — он часто касался разъеденных кровью губ языком, не давая красным каплям застыть на месте, или смахивая все новые и новые набегающие капли быстрым движением пальцев. Милн дернулся от непроизвольной волны боли, пробежавшей по телу, и опустил голову вниз.
— Это глупо.
— Я пришла поговорить, — упрямо сказала Элис. — И не уйду… Что случилось, Харри? Кто тебя избил?
Эдвард посмотрел на циферблат наручных часов.
— Через пятнадцать минут я уезжаю на встречу с руководством «Фарбен». Мое начальство настаивает на том, чтобы приглашенные сотрудники пришли в сопровождении своих любовниц или жен.
Элис покраснела.
— «Любовниц или жен»?
Милн пожал плечами, снова вздрогнув от боли.
— Можешь не идти… Плевать.
Он тяжело опустился в кресло, растирая шею разбитыми руками.
— Я пойду.
Элис ушла, и тишина снова, — как и раньше, на протяжении всех этих долгих месяцев, начала поглощать Милна. Он позволил ей забрать себя совсем немного, — не так, как раньше. Боль лизнула ярко-алые костяшки его пальцев и просительно уставилась на Эдварда щенячьими глазами. Не отозвавшись, он поднялся из кресла, запрещая горечи или любви касаться невидимых развалов. Может быть, все раны заживают.
Его сердце затягивалось. Пусть и очень медленно, но он учил себя быть рядом с Эл, и быть без нее. В конечном счете, жизнь без любви — не самое страшное, что может произойти. В этом он не был первым, и в этом не было никакой трагедии.
* * *
При виде Гиллера Агна крепче сжала бокал с шампанским и подняла подбородок чуть выше. Хозяин СС, которого в начале никто не воспринимал всерьез, подошел к ним твердым, уверенным шагом, и перевел свои маленькие глазки, — про которые говорили, что их взгляд невозможно поймать, поскольку они никогда не задерживаются на лице оппонента, — на раздутое лицо Кельнера.
Тонкие, бесцветные губы одного из главных «Г» рейха чуть изогнулись. Верхняя губа ненадолго уползла вверх, под аккуратно выстриженные, едва заметные усики. Несколько секунд Гиллер молча рассматривал Харри, добавив после осмотра:
— Вы провели сегодня блестящий бой.
— Благодарю, рейхсфюрер.
Кельнер кивнул, удерживая спину прямой, и Агна, наблюдавшая за ним, заметила, что он дрожит и старательно пытается это скрыть. Придерживая свою руку за локоть, Харри посмотрел на рейхсфюрера вопросительным взглядом, и главный агроном третьего рейха, — бредивший, между прочим, тем, что от всякой болезни должно найти природное, естественное, а не специально изготовленное фармацевтами средство, — сухо добавил:
— Гиббельс весьма впечатлен вами. Говорит, что со временем вы наверняка сможете обойти даже Макса Шмелинга.
— Это лестно слышать, но, думаю, мне очень далеко до него.
Гиллер помолчал, пожевывая губами.
— Даже мне понравилось то, что вы сделали: отправили в нокаут того, кто некогда допрашивал вас. Невероятно приятное ощущение, не так ли?
— Безусловно, — с обаятельной улыбкой отозвался Харри, старательно удерживая спину прямой. — Надеюсь, мой внешний вид не оскорбляет вас?
— Бросьте эти глупости, Кельнер. В сегодняшнем бою вы доказали главное — превосходство арийской расы над всякими другими. Вы — превосходный экземпляр, и я рад, что вы с нами. Хотя не всем везет так же, да, фрау Кельнер?
Гиллер осмотрел лицо и фигуру девушки.
— Вот вы, например. Рыжие волосы, маленький рост… Надеюсь, офицер гестапо, который допрашивал вас сегодня, разберется в вашей истории очень подробно. Мы не можем допустить, чтобы рядом с безупречным образцом чистой арийской крови были полукровки, подобные вам.
В разговоре возникла пауза. Харри вытянул руки вдоль тела и впервые за вечер открыто посмотрел на Агну, взглядом спрашивая о допросе. А Гиллер, который вовсе и не ждал комментариев к своим словам, подумав о чем-то, произнес вслух:
— Но я хотел говорить с вами о другом. Я не доверяю лекарственным препаратам, герр Кельнер. Все эти изобретенные лекарственные средства — профанация, отторгающая нас от естественной природы. Вот вы, например, этим и занимаетесь.
— Мне доверена работа в компании «Байер», рейхсфюрер.
— И весь этот аспирин… Считаете, что лучше выпить химию, таблетку, чем помочь самому себе, и снять боль природными средствами?
Кельнер набрал в грудь побольше воздуха, готовясь ответить, но в разговор вмешался звонкий женский голос.
— Прошу извинить… Добрый вечер, — протянула девушка, картинно надувая губы от осознания собственной вины. — Я не хотела мешать, только хотела сказать, герр Кельнер, как я рада вашей победе в сегодняшнем поединке! Вы были великолепны!
Агна посмотрела на Харри, переступила с ноги на ногу, и звонко стукнула каблуками вечерних туфель. Именно этот звук обратил на нее сухое внимание Гиллера и вопросительно-удивленное — только что подошедшей блондинки.
— О, я вас не заметила! Вы фрау Кельнер? Вы тоже были на поединке, видели этот восхитительный бой?
Светлые глаза Софи с улыбкой посмотрели на Агну, но в глубине этого взгляда мелькнуло едва уловимое выражение, и рука девушки легла на сгиб руки Харри.
Раздались первые аккорды музыки, Софи взглядом спросила Кельнера, не потанцует ли он с ней? Харри повернул голову в сторону рейхсфюрера, извиняясь за прерванный разговор, и, получил в ответ четкий кивок прилизанной головы.
— Фройляйн Кох, пожалуйста. Рад снова вас видеть, — Гиллер медленно улыбнулся, внимательно глядя на Софи. — Танцуйте, Кельнер, мы договорим позднее.
Харри кивнул, приподнимая согнутую в локте руку чуть выше, и Софи с улыбкой положила ладонь на рукав его черного пиджака.
Пара отошла в сторону танцевального круга. Около минуты Гиллер придирчиво рассматривал их первые движения в медленном танце, а после позволил себе еще одну, — более краткую, и едва заметную, — улыбку.
Что касается Агны, то она так пристально следила за Харри, что не заметила, как рейхсфюрер, довольный ее реакцией, тихо ушел, оставив фрау Кельнер одну.
Наконец, танец кончился. Софи улыбнулась Кельнеру, а он, коротко что-то сказав ей, отошел к группе мужчин, беседа которых прерывалась частым, громким смехом. Увидев Харри, они посторонились, пропуская его в свой небольшой круг, и одновременно вскинули руки вверх.
Покончив с приветствием, мужчины принялись хлопать его по плечу, по-видимому, поздравляя Кельнера все с той же победой в боксерском матче, о котором Агна узнала только несколько минут назад. Впрочем, этот неизвестный ей бой, который стольких людей вокруг приводил в восторг, — а Харри Кельнера сделал едва ли не героем сегодняшнего собрания, — был только малой частью того айсберга по имени «Эдвард Милн», о котором у нее, по большому счету, не было никакой информации.
Агна громко сглотнула, поморщившись от сухости в горле, и поставила бокал с шампанским на серебряный поднос. Та решимость, с которой она несколько часов назад сидела под дверью комнаты Харри, намереваясь поговорить с ним, почти исчезла.
А вот беседа, к которой присоединился Кельнер, с его приходом стала только оживленнее. Но, наблюдая за мужчинами короткими, не слишком частыми взглядами, Агна заметила, что их разговор, несмотря на бурное веселье, царившее среди них, шел на сниженных тонах. Так, что посторонний, даже если бы захотел, не смог понять или уловить суть беседы, а запомнил бы, в итоге, только одно — самих мужчин, ведущих веселый и легкий разговор. Взгляд Агны медленно и плавно скользил по комнате, отмечая людей, которые, как и Харри Кельнер, вели светские беседы в небольших группах.
С легкой, приветливой улыбкой фрау Кельнер посмотрела на редких, скучающих дам, которые, в отличие от мужчин, не разговаривали друг с другом, — самое большее, что они делали, — это измеряли друг друга колючими, высокомерными взглядами возможных соперниц.
Фрау Кельнер почувствовала на себе несколько таких, но продолжала держать на лице ничего не значащую улыбку, время от времени скрывая губы за высоким бокалом с шампанским, который она снова взяла в правую руку.
Блондинку, танцевавшую с Харри, больше нигде не было видно, и Агна облегченно вздохнула. Харри шел к ней, улыбаясь чему-то, но когда он остановился рядом с фрау Кельнер, улыбка сползла с его лица, и он лишь кратко сказал, что они могут уйти.
Девушка подняла голову и внимательно посмотрела на него. Но то ли от беспокойства, то ли потому, что в обезображенном сильными ударами лице Харри она, как ни старалась, не могла узнать прежнего Эдварда, Агна не смогла ничего рассмотреть в этих чертах. Ничего, что подсказало бы ответы хотя бы на малую часть тех вопросов, которые ее беспокоили. Агна кивнула и взяла Харри под руку. А когда ее ладонь легла на ткань его пиджака, в голове пронеслась ядовитая мысль о том, что точно так же он держал Софи. Отогнав раздражение, Агна втянула в легкие воздух, плотнее сжимая полные губы. Несколько шагов, звонкий стук каблуков по мраморному крыльцу, волна ночного воздуха охлаждает горячие щеки, — и дышать становится легче, волнение постепенно стихает.
А дальше — знакомое сочетание звуков и ощущений: все тот же «Мерседес», на котором Харри и Агна два года назад показались в центре Берлина, на Курфюрстендамм, привозит их к дому Кельнеров в Груневальд. В этом доме целых три этажа, — им есть, куда разойтись, — и синяя, — сейчас, в темноте, черная, — крыша. И все тот же шорох гравия под автомобильными шинами: звучит так, словно проникает внутрь тебя, заполняя, по камешку, грудную клетку и подступая к самому горлу.
Эдвард вышел из машины и широким, пружинистым шагом пошел к дому, не дожидаясь Элис. Милн явно торопился, — пройдя прямо в библиотеку, и плотно закрыв за собой дверь, он почти подбежал к невидимой створке. Она поворачивается, когда Эдвард нажимает на нужную кнопку, и пропускает его в небольшую комнату, из которой однажды Элис уже выбегала с чемоданом в руках. Именно с этим, — самым обычным на вид, в котором они по-прежнему хранят рацию для связи с центром.
Открыв чемодан, Эдвард быстрым взглядом осмотрел его содержимое, и звонко закрыл блестящие замки, установив на каждом из них два разных кода, известных только ему и Элис.
Все шло по плану: он закрыл дверь потайной комнаты, потом — дверь в библиотеку, после нее — входную, торопясь, перепрыгнул через ступеньки крыльца, резко открыл блестящую дверцу автомобиля, повернулся, и увидел плачущую Эл.
Раньше он бы успокоил ее, — судорога пройдет быстрее, если положить ладонь на спину Элис, в маленький невидимый треугольник между лопатками. Но так было бы раньше. А сейчас Харри, отводя глаза в сторону, скупо говорит, чтобы она шла домой.
— У меня дела, Агна. Нужно ехать.
Она подходит к нему близко-близко, поднимает голову вверх, со злостью смахивая слезы с лица, и смотрит прямо на него, в его разбитое, заплывшее лицо. Смотрит долго, блестящими, огромными глазами. И ничего не говорит.
Только продолжает вглядываться в его глаза, а потом обходит машину, и садится на сидение. Она едет с Харри, хочет он того или нет. Судя по выражению его лица, он совсем этого не ожидал. Наоборот, — рассчитывал, что Агна послушает его, вернется в дом, а он сам передаст срочное сообщение в Лондон. Но… не мог же он вытолкнуть ее из машины. Харри тяжело вздыхает, приглаживает волосы ладонью, и садится за руль. Он не может высадить Агну из машины. Потому что иначе он будет вынужден прикоснуться к ней..
* * *
Их дом и весь Груневальд давно остались позади. В машине повисла тишина, а Элис по-прежнему не знала, куда они едут. Глядя на полуголые ветки осенних деревьев, высвеченные из темноты полукружьем автомобильных фар, она испытывала что-то вроде завороженного страха. Неизвестность пугала, но Эл напоминала себе, что рядом с ней Эдвард, а значит, ничего плохого случиться не может.
Пару раз, когда машина приближалась к яркому уличному фонарю, — и в ту секунду, когда они скользили под этим потоком яркого, слепящего света, — она бросала взгляд на Милна. И вспоминала сегодняшний вечер, снова спотыкаясь о какую-то смутную тревогу, которую и сейчас не могла выразить в словах. Это было что-то мимолетное, — короче мгновения, — что она заметила в Эдварде. В его лице? Фигуре? Взгляде? Ответа не было.
Но Эл снова возвращалась к этому ощущению, надеясь распознать его. Как легко, как свободно он говорил сначала с Гиллером, а потом с другими нацистами. Даже несмотря на изувеченное лицо, от Харри Кельнера исходила волна уверенности и… азарта.
Элис хорошо помнила их первый «выход в свет» и те скупые, осторожные интонации, с которыми Харри произносил слова в разговоре с Гиббельсом. Но сегодня все было иначе. Ей вдруг вспомнилась та ирония в разговоре все с тем же министром пропаганды, когда Кельнер сказал:
— ...Я потратил на покупку машины все деньги, что тогда у меня были, хотел впечатлить будущую фрау Кельнер.
— Удалось?
— Вряд ли.
Элис передернула плечами, вспомнив, как захохотал Гиббельс, оценивший чувство юмора Харри Кельнера.
«Хотел впечатлить будущую фрау Кельнер».
«Хотел впечатлить будущую…»
«Хотел… будущую…»
Стоило ослабить внимание, как к горлу снова подступил страх. Нет, это невозможно, этого не может быть, — чтобы Эд… Но куда они едут? Элис не сразу поняла, что машина остановилась.
Вокруг них была тишина, и только слишком громкие, — в окружающем безмолвии, — звуки: от движений Эдварда, закрытого багажника, его шагов. Элис заметила в руках Милна чемодан, в котором они хранили передатчик, и облегченно вздохнула, сама не понимая, чего именно она так испугалась.
Положив чемодан на колени, Милн открыл его, быстрым взглядом проверяя все ли на месте. Соединив все детали, он надел наушники, еще раз посветил карманным фонариком на исписанный срочным сообщением лист, и тихо зашептал, очевидно, повторяя написанное, которое и без того наверняка отлично помнил наизусть.
Два пальца его правой руки, — указательный и средний, — зависли над черной, отполированной частыми прикосновениями лапкой переносной станции. В тишине Элис расслышала его глубокий, медленный выдох, и в следующую секунду в Лондон, по одной из радиоволн, побежало срочное сообщение:
«Отвечая на ваш вопрос, сообщаю, что мировой алюминиевый картель, созданный, по слухам, при участии Германии и США, действительно существует. В промежутке между 1928 и 1931-32 годами… все члены картеля, за исключением самой Германии, обязаны выдерживать политику ограничения производства небольшими масштабами… В картеле Германию представляют «Ферейнигте алюминиумверке» и «Алюминиумверке», вторая фирма — филиал «ИГ «Фарбениндустри», в состав которой входит и компания «Байер». Также…»
Эл вовремя заметила, что фонарь в руке Милна погас. Эдвард резко встряхнул его свободной рукой, но он, вспыхнув тусклым светом, погас. Милн швырнул его в сторону и на несколько секунд закрыл глаза, чтобы сосредоточиться.
Надо что-то делать.
Нужен свет!
Время уходит!
Элис посмотрела назад, перегнулась через спинку переднего сидения. Если она правильно помнит… где-то здесь… должен… быть… ее пальцы уперлись в деревянный ящик, спрятанный в одной из секретных ниш автомобиля, которые чаще всего использовались для перевозки оружия. В точно таком же Grosser Mersedes Грубера, в тех же нишах, возили именно огнестрельное оружие. Элис усмехнулась в темноте, открывая ящик, — что только не узнаешь из разговоров посетительниц модного дома фрау Магды Гиббельс.
Холодный корпус нового фонаря приятно скользнул по руке Эл, она вернулась на прежнее место, и включила фонарь. Свет ослепил Милна, и он поморщился, закрывая тот глаз, который не заплыл от ударов Хайде. Милн выглядел растерянным. Но вот Эдвард посмотрел на Элис, и снова перевел взгляд на лист с сообщением. Передача возобновилась, прерванный звук передатчика торопливо отправлял последние данные:
«...Примерно год назад, в 1934 году, на одном из закрытых собраний, владельцы немецких фирм заявили, что намерены увеличить свое производство сверх установленной для них нормы… Им разрешили это с тем условием, что они обещают продавать излишки продукции только на внутреннем рынке, не вызывая волнений на мировом… В ответ на ваш вопрос об алюминии сообщаю, что это один из новых металлов, он имеет много преимуществ перед другими металлами… незаменим для ведения войны, к которой упорно готовится Германия, несмотря на все обратные заверения, которые звучат с этой стороны для других стран.
Француз».
Пауза из-за погасшего фонаря заняла двадцать секунд, передача всего сообщения, без учета перерыва, длилась одну минуту и пять секунд. Элис проверила время по часам, снова оглянулась по сторонам, и, откинувшись на спинку переднего сидения, громко выдохнула.
* * *
— Спасибо.
Слово прозвучало где-то высоко, над головой Эл. Милн прижал ладонь к лицу и отвел ее в сторону, хмуро рассматривая следы крови и сукровицы на коже.
— Нужно выпить обезболивающее, я принесу.
Элис пошла в сторону кухни.
— Нет.
Девушка остановилась и устало покачала головой.
— Почему ты такой?… Не разрешаешь помочь. Тебе же нужна помощь!
Глаза Милна заблестели, но он сдержался, ответив только:
— Беру пример с тебя. Не делай вид, что тебе не все равно.
— Я буду делать такой вид, какой захочу, и мне не все равно! — Элис кричала, четко выговаривая каждое слово. — Мне не нравится то, что происходит сейчас!
Милн уже занес ногу над нижней ступенькой лестницы, но остановился, насмешливо глядя на Элис.
— А что происходит сейчас?
Он повернулся спиной к перилам, опираясь на них, и скрещивая руки на груди.
— Ничего! Вот именно, что ничего! Неужели ты думаешь, что так можно?
В волнении Элис посмотрела на свою ладонь, изрезанную бледными линиями, — следами от ниток, которыми она часто заматывала руки,— и сжала правую руку в кулак, больно врезая ногти в кожу. Милн поудобнее переставил длинные ноги и выпрямился, немного покачиваясь из стороны в сторону.
— Я ничего не думаю, Агна. Мне плевать.
— Нет, неправда!... Полгода… Харри, пожалуйста, поговори со мной!
Милн отрицательно покачал головой, и повернулся, чтобы уйти.
— Я не верю, что тебе все равно!
— Мне плевать.
— Нет, неправда!
Элис крикнула и закрыла уши руками. Несколько секунд прошло в гнетущей тишине. Глядя в упор на Эдварда, она тихо и четко произнесла:
— Ты просто боишься говорить о том, что случилось!
Милн удивленно посмотрел на нее, а потом захохотал, разглядывая Элис так, что ее сердце похолодело от страха. Этот взгляд она уже замечала в нем, один или два раза. Он был точно таким же, как у них. Память услужливо показала Элис лицо ее брата за несколько секунд до смерти. В тот вечер, когда она выстрелила в него, эти секунды растянулись для нее на долгие, как жизнь дряхлого старика, часы.
Но это был обман памяти: на самом деле все уложилось в несколько мгновений. А до этого момента, на лице Стива в тот вечер она часто замечала именно это выражение: именно с ним он наклонился к ней в переулке, насильно целуя в губы. Именно с ним он осел на мостовую, раненный. Именно с ним он умер, сказав то, что она не могла вырезать из своей памяти: «Мы… победим!». Воспоминание обожгло Эл, и ускользнуло, вильнув на прощание острым, как жало, хвостом. Оно обязательно вернется. Потом. А сейчас она по-прежнему стоит перед Эдвардом Милном, и хотя смотрит прямо на него, его лица она не видит. Она видит только его ухмылку — как у них.
— Если тебя послушать, Агна, то я довольно скверный человек: то страшно завидую твоему брату, то боюсь разговоров.
Губы Милна дрогнули, уводя горькую усмешку в угол. Зажав рот рукой, Элис долго, до боли в глазах, смотрит на него, и, наконец, тихо произносит:
— Я сделала тебе очень больно… Прости меня.
Звуки доходят до нее издалека, будто поднятые со дна глухой волной. Плечи Эдварда все еще немного трясутся от стихающего смеха, который постепенно переходит в крупную дрожь. Она пробивает Милна насквозь, но он, старательно игнорируя ее, поворачивается и медленно шагает по лестнице. Эдвард тяжело заходит в спальню, на пути, с большими остановками, стягивая с себя одежду. Элис идет следом, останавливается за его спиной.
Услышав ее, Милн оглядывается, и с усмешкой смотрит на девушку, медленно приближаясь к ней.
Зажав между большим и указательным пальцем темно-рыжую прядь волос Эл, он наклоняется, с любопытством рассматривая испуганное лицо девушки. Блестящий взгляд Милна не спеша проходится по губам Эл, — за мгновение до сухого, жесткого поцелуя. Наклонившись, Эдвард отмечает, как красиво, — у краешек ее век, — блестят набежавшие слезы. Коснувшись губами губ Элис, он улыбается, — она не отстранилась. Наоборот, — ждала, хотела поцеловать. Но он сам прекратил поцелуй. Сохраняя прежний взгляд, который так напугал ее, Эдвард улыбается шире, и медленно проводит большим пальцем по влажным губам Элис. Она смотрит на него туманным, радостным взглядом, и шепчет:
— Прости меня, прости за все! Не знаю, как я…
Ее лицо покорно приникло к его ладони. Взгляд Эл скользнул по голой груди Эдварда, по багровому от ударов плечу.
— Я ошиблась. Во всем… Он никогда не любил меня, а я была упрямой и глупой, чтобы понять…
— Теперь у тебя есть много времени для этого…
Милн наклонился, отодвигая в сторону воротник платья Эл, и целуя ее шею.
— Я хочу все вернуть…
— Мы все вернем, Агна Кельнер, вот увидишь…
Восстанавливая молчание, Эдвард коснулся указательным пальцем ее губ, и снова склонился над ней, расстегивая лиф платья.
— Нам надо поговорить… Ты можешь простить меня?
В ее голосе звучала тревога, но Милн не слушал Эл. Девушка повернулась, пытаясь поймать его взгляд.
— П-потом… — глухо прохрипел он, целуя ее. — Потом…
Элис застыла и тряхнула головой, отгоняя дурман.
— Эд, Эдвард… подожди… остановись.
— Что такое… Агна? Больше… не хочешь?..
Голос Милна осел в долгих, хриплых паузах.
— Что?
— Ты можешь меня простить?
Элис осторожно, почти невесомо, прикоснулась к разбитому лицу Эдварда. Он проследил взглядом за ее рукой, отошел от девушки и остановился.
— Ты этого хочешь?
Элис кивнула.
— Мы можем неплохо провести время и заняться сексом, Агна. Или ты просто уйдешь отсюда. Но… — Милн сделал глубокий вдох, поморщившись от боли. — …Никакого «прощения», никаких разговоров о прощении. Я не хочу этого.
Элис собралась что-то сказать, но осеклась, с волнением смотря на Эдварда.
— Ты таким не был… Когда ты стал таким?
— Каким? — со смехом уточнил Милн, скрещивая руки на обнаженной груди.
— Как они! Твой взгляд!
— Хватит, Агна, довольно!..
Милн раздраженно посмотрел на Элис, но когда злость утихла, в его взгляде снова загорелось желание.
— Так что ты решила? Остаешься или, как всегда, убегаешь?
Элис подошла к двери и дернула за ручку. Но прежде, чем она вышла, вслед ей раздалось: — Я слишком хорошо помню, что ты меня ненавидишь… Эл.
Девушка застыла на месте. Повернувшись, она посмотрела на Милна, и медленно вернулась к нему.
— Это все, что ты помнишь? Из всего, что было, ты помнишь только это? Слова, сказанные мной через несколько дней после того, как я впервые убила человека, которым оказался мой собственный брат, найти которого я наивно мечтала все это время, и ради поисков которого оказалась здесь? А перед этим мы были на допросе в гестапо, потом я потеряла нашего ребенка и узнала о твоей измене, которая была тогда, когда я… — Эл задохнулась и остановилась на несколько секунд , — если так… Если это все, что ты предпочитаешь помнить, тогда…
Не оглядываясь, и не отводя взгляда от Эдварда, Элис отошла назад, беззвучно шагая по ковру босыми ногами.
— Наверное, мне стоит принять твое щедрое предложение?
Остановившись напротив Милна, она расстегнула платье, и отпустила тонкую ткань.
Платье черной, блестящей лужицей мягко скользнуло вниз. Переступив через нее, Элис остановилась и посмотрела на свои ноги и кружевной край нижней сорочки, едва прикрывавшей ее бедра.
При каждом шаге шелк мягко переливался, привлекая и без того прикованный к ней взгляд Милна. Эдвард следил за каждым ее движением с таким вниманием, что казалось, будто его взгляд проникает под кожу, становясь второй плотью, сотканной из боли и желания. Элис остановилась в шаге от Эдварда, ожидая его реакции, но он, тяжело сглотнув, только молча смотрел на нее горящим, воспаленным глазом, избежавшим удара Хайде во время боксерского поединка.
— Ну? Что ты?..
Голос девушки дрогнул, когда она, сократив оставшийся между ними шаг, прижалась к Эдварду всем телом, и положила его руку на свою талию. Рука соскользнула, стоило Эл отпустить ее.
— Или тебе больше нравится так?
Она снова сжала ладонь Милна, с силой прижимая ее к своей груди, очертания которой проступали через тонкую сорочку. Почувствовав, как он убирает руку, она схватила ее изо всех сил.
— Что ты?.. Бери!
Ей хотелось знать выражение его глаз, и она заглядывала в лицо Милна снизу вверх, — взглядом, не упускающим не единой перемены в его лице. Эл ждала, пристально рассматривая его лицо, но он опустил голову вниз и отвернулся.
— Прости.
Темно-зеленые глаза заблестели от слез. Предметы, Милн, она сама, — все рушилось, снова расплывалось в кляксы, и Эл сама не заметила, как отпустила руку Эдварда, поворачиваясь к нему спиной. Судорожно сглотнув, она с усилием подавила рыдания, стараясь, чтобы ее голос звучал как можно тверже.
— Я пришла… просить прощения. У тебя. За всю боль, кот… которую причинила…—Элис вытерла слезы и посмотрела на Милна. — Прости. Ты можешь простить меня? Я не ненавижу… как я могу?.. Ты всегда был со мной, даже когда я была гадкой…
— Ты никогда не была гадкой, — тихо произнес Эдвард, нерешительно обводя дрожащие руки вокруг Эл, и аккуратно сжимая их вокруг ее тела, все еще не веря, что это происходит наяву.
Слеза пробежала вниз по его разбитому лицу. Это казалось уже невероятным, но снова, спустя столько долгих, мучительных дней, он обнимает Элис. Она что-то сказала, еще сильнее обнимая Эдварда, но слова заглушились о его грудь, и Эл крепко прижалась к нему, прислоняя мокрую щеку к его теплой коже, вздрагивающей от бешеного пульса.
— Я… так… больше не могу… я люблю тебя… ты сможешь меня простить?...
Ее дыхание, по-прежнему неровное и судорожное, горячей волной отдавало в ту точку на груди Милна, где билось сердце. Он долго молчал, чувствуя, как глухо, на безумных оборотах, оно бьется в груди, вздрагивая сильными, глубокими толчками.
Все это, все, о чем он думал и запрещал себе думать, — стоило прошлому возникнуть в его мыслях и памяти, — вновь стало его жизнью, реальностью, плотью. Кровь шумела, пульсируя в теле сумасшедшими волнами. Он ничего не слышал, не чувствовал кроме ее оглушительной жажды,— громадного, мощного вала, который, наконец, вырвался на свободу. Время шло, но боль не утихала. Она билась в ушах, набирая обороты, и разливаясь по венам, отравленным потоком памяти, почти лишая Эдварда рассудка, и сотрясая все его тело то слабыми, то сильными, — по своей собственной прихоти, — волнами.
Разбитые руки Милна дрожали, когда он обнимал Элис. Он вдруг стал совсем хрупким, его разум не верил Эл, подливая в мысли прежний яд, напоминая снова и снова ее лицо, голос, выражение глаз в тот момент, когда она кричала, чтобы он уходил, потому что она ненавидит его. А сердце молчало, переживая боль и счастье. Оно пережидало боль и сходило с ума, исходя дрожащей кровью, и тихо сшивая края громадной, глубокой раны, — чуть-чуть, самыми мелкими, острыми, робкими стежками.
— Я прощаю тебя, Эл. А ты? Простишь меня?
Ее лицо, тоже хрупкое в его ладонях, вдруг становится растерянным и тихим. Она смотрит на Эдварда, и не может говорить. И потому только закрывает глаза, а из-под мокрых, длинных ресниц снова бежит слеза. И время плавится в минуты, укладывается в долгие часы. Когда дышать становится легче, Эд шепчет, снимая указательным пальцем каплю с курносого носа Элис:
— Так больше нельзя, Эл. Иначе мы окончательно убьем друг друга.
Она вздрагивает и замирает, слушая его.
— Я очень сильно тебя люблю. Но так, как раньше, больше не будет. Я не могу требовать от тебя уважения, но…
Крепко обняв его, и прячась за расплывшимся углом багрового плеча Милна, Эл шепчет: — Я не умею любить. И мне страшно… Я знала, что веду себя скверно, но как будто не могла остановиться. Я не доверяла тебе, потому что я не знаю, как это. И мне было страшно, что ты меня обманешь.
— И я обманул.
Элис измученно улыбается и опускает голову вниз, переплетая их пальцы.
— Я прощаю тебя, правда.
Горячий взгляд больших, зеленых глаз обращается к его лицу.
— Я только боюсь, что не стану лучше… И часто мне кажется, что я не умею любить… Как будто не чувствую любовь.
— А что ты чувствуешь?
— Что я как зверь, — хочу любить и боюсь. Не могу без тебя, и боюсь все разрушить… Я ведь почти все разрушила, Эд! А если я снова все испорчу? Я буду всегда одна, всегда гадкая.
— Ты не такая, Эл. Откуда ты это взяла?
Не отвечая, она прячется в нем, утыкаясь в его грудь холодным носом, покрытым частыми веснушками. Осторожно улыбаясь, он шепчет, целуя ее волосы.
— Мы похожи, Эл. Я тоже не умею любить. И я тоже был один. До тебя. Почти всегда. И мне тоже хочется быть лучше.
— Расскажи мне о себе, я хочу знать.
Элис горячо шепчет, нежно обводя кончиками пальцев черты его лица.
— Не сейчас. Дай мне время.
Она кивает, когда обводит контур ключицы, и под ее пальцами Милн вздрагивает.
— Мы можем попробовать?
— Можем, — звучит хриплым выдохом голос Эдварда, который слышен только им двоим.
— Как думаешь...У нас получится?
— А ты хочешь?
— Да.
Он долго смотрит в пространство, прямо перед собой, и чуть заметно кивает.
— Да.
— Мы не можем дольше молчать, Харри. Им нужен ответ.
Агна обняла Кельнера за плечо, и посмотрела под ноги, на спрятанную в сумерках лесную тропу.
— Да, знаю… Но что ответить? Что Германия нарушила Версальский договор в одностороннем порядке, и объявила воинскую повинность? Это им известно. Они только делают вид, что ничего не знают... А месяц назад в Лондоне были переговоры о перевооружении немецкой армии… Так что, Агна, я не совсем понимаю, какой именно информации они от нас ждут.
Кельнер повернулся к жене, отчего под его ботинками звонко захрустела палая осенняя листва.
— Совсем не понимаю... А совещание в Стрезе?... они держат нас за идиотов!
— Ты о том, что после тех переговоров в Лондоне в феврале и объявления воинской повинности в марте, в апреле Италия, Франция и Великобритания собрались в Стрезе, где объявили, что не допустят роста вооружения Германии и будут бороться с этим?
Кельнер кивнул, разбрасывая носком ботинка сухую листву.
— За наш счет… И теперь они ждут от нас подробных сведений о том, как идет перевооружение Германии! Это самоубийство! К тому же, они наверняка все знают лучше нас с тобой… Я не могу так рисковать, это слишком опасно.
— В модном доме ходит много слухов, я наверняка смогу узнать больше.
— Агна…
— Нет, послушай… Мы должны ответить. К тому же, генерал Томас снова стал появляться в ателье. Он наверняка может что-то знать.
— Что он там делает?
— Беседует с фрау Гиббельс, и, наверное, следит за тем, как мы шьем платье для его невесты.
— Ханна?..
— Да. Теперь я шью для нее подвенечное платье… Стала шить. С сегодняшнего дня.
— Прости.
По лицу Агны скользнула растерянная улыбка.
— Поедем домой?
Она посмотрела на Харри, и снова перевела взгляд вниз, ускоряя шаг. По давней привычке, которая возникла с тех пор, когда стало известно, что Биттрих был в их доме и оставил на память о себе пуговицу с мундира, Харри и Агна, выйдя из «Мерседеса», шли к дому молча. До перехода с асфальта на шумную гравийную дорожку оставалась всего пара шагов, когда Кельнер отвел правую руку за спину, чувствуя, как пальцы прикасаются к плечу Агны. Оглянувшись назад, он прижал палец к губам, и опустил руку вдоль тела. Агна застыла на месте, слушаясь знака, но не понимая его причины. Из-за спины Харри ей ничего не было видно, только угол их дома, до которого оставалось всего несколько метров. Взяв Агну за руку, Харри тихо отступил назад, в густую темноту декабрьского вечера. Несколько долгих, слишком медленных минут он не сводил напряженного взгляда с входной двери дома. Агна сжала его руку, и Харри, обернувшись к ней, шепотом пояснил:
— Старина Эрих пришел нас проведать.
— Хайде? Что ему здесь нужно?
Харри весело хмыкнул, улыбаясь в темноте.
— Думаю, он хочет реванша.
— Он один?
Кельнер снова обвел глазами двор дома, и утвердительно кивнул.
— Да.
— Тогда почему бы нам не выйти, и не застать его врасплох?
Харри снова усмехнулся.
— Неплохая идея, фрау Кельнер. Но это может только больше разозлить Эриха, и тогда мы ничего не сможем узнать. Его ожидание у дома, заглядывания в окна, желание разбить дверь, и… — Харри блестящим от веселья взглядом посмотрел на Агну, —...Страх разбить ее… дают… куда больше информации. Нет, — Кельнер покачал головой, продолжая наблюдать за Хайде, и в его голосе кроме веселья Агна теперь различила иронию. — Он не разобьет дверь, слишком шумно, можно привлечь внимание… Фрау Кельнер, поздравляю вас с тем, что новая входная дверь дома в Груневальде благополучно пережила первое покушение на свою честь и достоинство!
Агна дернула Харри за рукав пальто, но он словно не заметил этого, продолжая наблюдать за удаляющимся от их дома сотрудником контрразведки «Фарбен».
— Пошли!
Харри крепче сжал ее руку, широким шагом пересекая расстояние до двери, которой несколько секунд назад он воздал все возможные почести. Оказавшись в прихожей, Агна молча наблюдала за тем, как Харри быстро снимает ботинки и скидывает длинное темно-серое пальто. Небрежно закинув его на вешалку вместо того, чтобы привычно расправить до последней складки на плечиках, Кельнер, этот педант в отставке, посмотрелся в зеркало, взъерошил светлые волосы, — сломав идеальный пробор, — и энергичным, быстрым шагом почти пробежал в кабинет. И тут же вернулся, удивленно смотря на одетую в верхнюю одежду Агну.
— Что с тобой? Тебе помочь?
Рыжая бровь изящным полукругом поднялась вверх, и Агна отрицательно покачала головой.
— Хочешь ужинать?
— Нет.
— Дартс?
— Не-е-ет, — Агна хмыкнула, — Харри…
— Тогда предлагаю шахматы!
Кельнер схватил жену на руки, гордо прошагал в библиотеку и посадил ее в кресло, за шахматный столик.
— Черные или белые? Хочешь вина?
Наблюдая за Кельнером с тем выражением лица, на котором смешались удивление, веселье, масса незаданных вопросов и еще большее количество возможных ответов, Агна начала поправлять шахматные фигуры. Когда Харри довольно растянулся в кресле напротив и прикрыл глаза, она сообщила, что они будут играть шахматную партию на желание. Голубые глаза лукаво блеснули в полумраке кабинета.
— В прошлый раз я тебя обыграл, Агна.
— Ничего… — девушка поудобнее устроилась в кресле, проверяя расстановку фигур. — Я готовилась.
Она посмотрела на ряд белых пешек, потом на счастливого Кельнера, и сделала глубокий вдох.
— Любое желание.
Харри поднял руки на уровне груди, и сделал приглашающий жест. Игра белых и черных началась.
— Если ты думаешь побить мою ладью пешкой, то не получится.
Харри откинулся в кресле, не слишком беспокоясь о ходе игры, — его король был под полной защитой. Агна, зажав между пальцами волнистую прядь волос, наклонилась вперед, рассматривая оставшиеся на доске фигуры. Ее правая рука надолго зависла в воздухе, нерешительно останавливаясь то над одной, то над другой фигурой.
Дыхание Эдварда, теперь спокойное и глубокое, которое она отлично слышала в абсолютной тишине библиотеки, усыпляло. Элис ненадолго прикрыла глаза, резко вздохнула, и вернулась к партии. Белый король шагнул вправо, и теперь уже Агна, отклонившись назад, с улыбкой посмотрела на Харри. Под взглядом ее зеленых глаз, он уверенно выпрямился, готовый оценить обстановку, и сделать следующий ход, но застыл над доской.
— Как ты?.. Нет… покажи!
Тихий смех приблизился, и волна теплого воздуха принесла ответ:
— «Обман Маршалла», герр Кельнер!
Харри изумленно посмотрел на Агну, а она, улыбаясь, продолжила:
— Партия 1912 года, мой дорогой… Харри тогда было всего девять лет, конечно, он не мог тогда об этом знать.
— А Агна еще даже не родилась!
— Но, тем не менее, я все узнала об этой партии, — девушка улыбнулась, она состоялась в Бреслау, между Маршаллом и Левитским.
Агна остановила на Кельнере веселый взгляд. На секунду в библиотеке наступила абсолютная тишина, а потом они громко засмеялись, смотря друг на друга.
— Любое желание, — напомнил Кельнер, когда веселье стихло, и в кабинете снова стал слышен мерный ход золотых часов.
Агна долго, задумчиво смотрела на Харри, медленно переводя взгляд на левую часть его груди, в ту точку, где за краем белой рубашки начинался длинный, узкий шрам. Резкий и грубый, он уже не причинял Милну боли, но когда она осторожно прикасалась к шраму, Эдвард вздрагивал. Кажется, даже прежде, чем успевал осознать или почувствовать ее касание.
— Расскажи мне о Стиве.
Улыбка сползла с лица Кельнера.
— Я рассказал все, чт…
— Нет, ты что-то знаешь. То, что не хочешь мне говорить.
Харри уточнил:
— И ты затеяла эту игру на желание, чтобы узнать об этом?
Агна пожала плечом и повернулась к яркому пламени, разожженному в камине.
— Я должна была что-то придумать.
— Я не могу сказать тебе… прости.
Казалось, Агна никак не отреагировала на эти слова. Но, встав из-за шахматного столика, и сделав несколько шагов, она сухо заметила:
— Выходит, Харри Кельнер не держит свое слово?
* * *
Элис сидела на кровати, крепко сцепив на покрывале расставленные в стороны руки. Милн опустился на пол, перед ней, и глубоко вздохнул.
— То, что я знаю о Стиве, причинит тебе боль. Я не хочу этого.
— Он умер, Эдвард, и это я убила его. Вряд ли что-то еще, что я узнаю о нем, причинит мне боль. Я имею право знать.
Милн кивнул, помедлил несколько секунд, и начал медленный рассказ.
Это было в конце нашего выпускного года в Итоне. Какой-то месяц, и мы стали бы выпускниками. В то время я и Стив уже общались гораздо реже, чем раньше. То ли выросли, то ли… У него была своя компания. Узкий круг из пяти друзей, с которыми он проводил почти все свое время. Я знал их, — они были нашими сокурсниками. В один из дней я зашел в свою комнату и увидел Стива. Он резко обернулся, когда я вошел, и сказал, что хочет рассказать мне что-то «исключительно важное».
Он так и сказал:
— Ты с ума сойдешь от зависти, когда узнаешь!.. Это великолепно!
Честно говоря, у меня не было никакого желания слушать его истории, и я хотел отвязаться от него, но он сам, вдруг что-то вспомнив, сказал, что ему нужно идти.
— Но ты же придешь вечером в паб? Все там будут, старик! Скоро выпускной!
Я кивнул, и Стив ушел. В пабе действительно были все, весь наш выпуск. Я нашел Стива у барной стойки. Он громко смеялся, болтая с нашим знакомым, а когда заметил меня, оттолкнул парня в сторону, сказав, чтобы тот проваливал и не мешал «большому разговору». Парень ушел, я сел напротив Стива, заказал портер.
Он пил виски, но услышав мой заказ, попросил пива и для себя. Стив уже был очень пьян. Когда бармен принес нам пиво, он наклонился ко мне, и прошептал, что «у него есть для меня история об одной девчонке». Я не буду повторять его слова, но… Смысл был в том, что за две недели до этой встречи в пабе, Стив и его друзья были в Лондоне, и там они изнасиловали девушку. Признаюсь, я не слишком поверил этой истории, потому что знал, что многие из рассказов Стива на деле оказываются выдумкой. Он говорил очень быстро, а когда закончил, уставился на кружку с пивом, и замер в одном положении, с ухмылкой на лице. Помню, я спросил его, правда ли это? Он кивнул сначала соглашаясь, но потом резко покачал головой из стороны в сторону. И просил никому не говорить об этом разговоре. Правда, через минуту он уже рассказывал какую-то шутку, так что…
— Я что-то напутал, старик! Все хорошо!
И я не поверил в ту историю. А может быть, мне не хотелось верить. Мы вернулись в колледж, учебные занятия подходили к концу, преподаватели то и дело твердили нам о выпуске, ответственности, чести и славе Итона, и прочее... За неделю до выпуска, прямо на одну из лекций зашел старший преподаватель, и вызвал Стивена в кабинет. Он вышел. И в тот день на занятиях его больше не было.
Оказалось, что все это время он просидел в кабинете директора. История с изнасилованием оказалась правдой. Нас начали вызывать в кабинет по очереди, и спрашивать, где мы были и что мы делали тогда, в тот день, когда Стив и его друзья «совершили нападение». Я зашел в кабинет директора одним из последних. Он был в ярости, его трясло, и потому он только коротко спросил:
— Ну а вы, Милн, тоже?
Тогда я понял, что рассказ Стива был правдой, а не пьяной выдумкой. Он и его друзья были обвинены в групповом изнасиловании тринадцатилетней девочки. Администрация колледжа была шокирована.
Но, кажется, не столько самим изнасилованием, сколько тем уроном, который будет нанесен репутации легендарного колледжа и им, преподавателям, — во главе с директором, — если об этом станет известно публике. К тому же, летняя королевская резиденция была слишком близко. Поэтому все замяли. Только срочно вызвали родителей. Хотя некоторые из них уже приехали сами, учуяв дым. С родителями поговорили и они помогли дирекции колледжа. В итоге, даже те, кто знал о групповом изнасиловании девочки шестью учениками элитного учебного заведения, забыли об этом.
Золотые мальчики стали ни при чем. Нас выпустили, учеба закончилась, и мы разъехались из Итона. Я уехал в Лондон, потом из Лондона, и до того Рождества в доме твоих родителей я ни разу не встречал Стива. После него — тоже. Последний раз я видел его в Нюрнберге, как и ты.
Эдвард посмотрел в сторону Элис. И если бы не очертания ее тела, застывшего все в той же позе, он решил бы, что ее здесь нет, — настолько тихо, — беззвучно, — она сидела на кровати, опустив голову вниз. Наконец, послышался тяжелый вдох, и Элис тихо спросила:
— А как же Хайде?.. Что с ним делать?
— Я разберусь, Эл.
— Девочка выжила?
Элис опустилась на пол, и села перед Эдвардом на колени, глядя в его глаза.
Он кивнул.
— Да, — он нашел в темноте руку Элис, и крепко сжал ее. — Прости.
Элис вздрогнула и крепко обняла Милна. Он не знал, что сказать. Никакие слова не приходили на ум, и потому он просто держал Эл в своих руках, слушая как ее сердце медленно успокаивается, замедляя удары. В комнате стало совсем темно, когда Элис разжала руки, и, поцеловав Милна в щеку, горячо прошептала:
— Спасибо, что ты другой.
* * *
...Сегодня Рождество, и мама готовит праздничный ужин. По дому плывет уютный аромат выпечки. Крамбл или гуди? Элис не гадает, — выбравшись из-под пухового одеяла, которое больше нее в несколько раз, она, путаясь в длинной сорочке, бежит на кухню, где голос мамы смешивается с голосом отца. Он уверяет, что porter сake лучше, чем гуди, крамбл или имбирное печенье вместе взятые. А мама, смеясь, целует его в щеку, и говорит, что в этом году он опоздал с заказом к рождественскому столу, ведь настоящий пирог на портере должен выдерживаться целую неделю или, хотя бы, несколько дней. А Элис очень хочется узнать, что это за десерт, который нельзя пробовать так долго? Солнце растягивается на подушке широким, жарким лучом, и совсем не похоже, что сейчас декабрь. Луч — очень жаркий, и почему все говорят, что солнце — желтое, если его луч — светлый и прозрачный, с толпами крохотных пылинок и разноцветных огней?
— Эл, Элли… вставай!
Она чувствует, как ее целуют в щеку. Вкусный, немного резкий запах отцовского одеколона щекочет ноздри, и ей нравится не просыпаться, хотя бы еще несколько секунд. Она чувствует, как взгляд папы задерживается на ее лице, и еле сдерживается, чтобы не рассмеяться. Но когда Элис открывает глаза, в комнате уже никого нет, только пряный и резкий аромат одеколона напоминает о том, кто был здесь.
— Ты ему понравишься, Эл! Понравишься Мосли!
Она морщит нос. Нет, она не хочет ему нравиться, но у нее нет выбора, — она должна пойти со Стивом, иначе он убьет Эдварда.
— Нет!
...Элис рывком села в постели, и крепко закрыла глаза от слепящего утреннего света. Сердце еще колотится где-то в горле, — это снова был сон…
Ощущение тепла накрывает ее, успокаивая натянутые нервы. Внизу слышны негромкие голоса. Два голоса. Элисон медленно рассматривает комнату, полную красных роз. Они повсюду: на прикроватной тумбочке, на туалетном столике, в коридоре и прихожей. Пряный аромат плывет по дому, сопровождая ее, пока она медленно спускается вниз.
Комод, чайный столик, обеденный стол в столовой… Посреди алого моря, сотканного из темно-красных, почти черных у основания лепестков, светлые волосы Эдварда выделяются особенно резко. Он улыбается, когда замечает ее в столовой. Ни у него в руках, ни рядом с ним нет газет. Элис удивленно приподнимает бровь, но он легко качает головой: никакой нацистской прессы сегодня утром. На его лице застывает какое-то торжественное, неясное выражение, он смотрит поверх ее головы, куда-то вдаль, и ощущение давнего уюта снова укачивает ее на ласковых, теплых волнах. Кайла ставит перед ними на стол блюдо с яблочным крамблом.
— Как в детстве… — Элис шепчет едва слышно. — Что происходит?
Глядя на ничего не понимающую Эл, Милн улыбается. И молчит. От горячего крамбла, разложенного на фарфоровые тарелки со сложным узором, сотканным из золота и берлинской лазури, поднимается витиеватый пар. И Элис вспоминает, как Агна и Харри покупали этот столовый набор в одном из магазинов Берлина, а продавец, — высокий, плотный мужчина в фартуке, — обрадовавшись богатым покупателям, долго рассказывал им об оттенке синего цвета,— той самой «берлинской лазури», — которым был раскрашен орнамент на тарелках и блюдцах. Элис помнила, как внимательно и терпеливо Эдвард, вернее, Харри Кельнер, слушал продавца, стоя рядом с Агной. Он многое мог бы добавить к рассказу торговца.
Например, то, что сначала один химик выделил из берлинской лазури цианид водорода в виде водного раствора, — то есть синильную кислоту, — а позже, уже другой химик, получил в виде газа безводный НСN. Потом, в 1920-х годах, на основе этого газа, берлинские химики создали инсектицид-фумигатор, который получил торговое название «Циклон-Б», и новые области применения. «Трудовые» лагеря нацистов, один из которых, расположенный в Дахау, Харри Кельнер инспектировал постоянно, и стал той площадкой, на которой было испробовано действие газа.
...Кельнер молча, взглядом, задает Агне вопрос. Она успокаивает его таким же молчаливым ответом, и немного неловкой улыбкой. На большее сейчас нет времени, — Харри Кельнер, сотрудник компании «Байер», не может опаздывать к месту службы. Но все же он, встав из-за стола, задерживается рядом с Агной, и целует ее так долго, что это вызывает у фрау Кельнер смущение. Смущение, которое только растет при мысли о том, что Кайла, — здесь, в столовой, и она видит их. Но прежде, чем Агна успевает что-то сказать или спросить, Харри говорит, что заедет за ней вечером в ателье. У выхода из столовой он поворачивается, с улыбкой смотрит на жену и Кайлу, и радостно напоминает им, что скоро Рождество.
У Кельнера отличное настроение, и дорога до работы, которая проходит в мыслях об Агне и о том, что он знает, как помочь Кайле и Дану, кажется, занимает всего несколько минут. Расправив плечи и продолжая улыбаться собственным мыслям, Харри не спеша идет ко входу в небольшое, двухэтажное здание. Зимнее солнце греет его спину лучами, а трели птиц, звучащие откуда-то с высоты, делают это утро еще легче и радостнее. Он пока не говорил с Агной о Кайле и Дану, — Харри расскажет ей о своем плане вечером, когда его «Мерседес» выплывает из-за угла громадного мрачного здания на центральной Курфюрстендамм, и подвезет Кельнера к высоким, парадным дверям дома мод фрау Гиббельс. Агна выйдет навстречу, коротко, — той улыбкой, которая бывает у нее, когда они не наедине, — улыбнется ему, сядет в машину, и они поедут в Груневальд. Вот тогда... Рука, вытянутая из-за угла, схватила Кельнера, и резко прижала к стене здания.
— Хотел узнать, как ты, Кельнер.
Хайде довольно рассмеялся, фиксируя Харри согнутой в локте рукой, и сплевывая на землю.
— Как дела дома? Как жена? Залечила твои раны? Ты выглядишь лучше.
Эрих не успел задать все волнующие его вопросы, когда Кельнер вывернул его левую руку, резко отвел ее сначала в сторону, а потом за спину, прибавив к этому удар в пах. Хайде согнулся, оседая на землю, но Кельнер удержал его, прошептав на ухо:
— Я в порядке, Эрих, спасибо, что спросил. Совет на будущее, как боксеру: не пытайся блокировать не ведущей рукой. Тем более того, кто выше тебя.
После напутствия Хайде Кельнер выпрямился, поправил пальто, и так же спокойно, как до встречи с Эрихом, пошел вперед.
1938: разработаны
17 сm K(E)
MG 131 (пул.)
MG 81 (ав. пул.)
MP-38 (п.-пул.)
PZ Kpf III (танк)
Sauer 38H
Walter P38
21 сm Kanone 38 (в разработке, К.)
Оборвав край газетного листа в новом номере «Штурмовика», где продолжали поносить «грязных евреев», недостойных жить на территории великой германской империи, и для которых теперь, ко всему прежнему, ввели разделение почтовых отправлений и принудительную смену имени, Харри Кельнер посмотрел на написанное. Если Центр требует от него конкретных сведений о перевооружении Германии, то вот они, — бегут по краю темно-желтого листа мелкими буквами: пулеметы, — авиационные, для «Люфтваффе» Гиринга, и простые. Пистолеты, новая модель танка… Кельнер покрутил в руках клочок бумаги, переводя задумчивый, жесткий взгляд выше. В этом списке абсолютными «белыми пятнами» были первый и последний пункты. О первом Харри удалось выяснить то, что это — железнодорожное орудие, которое, — если нацисты не изменят своих настоящих планов, — будет использоваться сухопутными дивизиями особого назначения. Но каким именно образом? «Особого назначения»… А последний пункт, 21 сm Kanone 38? Об этой terra incognita он успел узнать только то, что эта полустационарная пушка особой мощности стала новой любимицей Круппа. Именно он начал ее разработку в этом году. Год, который, постепенно, как и всякий другой, мерно завершался, унося из Германии, и ее новых, насильственно присоединенных земель, всякую иллюзию о том, что войны не будет.
Будет. Он знал это. Давно. Правда, теперь это ощущали, и не могли не замечать, и многие другие люди. Но правда заключалась и в том, что все прежние года, которые он и Агна провели в Берлине, несли в себе еще какой-то необъяснимый налет фантазии, невероятной фантасмагории: настолько невероятной, что невозможно было поверить, будто однажды все это действительно станет явью, и Германия начнет войну. Даже Харри Кельнеру иногда казалось, что эта, пусть и мрачная, но все-таки только игра, оборвется, закончится, перестанет быть так же внезапно, как она началась в январе тридцать третьего, и дело не дойдет до войны.
«Только вот внезапного во всем этом ничего не было. Ни тогда, ни сейчас», — мысленно поправил себя Харри. Простучав дробь по письменному столу, Кельнер схватил пачку сигарет, и жадно затянулся, хмуро наблюдая за тем, как подрагивает его правая рука. Чуть-чуть, едва заметно. Насколько эти, пусть и «новые данные» о перевооружении войск Грубера, нужны сейчас в Лондоне?.. Его мысли вернулись к настоящему. Год тысяча девятьсот тридцать восьмой. Хронология мрака особенно сильно нарастала с марта этого года. Или, все же, с января того же тридцать третьего? Грубер бредил воссоединением германских земель с первого дня власти. И несколько месяцев назад, в марте тридцать восьмого, через пять лет, проведенных у этой самой власти, он сделал то, о чем рассказывал еще тогда, когда был безвестным, плюгавым ефрейтором, просиживающим штаны в пивных: Австрия снова стала германской территорией. Правда, теперь это была уже не Австрия, а «Остмарк», — «восточная марка», — еще одно название давних времен, поднятое фюрером со дна истории, — и еще одно свидетельство его слабости ко всему «исконно германскому». Аншлюс Австрии, который произошел в марте этого года, нацисты расценили как воссоединение имперских земель. Австрийцы сначала были против, как и канцлер Дольфус. Но, — Кельнер затянулся так крепко, что сигарета, быстро сгорая в его пальцах, затрещала, — нацисты захватили его.
Раненый, он умер окруженный ими, в своем кабинете. Врачебную помощь ему обещали только в том случае, если он подаст в отставку, и подпишет бумаги в пользу ставленника Грубера, Ринтелена. Не нарушив присяги, канцлер Австрии умер в окружении более ста пятидесяти нацистов. «Многовато для захвата одного человека, — мрачно подумал Кельнер, сбивая сигаретный пепел в пепельницу. — И в самый раз для трусов».
После смерти Дольфуса открытое насилие сменили на более приличные и витиеватые меры воздействия. Независимая до сих пор Австрия позарез была нужна Груберу не только для воплощения его давней мечты, но и для дальнейшего, — что случилось после Мюнхенского соглашения в сентябре этого же года, — раздела Чехословакии, давно взволновавшей нацистов не только своими привлекательными территориями, лежащими у них под носом, но и одним из лучших военных потенциалов. Теперь, в октябре тридцать восьмого, это было уже ясно. И для нацистов все складывалось хорошо. Но неожиданно новый канцлер Австрии, Шушниг, оказался таким же несговорчивым, как когда-то Дольфус.
Объявив плебисцит, в ходе которого австрийцам предстояло высказаться о том, хотят ли они, чтобы Австрия вошла в состав Германии, Шушниг, все-таки, отменил его под давлением нацистов. Итогом всех стараний немцев стала, по сути, аннексия Австрии, теперь утратившая даже свое прежнее имя.
Постучав новой сигаретой по пачке, Кельнер снова закурил. Двенадцатого марта, в четыре часа утра, нацисты вошли в Вену. Австрийская армия, по приказу капитулировавшего президента, сопротивления не оказывала. Бывшая Австрия, — теперь Остмарк, — стала нацистской. А через три дня, — Кельнер горько усмехнулся, сжигая исписанный его мелким почерком уголок газетного листа, — Грубер сказал: «Я объявляю немецкому народу о выполнении самой важной миссии в моей жизни». Важная миссия продолжилась в сентябре, явив на свет урода в виде встречи глав ведущих европейских государств в Мюнхене. Это официальное Мюнхенское соглашение, заключенное между Германией, Великобританией, Францией и Италией, передавало Германии Судетские области Чехословакии, где проживало более двух миллионов этнических немцев. А неофициально…
Кельнер смял сигарету, поднявшись со стула так резко, что тот опрокинулся, прогремев за его спиной. «Вы можете получить все, без войны и без промедления», — такими были слова премьер-министра Великобритании, Невилла Чемберлена, сказанные Груберу.
Главы «ведущих» государств отдали Чехословакию на откуп, в надежде, что фюрер никогда к ним не заглянет, — например, в один из дней, в четыре часа утра.
Чертова «политика умиротворения»! Они действительно надеялись на то, что это сработает, и умерит аппетит Грубера! Чехословакия, обглоданная по кускам сначала Германией, а затем ее союзницей Польшей, тоже, как и Австрия, перестала существовать. И потому шифровка с данными о новом оружии Германии, которую требовали и ждали от Кельнера в Лондоне, не вызывала у Харри ничего, кроме ощущения тотального фарса, в котором Чемберлен держит за пальцы Грубера, с готовностью и всевозможными реверансами ожидая, пока тот проскользнет под его рукой в следующем танцевальном па. «Они держат нас за идиотов!» — Кельнер отлично помнил, как сказал эту фразу Агне, когда они, возвращаясь домой, заметили у дверей разнюхивающего обстановку Эриха фон дер Хайде.
С того момента прошло уже много времени, а эта фраза не только не теряла своей актуальности, но с каждым днем только увеличивала пропасть между Кельнером, бывшим в Берлине, и тем, что по приказам Лондона, — и все того же Невилла Чемберлена, чья резиденция в Лондоне по-прежнему располагалась на Даунинг-стрит, 10, — он должен был предоставлять в качестве донесений из столицы рейха. Харри подошел к окну, невидящим взглядом наблюдая за тем, как с деревьев облетает все еще пышная, но уже разноцветная, осенняя, листва. Ходят слухи, что в Лондоне для детей выдают противогазы. Интересно, станет ли Чемберлен публично ужасаться и этому факту?...
Хотя, это же он сказал о раздавленной Чехословакии: «Сколь ужасной, фантастичной и неправдоподобной представляется сама мысль о том, что мы должны здесь, у себя, рыть траншеи и примерять противогазы лишь потому, что в одной далекой стране поссорились между собой люди, о которых нам ничего не известно. Еще более невозможным представляется то, что уже принципиально улаженная ссора может стать предметом войны».
Примерять противогазы.
В еще одной «далекой стране».
Дети…
Харри нахмурился, возвращаясь мыслями к тому, что не давало ему покоя. Сделать документы для Кайлы и Дану было бы, наверное, проще, будь у них дети. Кельнер не слишком надеялся на программу «Киндертранспорт», открытую Лондоном для того, чтобы принять у себя еврейских детей-беженцев из Германии без сопровождения родителей, но… Это могло стать, по крайней мере, еще одним вариантом для того, чтобы вытащить их из берлинского пекла, где их жизни постоянно угрожала опасность.
А без этого варианта у него было не так много выходов. Ему до сих пор, несмотря на все свои тайные поиски, не удалось выйти на надежного человека, который мог бы сделать для Кайлы и Дану чистые документы, без красно-жирной «J», проставленной на первой странице еврейских паспортов.
Излишне говорить, что документы с ней многократно снижали шанс на благополучное прибытие из Берлина к пункту назначения просто потому, что те же европейские лидеры, которые отдали Груберу Чехословакию, никак не реагируя на резко возросшую эмиграцию евреев из Германии, — даже при известных им фактах массовых убийств последних, — со своей стороны чинили препятствия, пытаясь ограничить въезд беженцев на свои территории: «Мир разделился на два лагеря: на страны, не желающие иметь у себя евреев, и страны, не желающие впускать их в свою страну»… Сообщение же с теми, кого Кельнер смог найти до настоящего момента, срывалось уже трижды: с той стороны, или по его собственной инициативе, — тогда, когда он чувствовал, что что-то идет не так.
Это было чертовски опасно, но думать по-настоящему о том, насколько велика реальная угроза, он не хотел, и потому прогонял эти мысли из своей головы, когда они, как и сонмища других, ползли к нему ночью. Каждую ночь. Бесконечно.
Дети.
Сейчас ребенку Харри и Агны могло быть почти четыре года. «Мальчик или девочка?». При этой мысли, — которую он тоже себе запретил, — сердце в груди дернулось. Если бы ребенок был жив, что бы Харри Кельнер делал сейчас для того, чтобы спасти Агну и его от скорой войны? Сумел бы отправить их по той же программе «Киндертранспорт» в Великобританию? Или просил бы помощи у Центра? У него не было ответа. Единственное, что Эдвард знал точно, — он добился бы отъезда Элис и их ребенка из Берлина. Во что бы то ни стало, несмотря на все возможные протесты самой Эл.
За дверью кабинета Харри Кельнера раздался неясный звук и пересечение женских голосов. И в следующую секунду, игнорируя хрупкую, — в сравнении с ней, — секретаршу Кельнера, в кабинет сотрудника берлинского филиала фирмы «Байер», вошла Ханна Ланг.
— Герр Кельнер, я пыталась… но она, фрау…
Секретарша встревоженно посмотрела на Кельнера, и перевела взгляд на высокую блондинку.
— Фройляйн, — поправила ее Ланг, не спуская глаз с Харри.
— Все в порядке, Софи, спасибо, — Кельнер кивнул, и пошел навстречу девушке, провожая ее к выходу.
Дождавшись, пока они останутся наедине, Ханна грациозно опустилась на стул.
— Очаровательное создание, — эта Софи.
Оставив белую, — в тон пальто и платья, — сумочку на соседнем стуле, Ланг медленно стянула длинные перчатки, и, зажав их в правой руке, осмотрела кабинет.
— Кстати, она поставлена сюда, чтобы следить за тобой, Харри. Будь осторожен.
Вульгарно-красные губы Ланг, накрашенные плотным слоем помады, растянулись в стороны.
— Чем обязан? — спросил Кельнер, игнорируя ее сообщение, и возвращаясь на свое прежнее место за письменным столом.
Из пачки Waldorf Astoria он вытащил новую сигарету. Ханна удивленно подняла изогнутую бровь, и указала взглядом на пачку в его руках. Прикурив, Харри подтолкнул к ней сигареты. С легким шуршанием красная коробочка, с нанесенной на лицевую сторону короной, подъехала к ее руке. Алый лак на длинных, острых ногтях заблестел, когда Ханна вытянула руку. Но, передумав, и только постучав по сигаретному блоку, она посмотрела на Кельнера блестящим взглядом.
— Предпочитаешь другие? Более изящные, Josetti?
Кельнер прищурился от первого сигаретного дыма, и затушил огонек горящей спички пальцами.
— А как же мой подарок? — оскалив белоснежные зубы, спросила Ханна, намекая на серебряный портсигар с дарственной надписью, который она несколько лет назад отправила Харри в качестве рождественского подарка.
Кельнер промолчал, выпуская вверх струю дыма, и разглядывая сквозь сизое облако красивое лицо Ханны.
— Чем обязан, фройляйн Ланг?
— Надеюсь, в твоей семье все хорошо.
Ханна поставила указательный палец в центр сигаретной пачки, и закружила ее по столу. Не получив ответа, она продолжила:
— Я хочу помочь тебе, Харри. Я только что была на примерке платья в ателье фрау Гиббельс.
— Поздравляю со скорой свадьбой, Ханна. Мне жаль, что она была перенесена. Но теперь уже скоро…
Полные губы Ханны дрогнули.
— Да, теперь уже совсем скоро…
Кельнер почувствовал на себе ее взгляд, но продолжал курить, глядя в пространство.
— На примерке оказался сам министр Гиббельс…
Снизив голос, Ханна теперь произносила фразы предельно медленно, пристально наблюдая за Харри.
— …И он задал вопрос твоей жене.
Повернувшись к окну, Кельнер выпустил дым в сторону, и поднялся из-за стола.
— Как насчет обеда, Ханна?
Ланг остановила на мужчине долгий, довольный взгляд, и взяла сумочку.
— Ты такой забавный, Харри… с удовольствием.
— Я на мотоцикле.
Блондинка вплотную подошла к нему, выдохнув в лицо:
— Ничего, это даже интересно.
Рассмеявшись, она посмотрела на Кельнера.
— Прошу, — коротко сказал он, пропуская Ланг вперед.
Покачивая бедрами, Ханна не спеша подошла к двери, и остановилась в ожидании Кельнера. Открыв перед ней дверь, Харри быстрым взглядом осмотрел кабинет, и, повернувшись, закрыл его на ключ.
— Софи, я на обед.
— Но…
Ланг проплыла мимо секретарши и подмигнула ей. Выйдя во внутренний двор, Харри быстрым, энергичным шагом подошел к Harley Davidson, и включил зажигание. После второго резкого нажатия на педаль, мотор мотоцикла взревел, и Кельнер подъехал к Ханне. С улыбкой посмотрев на темно-зеленый с оранжевым обводом мотоцикл, она так же грациозно, как и прежде, положив руку на плечо Харри, опустилась на жесткие перекладины багажника, расположенного за ним, и, отведя ноги в сторону, обняла Кельнера одной рукой.
— Только не быстро, иначе я упаду, — прошептали ее губы, почти касаясь уха Кельнера.
Он перевел взгляд вниз, на ноги Ланг, словно хотел убедиться, что во время движения их не перемолотит в месиво, и выехал на дорогу.
* * *
— Здесь? — разочарованно протянула Ханна, осматривая белые столики уличного кафе «Эспланада».
— Ты против встреч со знакомыми?
Кельнер кивнул в сторону эсесовцев, облаченных в свою обычную форму, сидевших в разных углах открытой площадки, и залитой темно-оранжевым, густеющим светом октябрьского солнца. Промолчав, блондинка быстро пошла вперед, и села за самый дальний столик, рядом с которым не было ни одного посетителя.
— Не знал, что центр Берлина так тебе не нравится, Ханна.
Харри сел напротив девушки, и поднял руку вверх, подзывая официанта в длинном, белоснежном фартуке. Едва кельнер, принявший заказ только на две чашки черного кофе, удалился, Ханна, сверкнув голубыми глазами, зло прошептала:
— Я рада, что ты не растерялся так же, как твоя маленькая жена сегодня утром, когда министр Гиббельс спросил ее о том, как это возможно — не иметь детей после пяти лет замужества. Или… У тебя проблемы, Харри? Раньше об этом и речи не было, я и подумать не могла, что…
— Ты для этого приехала?
Кельнер перебил ее и спрятал руку в боковой карман кожаной куртки.
Зажав в пальцах коробок спичек с изображением имперского орла, он начал раскручивать его все быстрее и быстрее. На долю секунды Эдвард почувствовал, как кровь ударяет в голову. Мысли, ускользая от настоящего момента, перенеслись к Эл.
— Я приехала, чтобы предупредить тебя. Следи лучше за своей женой, Харри. Ты же не хочешь, чтобы вместо тебя это сделала гестапо?
— О чем ты? — мгновенно собравшись и наклоняясь вперед, спросил Кельнер.
— Узнай у нее сам, дорогой. Может, от того, к кому она ходит на встречи, у нее, наконец-то, появится ребенок? И, может быть, тогда она перестанет вызывать подозрения у министра? Скажу тебе честно, я бы не хотела оказаться на ее месте.
Ханна кивнула официанту, и поднесла чашечку с горячим кофе к пухлым губам.
— Честно говоря, Харри, я разочарована.
Ланг медленно вдохнула прохладный воздух, подставляя лицо солнечным лучам.
— Я могла бы сообщать тебе самую разную информацию, серьезную и не очень, будь ты со мной приветливее.
Она открыла глаза, и в упор посмотрела на Кельнера.
— Любую информацию, которую вы, мужчины, так жаждите, но… — Ханна провела кончиками пальцев по лицу Харри. — …ты по-прежнему ведешь себя так глупо.
— Отдаешь информацию тем же способом, которым получаешь? — голубые глаза Харри сузились.
— В этом нет ничего плохого, meine liebe.
Кельнер усмехнулся.
— Информации в последние месяцы и без того хватает, Ханна. Что особенного есть у тебя? Эксклюзив, еще не известный журналистам «Штурмовика» или «Фолькишер беобахтер»?
Ханна улыбнулась в ответ.
— Да, я сомневаюсь, что даже Юлиусу Штрайхеру, главному редактору «Штурмовика», известно об этом.
— Редактор самой успешной антисемитской газеты рейха не в курсе?
Кельнер изобразил изумление, и приготовился услышать ответ.
— Эта информация для узкого круга, но ему наверняка понравилось бы знать то, что готовят для этих свиней с начала года. И совсем скоро…
Ханна прямо посмотрела на Харри, пытаясь оценить по его лицу эффект от своих слов.
— Разве ты не хочешь знать больше?
— Для чего? — наивно спросил Кельнер, и широко улыбнулся, разводя руки в стороны. — Я обычный сотрудник фармацевтической компании, фройляйн Ланг.
Блондинка недоверчиво хмыкнула.
— Которая является частью самого мощного концерна. И все же… Условие ты знаешь.
— Обязательно подумаю об этом на досуге.
Кельнер оставил на столике несколько монет, и поднялся.
— Это все? Или у тебя есть еще что-нибудь ко мне?
— Ты стал другим, Харри, не таким веселым. И черты лица заострились… Один вопрос.
Ханна медленно осмотрела Кельнера с ног до головы.
— Что такого есть в твоей жене, чего нет во мне? И когда ты стал против связей на стороне?
— Это уже два вопроса, фройляйн Ланг.
Поджав губы, Ханна недовольно посмотрела на улыбку Кельнера.
— Увидимся, Харри.
* * *
Ханна была права, он изменился. Раньше, выслушав ее сплетни, в которых было неясно, где именно они пересекаются с реальностью, он бы непременно бросился выяснять правду. Именно так было накануне того Рождества, — подаренный фройляйн Ланг портсигар стал только предлогом для встречи, на которую рассчитывала Ханна.
Эдвард и сам это понимал, но все равно, несмотря на поздний час, скорый праздник и даже новость о том, что скоро у них с Эл будет ребенок, поехал в Мюнхен. «Разберись с Ханной, сейчас я ничего не могу тебе обещать», — так сказала тогда ему Элис.
И потому он рванул в Мюнхен, — чтобы выяснить все как можно скорее, и… Память блокировала воспоминания о допросе в гестапо почти полностью.
Хорошо, — так четко, словно это было вчера, — Эдвард помнил только один отрезок: его и Элис выталкивают из здания тайной полиции, улица принца Альбрехта, дом 8. Его разбитая, кровавая голова болит, и по-сумасшедшему кружится. Кажется, вся земля уплывает из-под ног. Но Эл — без сознания, ей помощь нужна больше, чем ему. Он должен ей помочь… Путь до дома Кайлы и Дану, деревянный, потертый стул. Он сидит на нем, раскачиваясь кроваво-белым маятником, над его головой горит яркая, невыносимая лампа. Но он не может уйти, не может отключиться: ему нужно знать, что с Элис, и с их ребенком. Тогда они все были живы. Но потом… Потом он сделал то, что продолжает жечь его стыдом и виной до сих пор, даже несмотря на то, что Эл его простила. Именно поэтому он больше не станет бежать по следам, расставленным Ханной.
Просмотрев и подписав отчеты из испытательной лаборатории, Харри напомнил себе, что нужно будет снова как-нибудь поздним вечером обыскать кабинет старины Эриха, который никак не успокаивался, и продолжал искать с Харри Кельнером новых встреч. Кельнер был не против, но до определенного момента и — со знанием чего-нибудь интересного о самом Хайде. Сейчас же ему нужно было встретить Агну, и Кельнер, привычно похлопав по карманам пальто, и убедившись, что все нужные вещи он взял с собой, вышел из рабочего кабинета.
Подъезжая к модному дому Modeamt на центральной Курфюрстендамм, он заметил Агну. Она стояла на краю тротуара, осматриваясь по сторонам. Харри остановил мотоцикл рядом с ней, и Агна, заметив его, облегченно вздохнула. Начинать разговор с упрека совсем не хотелось, но, протягивая жене шлем, он не удержался:
— Я же просил тебя ждать меня в ателье, и не выходить на улицу, пока я не подъеду.
Словно в подтверждение его слов, недалеко от здания модного дома раздалось шипение, за которым последовало несколько коротких вспышек огня, а потом четверо молодчиков, одетых в укороченные широкие брюки, прошли по улице, смеясь и толкая впереди себя мужчину, закрывшего голову руками. Проводив эту группу тревожным взглядом, Агна села на мотоцикл, и крепко обняла Кельнера.
— Хорошо.
Харри поехал прямо, следуя уже обычным для них маршрутом, которым он и Агна ездили несколько раз в неделю: к продуктовой лавке, затем, — с поворотом налево, — в сторону дома Кайлы и Дану.
Проезжая мимо Унтер-ден-линден, на которой теперь, вопреки ее названию, не было вековых лип, и где теперь гораздо лучше помнили огромные мощные прожекторы с ночных праздничных шествий, устраиваемых Грубером, Харри заметил толпу обычных берлинцев и эсесовцев, окруживших стайку женщин и подростков. Расписав тротуар огромными белыми буквами, составившими фразу «смерть евреям!», поклонники фюрера, смеясь и толкая заключенных в круг, наблюдали за тем, как они пытаются стереть надпись носовыми платками, подолами юбок или кепками. Харри еще помнил то время, когда такие «стихийные акции» возникали редко, — как одиноко зажженные спички. Но очень скоро их стало больше. Теперь же это было неотъемлемой частью Берлина, и всей Германии. Кельнер помнил и то, как несколько раз вмешивался в подобные сборища, чтобы вытащить тех, над кем глумились. Это не всегда получалось. Вернее, получалось с разной степенью успеха. Один из таких случаев он запомнил лучше всего.
Это было днем. Харри перебегал дорогу, когда заметил толпу, и влетел в нее с разбега, — рассчитывая, что эти несколько секунд общего замешательства помогут ему вытащить из рук берлинцев девочку и мальчика, — может быть, брата и сестру.
На пару с двумя другими прохожими, — должно быть, такими же спятившими, как и он сам, — Харри сумел оттащить детей от разъяренной, харкающей ненавистью толпы, которая, упустив добычу, недвусмысленно дала Кельнеру понять, что он не должен вмешиваться в этот «праведный суд над мелкими жидами».
— Мы не посмотрим на твою правильную внешность, блонди!
Крикнул ему кто-то, бросая вслед бутылку с зажигательной смесью. К счастью, она пролетела мимо, не задев ни его, ни детей. Они забежали в темный переулок и остановились. У девочки были разбиты колени, у мальчика из раны на голове, кое-как прикрытой съехавшей кепкой, бежала тонкая струйка крови. А у Кельнера с собой был только один носовой платок.
Он достал его из кармана, и протянул мальчику, который оказался не таким маленьким, как Харри показалось в начале, — на вид ему было около двенадцати-тринадцати лет. Мальчик долго смотрел на белоснежный платок, не смея к нему прикоснуться, и решился взять его только тогда, когда Кельнер, нетерпеливо тряхнул рукой. Мальчишка присел перед девочкой, сдвинул кепку назад, и, осмотрев ее колени, сказал, чтобы она не смела реветь. Девочка послушно кивнула, молча наблюдая за тем, как углом платка он промокает кровь, выступившую частыми каплями на коже.
Выпрямившись, мальчишка посмотрел на Харри блестящими глазами, цвет которых в темноте было не разобрать, и кивнул. Кельнер хотел проводить их, но мальчик, взглянув на него через плечо, ответил, что теперь они справятся сами.
— Спасибо, — нерешительно сказал он, и крепко сжал ладошку девочки в своей руке.
Оглянувшись по сторонам, они выбежали на улицу.
* * *
Харри помог Агне сойти с мотоцикла, снял кожаную сумку, закрепленную на нижней раме багажника, и пошел к дому семьи Кац, по пути отмечая боковым зрением, как на окне кухни, выходившем во двор, едва заметно дрогнула занавеска. Условный стук, разбитый на два такта, о которым договорились Кельнеры и супруги Кац, гулко прозвучал в вечерней темноте. За дверью Харри не услышал ни единого движения, — дверь открылась плавно и бесшумно. Именно так, как он просил.
Все эти предосторожности могли бы показаться лишними, но, к сожалению, такими они теперь не были. Дверь открыл Дану. Кельнеры молча зашли в дом, а Харри и Дану пожали друг другу руки только тогда, когда оказались в прихожей маленького домика, под уютным светом потолочной лампы. Кайла, услышав голоса, вышла из комнаты и, замахав руками, приложила ладони к щекам, как она часто делала, когда смущалась.
— Герр Кельнер, фрау Агна, не нужно было!
Кайла посмотрела на кожаную мотоциклетную сумку с продуктами.
— Хороших продуктов вам все равно не продадут, поэтому…
Агна обняла Кайлу, и услышала фразу, которую женщина прошептала ей на ухо: «Мне нужно кое-что вам сказать!». Не выпуская руки Агны из своей, она провела ее в спальню, и плотно закрыла дверь.
— Дану против того, чтобы я говорила, но мне очень хочется, чтобы вы знали.
Кайла со смущенной улыбкой посмотрела на девушку, опуская взгляд вниз.
— Я беременна, фрау Агна.
— О… поздравляю!
Фрау Кельнер, немного растерявшись, улыбнулась Кайле и снова ее обняла.
— Какой срок? Когда вы узнали?
— Вчера, только вчера.
Кайла посмотрела на Агну сияющими глазами.
— Только… Что скажет герр Кельнер? Может, теперь будет труднее с отъездом?
Агна вздохнула, положив руки на плечи Кайлы.
— Пока у нас нет никаких точных новостей. Мы ждем. Но… все будет хорошо, не бойся!
Агна ободряюще улыбнулась Кайле, чувствуя, как в глазах собираются слезы, и отвернулась в сторону, рассматривая названия книг, напечатанные на корешках томов.
— Вы по-прежнему не хотите переехать в наш дом? — спросил Кельнер Дану.
— Нет! — хором ответили Кайла и Дану.
— Мы очень благодарны вам за помощь, герр Кельнер, но мы не можем подвергать вас такому риску. Это не обсуждается, — убежденно сказала Кайла.
Тяжелый, серьезный взгляд Дану подтвердил ее слова.
— Что ж… Нам пора, — сказала Агна, сжав на прощание руку Кайлы и кивнув ее мужу.
— Спасибо! — Кайла проводила их к двери, и, посмотрев на Кельнера, обняла его.
Харри, не ожидавший такого поворота, застыл на месте.
— До завтра, Кайла, — тихо сказал он, и вышел за дверь.
* * *
— Ты уверен, что они поймают сообщение? — спросила Элис, вглядываясь в темноту за окном «Мерседеса», и переводя взгляд вперед, на голые ветви деревьев, выхваченные из лесной глуши рваным светом автомобильных фар.
Эдвард кивнул, продолжая следить за дорогой.
— Соблюдать график выхода в эфир получается далеко не всегда, там это знают. К тому же, они там круглосуточно, так что… Приехали.
— Чур, я! Я быстрее тебя! — Эл задорно улыбнулась, и схватила чемодан с рацией.
Милн улыбнулся и вздохнул, наблюдая за ее безуспешными попытками перетащить тяжелый багаж с заднего сидения «Мерседеса».
Выйдя из автомобиля, он перенес чемодан с рацией вперед, и когда для эфира все было готово, резко опустил руку вниз, подавая Эл, наблюдавшей за ним, знак, что пора начинать. Блестящая черная лапка передатчика быстро и плавно застучала под пальцами Элис, и в Лондон полетела срочная, — как это чаще всего и было в последнее время, — шифровка, в которой содержались сведения о перевооружении германских войск и разработанном нацистами оружии. Информация о разработках, которые велись на заводах Круппа, была добавлена в конце сообщения.
Передача закончилась, и Элис, сняв черные наушники и отклонившись на спинку сидения, сделала несколько глубоких вдохов. Милн кивнул, подтверждая, что они уложились в очень короткий промежуток времени. Накрыв ладонью циферблат наручных часов, он задумчиво посмотрел на Эшби.
— Что?
— Нужно передать еще одно сообщение, с неподтвержденными данными.
— Какое?
Оглянувшись, Милн достал из внутреннего кармана куртки маленькую записную книжку и простой карандаш. Подняв голову, он посмотрел на небо, беззвучно произнося какие-то фразы, и, опустив взгляд, сделал запись в книжке. Оторвав нужный листок, он передал его Элис и присел рядом с ней. Быстро пробежав глазами по написанному тексту, она с тревогой посмотрела на Милна, едва слышно, одними губами, прошептав:
— Ты уверен?..
Милн снова кивнул, указывая взглядом на листок. Нужно было торопиться. Надев наушники, Элис вышла на связь с Центром. Теперь агент по имени Француз сообщал в Лондон о том, что по имеющимся у него неподтвержденным данным, с начала 1938 года
действующее правительство готовит в Берлине провокацию против евреев, которая состоится в ближайшее время.
— Откуда у тебя такая информация? — тихо спросила Эл, наблюдая за тем, как Эдвард смешивает пепел от сожженного им листка, — на котором был записан текст второй шифровки, — с землей.
Он ответил только тогда, когда убедился, что об их присутствии ничего не напоминает, и сел в машину.
— Ханна. Она приходила сегодня ко мне на работу. Рассказала об этой провокации Грубера. Не знаю, насколько это правда. Но, учитывая прошлые события…
— Кайла беременна, — перебивая Милна, быстро сказала Элис, и отвернулась к окну.
Послышался тяжелый вздох. После нескольких минут молчания Эдвард тихо сказал:
— Нужно поторопиться с их отъездом.
— И больше она ничего тебе не сказала? Ханна?
Не различимый в полумраке машины взгляд Элис остановился на профиле Милна. Он знал, что Эл имеет ввиду.
— Она сказала о вопросе Гиббельса.
Элис нервно вздохнула.
— Иди ко мне.
— Прости меня!
Поцеловав Элис в висок, Эдвард крепко обнял ее, проводя рукой по мягким волосам, и чувствуя, как давняя боль снова поднимается в его сердце.
— Все будет хорошо, Эл. Все обязательно будет хорошо…
— Я очень тебя люблю.
Элис серьезно посмотрела на Милна.
— А я — тебя.
— Ты будешь любить меня, даже если у нас никогда не будет детей?
— Да, — так же серьезно ответил Эдвард, рассматривая ее лицо. — Пообещай мне, что будешь очень осторожна. Всегда. Особенно сейчас.
Элис кивнула и поцеловала Эдварда.
— У нас впереди очень темные времена, Эл.
— Знаю, — тихо сказала Элис, и положила голову на плечо Эдварда.
— Они ничего не поняли, я уверена.
Элис повернула голову, устраиваясь на спине Эдварда поудобнее, и медленно вдохнула его запах.
— Я знаю, как выглядела… Когда он спросил меня о детях. Я контролировала выражение своего лица.
Эл помолчала.
— Жаль, что с ними нельзя поступить так же, как с девчонками из колледжа.
Милн хмыкнул, с удовольствием ощущая на себе небольшую тяжесть обнаженной Эл, и, выпустив в сторону сигаретный дым, посмотрел вверх, туда, откуда слышался ее тихий голос.
— Даже боюсь представить, что ты с ними сделала, — в тон ей ответил Эдвард, опуская руку вниз и стряхивая пепел с сигареты в хрустальную пепельницу, оставленную на полу.
Элис промолчала, но он почувствовал, как она улыбнулась в предрассветной тишине. Проведя пальцами по светлым волосам Эдварда, Эл расцеловала его спину медленной чередой поцелуев, нежно и неторопливо останавливая губы на коже после каждого из них.
— Я с ними дралась, — задумчиво произнесла она и замолчала, может быть, вспоминая то, о чем сейчас говорила. — Они читали мои записи. Хотя… я была еще та…
— Оторва?
— Да… — сказала Эл весело, и посмотрела на Эда, осторожно проводя указательным пальцем по его правому виску, — там, где был заметен тонкий белый шрам, окончанием уходящий вверх, в волосы. Поцеловав шрам, она прижалась к Эдварду.
— А ты? Каким мальчишкой был ты?
Смяв в пепельнице сигаретный окурок, Милн хотел повернуться на спину, но Элис, рассмеявшись, попыталась помешать ему, и обняла его еще сильнее.
— Я… — он замолчал, едва начав фразу.
Время шло, тишина длилась, а Милн, еще чувствуя на себе взгляд Элис, и ее нежные поцелуи, уходил все дальше, в прошлое, о котором никогда и никому не говорил, потому что не знал, какими словами об этом можно сказать. Да и кто захочет об этом знать?
…Память забросила его назад. Не слишком далеко, хотя и это теперь помнилось ему обломком потусторонней, нездешней жизни. Он застал Рифскую войну в Марокко на ее последнем этапе. Колониальная бойня длилась уже четыре года, когда он оказался в пустыне, а испанские, — и союзные французские войска, — в число которых тогда входил и он, правда, обозначенный в них под именем Себастьяна Трюдо, — все еще продолжали теряться в горах Марокко, который хотели захватить и усмирить. Эдварда Милна тогда называли Сэбом, и ему было восемнадцать, почти девятнадцать.
Первое задание после обучения в «Ми-6» для него, Милна-Трюдо, было обозначено кратко: «сотрудник французского посольства; задача — поиск и передача информации». И кто мог знать, что приехав во Францию под видом младшего помощника секретаря французского посольства, которому надлежало исполнять только самые последние, мелкие поручения, он вскоре окажется в этой далекой стране, расположенной, как теперь ему все чаще казалось, в каком-то другом мире, раскаленном от солнца дни напролет?
Он помнил, как в один из дней принес старшему секретарю необходимые документы, и, оказавшись в кабинете, стал с интересом прислушиваться к негромкому разговору двух генералов, перед которыми на столе была раскинута карта с обозначенными на ней путями, которыми французским солдатам надлежало следовать здесь, в песчаном Марокко.
И они бы им следовали. Если бы знали местность. Если бы знали горы, в которых оказалось слишком просто потеряться и исчезнуть, а позже обозначиться в военных сводках растущим с каждым новым днем трехзначным числом «пропавших без вести».
Милн не знал, что страшнее: сгинуть в незнакомых горах или быть пойманным рифами, отлично знающими эти горные тропы? Он не хотел ни того, ни другого. Но он умел читать военные карты, и потому с интересом, прикрытым послушанием и невозмутимым внешним видом, прислушивался к тихому разговору.
Один из генералов, словно учуяв что-то, покосился в его сторону, и посмотрел на него, — длинного и тощего парня, которого в стенах посольства он видел впервые. И уловил главное, — быстрый взгляд, украдкой брошенный на карту. Он перехватил его, преградив ему дорогу своим взглядом, — пронзительным и острым. И у новичка не осталось иного выхода, как опустить глаза, уйти на попятную. Генерал был доволен, но все время, что его коллега шептал ему на ухо возможные пути, которыми французы, соединившись с испанцами, могли окружить рифов в Марокко, он приглядывал за тощим, оставшимся стоять навытяжку на своем прежнем месте.
— Ты. Как твое имя? — резко спросил он парня.
— Себ…
— Это Себастьян Трюдо, генерал. Поступил на службу в посольство три дня назад, назначен младшим помощником секретаря, — ответил за Трюдо старший секретарь, и сдержанно улыбнулся, взглядом приказав выскочке оставаться на месте и не вмешиваться в разговор.
— Разве младший помощник может читать карты?
— Простите, генерал? — переспросил секретарь, проводя ладонью по блестящим от бриолина волосам.
— Военные карты, — нетерпеливо пояснил начальник, делая знак Трюдо. — Подойди. Себастьян подошел ближе, останавливаясь в двух шагах от стола, за которым сидели генералы, и сложил руки за спиной.
— Я видел, как ты смотришь на карту. Что ты знаешь о Марокко?
— Горы, — многозначительно сказал Сэб, и замолчал, сомкнув тонкие губы.
Заметив нетерпение на лице генерала, он пояснил чуть подробнее:
— Местность, о которой идет речь, — это Эр-Риф, насколько я смог заметить. Обширный горный хребет на севере Марокко. Здесь мало знания климата, нужно знать горы.
— Какое нам дело до гор! Мы объединяемся с испанцами и разбиваем этих варваров, вот и все! Все эти горы нам уже ни к чему! — вспыльчиво добавил второй генерал, замахав на Трюдо руками.
— Что вы предлагаете? — уточнил первый.
— Я не имею таких полномочий, генерал.
— Считайте, что я вам их только что выдал… младший помощник.
— Рифы — сильный противник, действующий на своей территории. Они знают горы, они у себя дома. Испанцы, в помощь которым Франция направляет войска, пренебрегают изучением горных троп, считая это напрасной тратой офицерского времени. А это значит, что именно за счет хребта Эр-Риф количество «пропавших без вести» испанцев, а вслед за ними и французов, будет только расти. Если… мы не начнем изучать горы Эр-Риф.
— И кто же их «изучит»? Может быть, ты? — насмешливо спросил второй военный, сворачивая карту.
— А мы его проверим, — добавил первый, который и подозвал Трюдо к себе. — Судя по всему, вы знакомы с топографией?
Сэб кивнул, и светлая прядь упала ему на лоб.
— Военной… обучался.
Второй снова хмыкнул, насмешливо разглядывая Трюдо.
— Неужели вы думаете, что сможете составить пригодную карту прямо там, на месте, в Марокко?
— В военных условиях, генерал, возможно составить вручную изготовленный рисунок, на котором будет представлен примерный план местности. Его можно изготовить копированием имеющейся топографической карты на полупрозрачную бумагу, либо зарисовывать. Правда, во втором случае допускаются погрешности в масштабировании и в пропорциях отображаемых участков местности, но, все же, такой вариант вполне пригоден для качественной ориентировки.
Все это Трюдо произнес без запинки, на едином дыхании, чем немало удивил присутствующих. Для тех же, кто мог знать Себастьяна Трюдо или Эдварда Милна, такая речь могла звучать и вовсе исключительно. Хотя бы потому, что ни Трюдо, ни Милн никогда не отличался особой словоохотливостью. Первый генерал кивнул, второй, как и прежде, хмыкнул, смотря на Сэба как на сопляка, просто вовремя оказавшегося в нужном месте. Вечером того же дня Трюдо сообщили, что завтра он едет в Марокко.
— Зарисуй нам эти чертовы горы, Трюдо, — прищурив глаза от табачного дыма, добавил его начальник, и похлопал Сэба по плечу. — Удачи, парень.
Пожелание оказалось весьма кстати. В первый же день после высадки Трюдо вместе с другими солдатами начал таскать мешки.
— В четыре ряда, клади! Аванпосты, это вам не просто так! — подгоняли их окриками офицеры, присвистывая и притравливая на ходу очередные пошлые байки.
Аванпосты.
Они их построили.
Из мешков, в несколько рядов высотой, как им говорили. Но когда рифы при налете разметали в прах более сорока таких постов, — всего их было около семидесяти, — то убивая солдат на месте, то забирая их в плен, — все оказалось напрасным. Единственным верным словом, оправдавшим свое значение, остались разрушенные аванпосты, — посты, которые действительно первыми приняли на себя удары противника.
И пусть французские официальные военные сводки голосили о «варварстве» и глупости рифов, плененные и убитые французские солдаты, которых было после того налета более четырех тысяч человек, — а прежде них и испанские, — испытали эту «трусость» на себе. У испанских солдат, набранных из числа нищих семей, не было никакой цели в Марокко. Они были кусками мяса, брошенными на съедение потому, что им нечем было откупиться от участия в этой колониальной кампании.У французских солдат, привезенных на помощь испанцам, цели тоже не было.
По-настоящему она была только у рифов. Они защищали свою землю, свою независимость. И потому бились зверски, как в последний раз. Впрочем, никто из противников не уступал друг другу в жестокости.
Притчей, — из уст в уста, — оставшиеся в живых солдаты, передавали друг другу позже подтвердившиеся истории о кастрации пленных, отрезанных ушах, головах, языках…
Передавали, и шли фотографироваться, захватив с собой отрубленную голову рифа или испанца, или француза. А после этого ее нанизывали на шест кровавой болванкой, и оставляли гнить под солнцем у каких-нибудь очередных ворот. Кровь была всюду. Ее было так много, что она вполне могла заменить собой реку Уэгла, недалеко от которой развернулась одна из битв, выпавших на долю Сэба.
Эту реку называли по-разному, — то «Уэргла», то «Уэга». Именно ее Трюдо неизменно, — мелкими и аккуратными линиями, — наносил на очередную схему местности. От всего происходящего голова шла кругом. Разум отказывался вмещать в себя столько криков, боли, крови и напрасных, никому ненужных, страданий.
Закрывая глаза, Трюдо часто видел перед собой кровь. Ему казалось, что она пропитала его насквозь. Да, он не фотографировался с «трофейными» головами рифов, но когда рифы на него нападали, его ответ был таким же, как и ответ других солдат, стоящих рядом с ним на аванпосте: он их убивал. А потом ему снова снилось, что он залит кровью. Сначала по щиколотку, потом — по горло. Через секунду, когда он уже начинал захлебываться и тонуть в кровавой реке, кто-нибудь мог тряхнуть его за плечо, окликнуть резким шепотом по имени.
Тогда он медленно открывал глаза, и оказывалось, что никакой кровавой реки нет. И вообще… никакой нет. Реку Уэгла, — или как там ее называли, — он не видел. Только рисовал ее тонкой и плавной линией на самодельных картах, которые затем передавал в штаб. И не знал, что будет дальше. А дальше, — до того, как аванпост, на котором находился Трюдо, был сначала блокирован рифами, а затем разрушен, — он узнал, что значит умирать от жажды. Удачи, которой ему пожелал начальник из далекого, уже забытого им посольства, хватило на все десять месяцев, что он был на войне в Марокко. Только удачей, — и ничем иным, — Трюдо мог объяснить тот поразительный факт, что он был все еще жив. Именно это время стало для него тем, что нельзя рассказать. Но ярче всего Эдвард запомнил то, как он умирал от жажды.
И не умер.
Или почти.
Кто-то вытащил его с территории разнесенного рифами поста, и он до сих пор не знал, кто именно это был. А сейчас все это казалось таким невероятным… Хотелось знать только одно: настоящую минуту. Чувствовать поцелуи Эл, тепло ее тела. Все остальное было за границей его внимания, и эту границу он внимательно охранял. Аванпост «Трюдо» не был уничтожен, он просто стал выглядеть иначе.
— Я…— повторил Эд, и хотел что-то прошептать, но осекся, вспомнив себя, тринадцатилетнего, в тот день, когда дядя сказал, что его родители попали в аварию.
Он так и сказал «попали в аварию». Слова прозвучали сухо. Они никак не вязались с душным, знойным днем, окружившим Эда и брата его отца. Зной был таким тяжелым, что они смотрели друг на друга из-под ладоней, сложенных над глазами подобно козырькам.
— Что? — спросил Эдвард, морщась от палящих лучей.
Ему показалось, что зной, мерцающий вокруг него душной стеной, исказил его слух, и дядя что-то сказал про аварию родителей. Но нет, ему это наверняка показалось, — отец слишком хорошо водит машину, чтобы попасть в аварию. Но вот эта фраза повторилась снова. Эдвард неровно вздохнул, поперхнувшись раскаленным воздухом, растянул губы в стороны, и замотал головой.
— Ты шутишь?..
— Какие шутки… На загородном шоссе.
Эдвард отмахнулся от слов дяди рукой. Еще цепляя боковым зрением его белую рубашку, он уже бежал через весь сад, к дому. Там, там была тетя, жена дяди, там были люди, взрослые, прислуга… Он забежит в дом, зайдет в гостиную, где тетя читает книгу, и без этого дурацкого, отупляющего зноя, узнает правду: родители едут домой по загородному шоссе.
Эд перепрыгнул через ступени белого крыльца, и вбежал в комнату. Несколько секунд, — что его всегда ужасно раздражало, — ушли на то, чтобы постоять с закрытыми глазами и дождаться, пока перед ним перестанут плавать мутные, зеленые круги.
Ну вот, наконец-то! И… почему тетя повторяет за дядей? Это же не может быть правдой: папа прошел Первую войну, вернулся домой, он выжил там, он архитектор, он отлично водит автомобиль, он и мама просто ездили смотреть новое здание, куда скоро должно переехать архитектурное бюро Элтона Милна.
— Эдвард, мне очень жаль!
Лицо тети сломалось, разваливаясь на части словно по заранее заданным линиям.
Вот он, теперь старший Милн, стоит перед ней. На нем белая футболка и белые шорты, он только что играл на улице в теннис… Вот же, смотри, и ракетку принес с собой, — так и бежал к дому, зажав ее в правой руке. Нет, все неправда и правдой быть не может! Нужно просто… Знаете что? Съездить туда, встретить родителей.
Эдвард кивнул головой, — позже это движение станет его привычкой, которая будет помогать ему сверяться с самим собой и со своими мыслями. Еще один наклон головы, с темнеющими на висках, — от пота, — светлыми волосами. Конечно, это вполне разумно, — нужно только съездить туда, и все узнать самому. В конце концов, все говорят «попали в аварию». Это же не значит, что… Сколько раз он падал с велосипеда, когда разгонялся слишком быстро и ехал, не держась за руль?... Мама так и говорила, — с досадой и беспокойством, — обрабатывая его новые ссадины и беря с него еще одно обещание не ездить слишком быстро:
— Ты снова попал в аварию?
Эд тогда улыбался, внимательно разглядывая вблизи ее красивое лицо с мягкими чертами, и…
Он вернулся на место аварии. Родителей похоронили вчера, а вот куда увезли черный расплющенный кабриолет Stellite, на котором они возвращались в город, Эдвард не знал. На узкой загородной дороге, с одной стороны подбитой высокими горами, а с другой — петлявшим, — и в месте столкновения с автомобилем, разбитым ограждением, остались пятна крови. Крупные и мелкие, они разлетелись по асфальту кляксами, так сильно похожими на острова густой киновари, что у Эда мелькнула безумная мысль: взять кисть и разрисовать все шоссе, насколько хватит сил. Ведь считали же, например, египтяне, что красный — это цвет не только смерти, но и жизни, и потому окрашивали опасных демонов и Изиду, мать мира, бархатной киноварью, яркой и тяжелой, как сама кровь.
Эдвард резко тряхнул головой и посмотрел на свои несуразно-длинные мальчишеские ноги, обутые в громадные ботинки. Где-то рядом птицы захлебнулись трелью, разбавляя морок тяжелого майского дня. Солнце шло на закат, согревая его спину теплыми лучами. Острые лопатки, проступавшие через тонкую ткань рубашки, дрогнули. Он закрыл глаза.
И снова увидел тот день.
От удара автомобиль развернулся на полкруга, отец погиб за рулем, а маму выбросило из кабриолета на дорогу. Когда Эдвард приехал на место, выпрыгивая на ходу из еще не остановившейся машины, на ее белом платье не осталось ни одного светлого пятна, все поглотила кровь…С момента аварии прошло только несколько дней, а он уже плохо помнил детали. Но помнил, как опустился на асфальт рядом с мамой. Хотел ее поднять, и — не смог. Руки стали красными, и он понял, что она умерла. После этого осталось только одно, — побыть с ней, сколько можно. Эдвард подогнул ноги, укладывая маму на них, как на подушку. Ее голова была разбита, и белые волосы, теперь тяжелые и темные, липли к его тонким, дрожащим пальцам. Вокруг суетились люди. Подходили к нему, опускали руку на остроконечное плечо, пытались отнять у него маму. Но он не разрешал. Ему нужно было поговорить с ней о самом важном. И еще попрощаться. Не во время официальных похорон, а так, как мальчик, совсем недавно ставший подростком, пытается отпустить маму, которую еще не успел спросить о громадно многом.
Он забыл, что шептал тогда, склонившись над ней. Помнил только, как отогнал кого-то, выбросив руку, — как узкую плеть, — в сторону. И заметил браслет на запястье мамы. Тонкая нить звеньев кротко заблестела, когда он взял маму за руку. В браслете не хватало камней. Эдвард забрал его с собой, и он золотой, блестящей змейкой неслышно скользнул на дно кармана, сворачиваясь в дальнем углу. А потом снова стало очень шумно, Эдварда с силой подняли на ноги, выталкивая вперед и вверх, подальше от мамы с закрытыми глазами.
Милн пожал плечом. Вышло неловко и смешно. И совсем не было похоже на то, что он хотел сказать этим движением. Чувствуя на себе вопросительно-мягкий взгляд Эл, он уткнулся лицом в подушку, и сел в кровати, поворачиваясь к Элис спиной. Она прижалась к нему, и, поцеловав в точку на спине, снова обняла его, положив ладони на грудь.
— Эд?
Он опустил голову вниз, продолжая молчать.
— Расскажи мне… пожалуйста.
Он посмотрел на ладони Элис, и накрыл их своей рукой.
— Нет.
Она хотела заглянуть в его лицо, но отвернулся от нее.
— Я хочу помочь.
— Нет. Не нужно.
Эдвард поднялся с кровати и тихо добавил, не глядя на Эл:.
— Это не поможет. Слова никогда не помогают. Я… Никогда не был мальчишкой.
Подняв голову, он с вызовом посмотрел на Элисон.
— Ты все обо мне знаешь, Эл. Что еще тебе нужно?
Под резким взглядом его голубых глаз, в эту минуту таких пронзительных и острых от проступившей боли, Элис смутилась. Помолчав, она ответила, старательно подбирая слова:
— Я знаю о тебе только то, что было с момента нашей встречи, но о твоем детстве и… об этом, — она завернулась в простынь, подошла к Милну, и прикоснулась сначала к шраму на его груди, пересекавшим ключицу, а за ним — к тому, что уходил от правого виска вверх, скрываясь в волосах, — ничего… Ты никогда об этом не говоришь. Я хочу помочь, я смогу!
Милн отрицательно покачал головой.
— Нет. Ни к чему об этом говорить.
Взяв Элис за плечи, Милн отодвинул ее в сторону, и вышел из комнаты.
* * *
Когда Эл вошла в большую гостиную, она уже была заполнена звуками мелодии Шопена.
Nocturne No.13, op. 48, No.1
Эдвард часто играл именно этот ноктюрн. Особенно в последнее время, когда поздно вечером или уже ночью они возвращались в дом Харри и Агны Кельнер после передачи очередной шифровки.
Когда мелодия, — в первой части легкая и элегантная, но печальная, похожая на грозные шаги похоронного марша, — начиналась, Эл, где бы она ни была в этот момент, замирала на месте и внимательно вслушивалась в волны бессловесно-страстной истории. Но больше всего ей нравилось окончание второй партии и начало третьей, — в те несколько мгновений, что длился этот переход от грозы — к нежности и тишине, казались ей самыми восхитительными во всей мелодии. А еще она очень любила наблюдать за Эдвардом в те минуты, когда он играл.
Элис любовалась им. Тем, как он, сидя за черным, крылатым роялем Bechstein, который по красоте и элегантности был настоящим произведением искусства, исполнял ноктюрн Шопена. Во второй части мелодии, — сложной и мрачной, со множеством высоких восхождений, движения Эдварда, его длинных, тонких пальцев, были особенно завораживающими.
Чувствуя робость, которую испытываешь в присутствии настоящего, Элис, застыв, слушала мелодию так внимательно, словно хотела навсегда запечатлеть ее в своей памяти. Вот и сейчас, прислонившись к стене, она молча следила за уже знакомыми спадами и подъемами музыки. По лицу Эдварда, сосредоточенному и серьезному, пробежала тень. Вторая часть мелодии, которая требовала высокой скорости исполнения, разлилась вокруг, оглушая своими раскатами гостиную, и с каждым новым тактом поглощая собой все окружающее.
На пике мелодии Эдвард немного сбился с ритма, и сердито тряхнул головой, отчего несколько светлых прядей упали ему на лоб.
Плотно сжав губы, он слегка наклонил голову вниз. Можно было подумать, что он внимательно следит за черно-белыми клавишами, но Элис видела, что взгляд его обращен в невидимое, и, — судя по горячему блеску глаз, — к тому, что неизменно отвлекало на себя все его внимание в те минуты, когда можно было не говорить.
«Нужно быть готовыми, Эл…» — сказал Эдвард несколько дней назад, когда они снова проверяли спрятанные в одном из тайников дома в Груневальде, чемоданы. Один с вещами, другой — с рацией. В памяти Элис промелькнула картинка из того дня. Легкая, похожая на белое, летящее перо.
Подняв голову, Элис вернулась взглядом к лицу Эдварда, и сердце снова дернулось от боли. Ей казалось, что с каждым новым днем он становится еще более одиноким. И ее мучило осознание того, что она не знает, как ему помочь. И что, несмотря на все время, которое они провели вместе, она по-прежнему, как и в день их первой встречи, почти ничего не знает о нем, — настолько неустанно и бдительно Эдвард охраняет свое прошлое абсолютным молчанием от всех других, даже от нее.
Исключением из этого незнания можно было считать лишь то немногое, сказанное им прямо или с намеком, что ей удалось узнать, — а позже и собрать, — в причудливую мозаику разрозненных событий.
Самым полным в этом смысле было воспоминание о том, как во время их большой ссоры, — Эл тогда уехала, а на деле практически сбежала от Эдварда в Лондон после его измены, чтобы, по официальной версии, Агна Кельнер прошла обучение у мадам Гре — Эдвард, проводив ее до дома на Клот-Фэйр-стрит, сказал, что в детстве мечтал стать архитектором, чтобы строить красивые дома, как его отец. Все изменила война, на которую он попал в свои восемнадцать.
Еще несколько подробностей Эл узнала позже, совершенно неожиданно, — в тот день они были уже в Нюрнберге, на съезде нацистской партии, и она рассказывала Милну, что ее брат нашелся. Тогда, во время спора, — Элис помнила это очень ясно, — Эдвард достал серебряную фляжку из внутреннего кармана пиджака, и, открутив крышку, с жадностью выпил ее содержимое до дна. Элис язвительно упрекнула его в том, что он выбрал не слишком удачное время для спиртного… Вспоминая об этом, она до сих пор испытывала жгучий стыд за свои слова.
Алкоголь оказался обычной водой, и Эдвард, отвечая Элисон в тон, сказал, что на той войне он умирал от жажды. С тех пор вода навсегда стала для него настоящей драгоценностью. Спиртное же, наоборот, на Милна не действовало. Но и об этом Элисон узнала случайно, и — позже. К этим воспоминаниям, и к нескольким другим, еще более отрывочным, Элисон Эшби могла прибавить только четыре ночных приступа Милна.
Она посчитала каждый из них. И каждый из них она помнила. Они начинались незаметно, когда Эдвард спал. Он вдруг сильно вздрагивал, то закрывая ладонями лицо, то заводя руку под подушку, — так, словно искал оружие. И его тело, выгнувшись дугой, подбрасывало вверх, а он, оглядывал комнату по кругу широко раскрытыми, невидящими глазами, и с яростью шептал: «Не подходи! Кто идет?!». Когда эта фраза прозвучала во время первого приступа, Элисон испуганно сказала: «Это я, Элис!». Ее ответ был слишком тихим, и она повторила его уже громче, увереннее. Эдвард, повернувшись к ней, бросил на нее все тот же невидящий взгляд. Прошло несколько бесконечных минут, Элис услышала, как Эдвард тяжело выдохнул воздух из груди, и напряжение, сковавшее его лицо и тело, начало понемногу спадать, — так трещал тонкий лед по ранней, весенней реке. От фразы Эл, — «это я, это я… все хорошо», — которую она повторяла медленным, мягким шепотом, и как можно спокойнее, положив руку ему на плечо, а затем, мягко целуя Эдварда в висок, покрытый каплями пота, Милн постепенно расслаблялся и затихал.
Обняв Эдварда, Элис укладывала его на спину, и долго слушала, как его дыхание, в начале сбитое и рваное, подстраиваясь под ее такт, становится глубже и размереннее. Эдвард засыпал и уходил в свои сны, от которых его веки заметно дрожали, а Элис оставалась рядом, не разнимая рук, без сна: только с глубоким дыханием в груди и слезами, которые, скатываясь по одной и той же траектории, бесшумно падали вниз.
Все последнее время мысли Элисон особенно часто занимала эта мозаика, — нескладная, разбитая, острая. Эл возвращалась к ней снова и снова, перебирая в мыслях слова Эдварда, которые можно было бы отнести к тому периоду его жизни, о котором он не говорил, выражения его лица, недосказанные фразы…
Когда Элис пыталась поговорить с ним об этом, — как можно мягче и осторожнее, чувствуя, что его это сильно ранит, — Милн решал вопрос тем способом, который часто приносил ему удачу, и которым он со временем овладел великолепно, — перемена темы, «неожиданный» вопрос о том, что в эту минуту казалось важнее пространных разговоров о прошлом, и… Собеседник, как правило забывал то, о чем хотел спросить. Нужный момент терялся, тонкие минуты, в которые можно было говорить о сокровенном, убегали, и Милн облегченно вздыхал, чувствуя себя при этом как преступник, почти услышавший вынесенный ему приговор.
Но время шло, и Элис пугалась того сравнения, которое все настойчивее возникало в ее мыслях: такое молчание, тяжелое и тяжкое, было похоже на абсолютное безмолвие надгробного камня. Эл очень боялась, что оно поглотит Эдварда своей тяжестью…
Если только он не сможет сказать об этом, хотя бы немного, — хотя бы что-то для того, чтобы облегчить свою боль. Но Милн молчал, а если Элис начинала говорить об этом, он, — как и сейчас, — по-прежнему уходил от ответа. И Эл не могла его за это винить, но все чаще она задавалась мучительным вопросом: сколько еще он сможет так убегать? И что она может для него сделать?
Не отличаясь особой разговорчивостью и в прежние дни, Эдвард стал теперь еще молчаливее. Собранный, сдержанный, сосредоточенный. Хранивший про себя свою горечь, о которой, как и раньше, он не желал говорить. Или не мог.
Сделав движение в сторону Милна, Элис в нерешительности остановилась. Когда мелодия вошла в свой завершающий, тихий и трепетный такт, она беззвучно подошла ближе, и положила руку на черное фортепиано, так похожее на великолепный корабль, плывущий по волнам моря в блестящих отсветах полной, ночной луны.
Скорее почувствовав, чем услышав ее, Эдвард слегка повернул голову в сторону Элис, продолжая смотреть на клавиши и вести мелодию по давно заданному ритму. Черты его лица немного смягчились, что происходило всегда, когда рядом была Эл. Вот улыбка взяла свое начало в правом углу губ, и… Окна гостиной разлетелись в стороны, дробясь под силой взрывной волны на бесчисленное множество осколков.
* * *
Эдвард очнулся не сразу. Сначала пришлось походить в грязной, соленой воде, затопившей собою все вокруг. Там, где он оказался, не было звуков, ориентиров, времени.
Все карты о горных склонах Рифии, которые он когда-либо рисовал, оказались ненужными. Он шел в воде, размахивая руками, — пытаясь разбавить окружающую муть, чтобы хоть как-то различить дорогу, а карты сыпались на него сверху, снова и снова.
У него не было времени на то, чтобы рассматривать их. Он просто знал, что это его карты: маленькие, мятые листы, серые от пыли и грязи. И другие, — большие и белые. «Чистовые», которыми пользовались офицеры из штаба. Грязные рисунки Себастьяна Трюдо перенесены на новые листы кем-то другим, кто долго рассматривал его «карты», часто сделанные неровными линиями, кривизна которых в реальности означала страх, испуг, выстрелы и взрывы. А еще — потерянное время, выпавший из рук карандаш, который надо найти в пыли и в песке, чтобы дорисовать очередную кривую линию.
Дрожащие руки, испуганные лица.
Близкие, слишком близкие взрывы.
От них небо мешается с землей, твой горизонт заваливается набок или одной мгновенной прямой летит в темноту. Если тебя не подорвут напрямую, то взрывная волна все равно найдет тебя. Листы падают сверху, кружатся, уходят на дно. И, поднимаясь, снова находят его для того, чтобы мокрыми, рассыпанными по воде хлопьями, прилипнуть к нему, к его коже, рукам, глазам. Закрыть глаза, сбить с пути, утащить на дно. Потому что по всем расчетам теории вероятности он должен был давно умереть. Тогда почему ты все еще жив, Милн, и упрямо идешь вперед?..
Ты — та самая случайная величина и событие, избежавшее общего числа? Хитрый мальчишка, зачем-то желающий жить. Выходит, Блез Паскаль наврал нам, и ты как-то сумел обмануть его прогнозы выигрыша в азартных играх, а одна из самых страшных игр происходит снова и снова. Ее имя ты, как и миллионы других, знаешь слишком хорошо.
Война.
Мы не учим уроки прошлого. В них случайная величина — исключение, не правило. Где-то в твоем сознании бьется яростная мысль, что все это, — пусть и правда, — но она не может длиться долго. Свет сильнее тьмы. Почему? Ты знаешь ответ, но упорно молчишь. А в нем — всего две буквы имени. Потому что пока ты идешь в воде, время может бежать против тебя. И ты торопишься.
Спешишь.
Стараешься бежать в воде изо всех сил, что у тебя есть, а если их не хватит, и они иссякнут от взрыва, ты перейдешь за пределы.
Ты сможешь.
Ты сильный.
Не мирный, военный мальчик.
Воспитанный большой болью, потерей и одиночеством, ты знаешь, как выживать на войне. Собираться с мыслями во время боя. Держаться, не сдаваться, идти, бежать, прятаться и скрываться.
И потому на другой стороне — так сложно.
Примирить себя с миром, которого у тебя было меньше, чем войны. Примерить его на себя, себя — к нему. Попытайся сделать это, и поймешь, что задача — невыполнима. Нужно говорить, потому что в мире люди говорят. Нужно отвечать, потому что она, — та, чье имя из двух букв для тебя — маяк, сотканный из солнца и рыжего света, хочет знать.
Она не требует ответа, потому что знает, что у нее нет на это права. Но каждый раз, дойдя до обозначенных тобой рубежей, она остается молчать.
Стоять и молчать. И ждать.
И смотреть на тебя, и ждать той минуты, когда ты сможешь заговорить.
Ты сможешь?
Ты, не мирный, военный мальчик?.. Ты знаешь эту темную воду по своему прошлому. В иных обстоятельствах вас можно было бы назвать хорошими знакомыми. Помнишь? Сначала не было ничего, кроме темноты и пустоты. Только звон оглушенного первой контузией сознания и попытка собраться на месте, начиная с той точки, в которой ты теперь оказался. Ты знаешь ее по своему прошлому, вы неплохо знакомы. Может быть, поэтому она снова сдает тебе счастливые карты, и ты, выбравшись на другой берег, все еще дышишь и видишь над собой ее. Имя ее — из двух букв, а вся она — твой маяк.
Большие окна вынесены до основания. По комнате, которая несколько минут назад была красивой, большой гостиной в доме Агны и Харри Кельнеров, гуляет холодный, осенний ветер.
— Харри! Харри! — Агна трясет мужа, вцепившись в его рубашку. — Харри!
Тыльной стороной руки она сбрасывает с лица грязь и набегающие слезы, и снова смотрит на него, не чувствуя, как осколки впиваются в ладони. Где-то близко слышится шум и хохот голосов. Он доходит до Агны рваной звуковой волной, но она не обращает на него внимание. Нужно, чтобы Эдвард очнулся. Она трясет его с такой силой, что его голова отрывается от пола, и снова, с глухим звуком, падает вниз.
Эл осматривает комнату. Глаза сильно слезятся, и она снова и снова смахивает с лица бесцветные капли. От взрыва фортепиано завалилось на сторону. Именно оно спасло их, — закрыло Агну и Харри собой, своим черным, блестящим крылом. Если бы не это, то, может быть, сейчас они были бы уже мертвыми. Но все это она поймет потом.
А сейчас, осматривая комнату неясным от слез взглядом, она ищет что-то, что может помочь. В голове настойчиво крутится мысль о нашатырном спирте и «стимуляторе дыхания». Другая мысль доказывает ей, что это полная чушь, и нужно вытаскивать Эдварда из дома: «Можешь взять его под руки или тащить на одеяле… возьми одеяло… много стекла».
Элис смотрит на себя, обматывает колени подолом платья и очень медленно, по осколкам, отползает к стене. Удерживаясь за нее, она медленно встает.
Голова слишком сильно кружится, и Эл клонит в сторону. Подняться на ноги получается только с третьего раза. Туфли. Хорошо, что на ней до взрыва были туфли. И хорошо, что они на ней сейчас. «Не нужно бояться осколков. Ищи одеяло». Эл оглядывается и, шатко ступая, возвращается к Эдварду. Времени нет. Нужно идти. И забрать чемодан с рацией из потайного кабинета. А небольшой чемодан с одеждой и всем необходимым, — как сказал Эд, когда они его собирали, «на всякий случай», — уже несколько дней лежит в багажнике «Хорьха». Она смотрит на Эдварда с высоты своего роста. На его теле нет видимых повреждений и ран, и Элис застывает на месте, не зная, что ей делать в первую очередь: идти за рацией или вытаскивать Милна из разрушенного дома?
За развалом стены, в которой раньше были окна гостиной, никого нет. Смех, который, кажется, она слышала раньше, стих, а фортепиано, как и прежде, закрывает Милна своим остовом от чужих глаз, и… Элис решается. «Делай, успеешь!» — шепчет она сама себе, забегая в библиотеку, и пытаясь найти в скрытой нише ключ от двери, за которой они хранят чемодан с рацией. Пальцы не слушаются, и, как назло, немеют от волнения, но когда, наконец, Элис удается открыть дверь, она чувствует, как уверенность возвращается к ней, накачивая ее изнутри, словно воздух. Схватив тяжелый чемодан, она со всей возможной скоростью возвращается в большую библиотеку, и снова закрывает скрытую дверь на ключ. Эл рассчитывает вернуться за Эдвардом сразу же, как отнесет рацию в машину, и, увидев его сидящим на полу гостиной, вздрагивает.
— Агна!
Элис бросила чемодан на пол, и подбежала к Милну.
— Живой!.. — прошептала она, крепко сжимая его руку, и проводя ладонью по волосам, засыпанным грязью и осколками стекла.
Эдвард, отстранив от себя Эл, быстро осмотрел ее, и снова порывисто обнял.
— Ты целая?
Она ответила, но фраза заглушилась о его плечо, и теплым облаком вошла в ткань рубашки.
— Я хотела отнести рацию, и вернуться за тобой, — сказала Эл, когда первая волна страха улеглась.
— Да, пойдем! — Милн поднялся, сжимая протянутую руку Элис, и остановился, удерживая равновесие.
— Не спеши. Мы успеем.
Он кивнул, крепче пожимая ее ладонь, и они пошли к чемодану с рацией.
— Стой здесь, я отнесу чемодан и вернусь, — Элис повернула Эдварда спиной к стене.
— Он очень тяжелый, Агна, — попытался протестовать Милн. — А ты… маленькая.
— Я вернусь, — повторила Эл, и Эдвард, закрыв глаза, слушал ее шаги, пока она не ушла слишком далеко.
Когда Элис пришла, он все так же стоял у стены. Правда, не слишком прямо, а немного съехав в сторону.
— Это я.
Она перекинула его руку через свое плечо и сделала пробный шаг.
— Это нечестно… это я должен тебе помогать.
Стекло захрустело под тяжелыми шагами Эл. Вместе они медленно выбрались из дома. На воздухе Милну стало легче, и он, почувствовав себя лучше, убрал руку с плеча Элис так быстро, словно в том, что она его поддерживает, было что-то постыдное. Поглощенные произошедшим в доме, Элисон и Эдвард только сейчас обратили внимание на то, как выглядят ночные улицы Груневальда. Грязные, с разграбленными домами, в которых так же, как и в их доме с синей крышей были разбиты окна и полыхал огонь, — они были, все же, не так изуродованы мародерами, как центральные перекрестки, магазины и многочисленные дома и домики Берлина. Может быть, только пока. Впрочем, все было относительно.
Эту ночь, с девятого на десятое ноября скоро назовут очень красиво, даже несколько романтично, — «хрустальной», — и уже позже, при подсчете урона, нанесенного рейху, конечно же, евреями, — Гиринг оценит его в один миллиард марок, и возложит выплаты на тех евреев, которые в эти страшные часы сумеют выжить, — станет очевидно, что тогда в Берлине для обычных людей не было безопасного места.
Штурмовики и нацисты, переодетые в штатское, с таким азартом крушили витрины еврейских магазинов, синагоги и дома, что весь столичный город был засыпан разбитым стеклом. Уже потом, на утро, многие немцы, прогуливаясь по улицам, станут с улыбками на лицах рассматривать разрушенные здания, витрины магазинов, или — в меру своих человеческих способностей, — пытаться унести то, что не унесли до них.
А пока длилась ночь, длилось и насилие. Людей, посмевших не открыть дверь пришедшим, вытаскивали на улицы и избивали один на один или — толпой, которая не возражала против такого развлечения.
Мужчин забивали до смерти или бросали в камеры, чтобы позже отвезти их в ближайшие лагеря, в том числе и в Дахау, где места для вновь прибывающих были подготовлены заранее. Женщин насиловали и бросали в истерзанном виде там же, где кончали свои забавы. Нюрнбергские законы 1935 года, запрещающие чистокровным арийцам «половые связи» с евреями, в эту ночь массово были нарушены самими арийцами. Оказалось, что сидеть с евреями на одной парковой скамье или ходить по одной и той же улице нельзя, а вот насиловать и убивать их — можно. Что до стариков и детей, то последних для нацистов не существовало. И на следующее после погромов утро можно было без труда увидеть на тротуарах тела детей, пробитые штыками или с разбитыми головами. Они больше не говорили. И не мешали истинным германцам жить.
Стариков заставляли участвовать в очень смешном представлении: опустившись на колени, и взяв зубную щетку в руку, каждый из них должен был чистить тротуар Великого города. Если же он справлялся с этой задачей плохо, то собравшаяся вокруг него толпа, помогала ему громкими оскорблениями, насмешками и ударами.
Но всего этого Элис и Эдвард не видели. Они были уже рядом с машиной, когда позади послышался гвалт и хохот близкой толпы. И если до этой минуты у Элис еще были сомнения в верности своих действий — точно ли стоило бежать или опасность миновала, и они могут остаться в доме? — то теперь она, чувствуя нарастающий страх, и даже не пытаясь рассмотреть тех, кто кричал и шел за ними, ускорила шаг еще больше.
«Делай, успеешь!» — повторила она себе, укладывая чемодан с рацией на заднее сидение «Хорьха».
Эдвард шел на шаг позади нее. И, в отличие от Элис, рассматривал толпу преследователей, — настолько, насколько это было возможно. А еще прикрывал Эл. Потому что помнил, как прицельно могут ранить бутылки с зажигательной смесью, брошенные меткой рукой. Заметив, что добыча состоит всего из двух человек, один из которых, — мужчина, идет неровным шагом, а вторая — девушка, которой вполне можно поживиться, преследователи отошли от горящего «Мерседеса», принадлежавшего Кельнерам, и ускорили шаг, а затем перешли на бег, — когда стало понятно, что еще чуть-чуть, и живность может удрать. В иной ситуации Эл и Эд поменялись бы местами, но сейчас на это не было времени, и за руль, вопреки обычному положению дел, села Элис. Она растерянно посмотрела на Эдварда, рассматривающего толпу в зеркало заднего вида. Расстояние между ней и «Хорьхом» сокращалось все быстрее и быстрее.
— Пристегнись, — тихо напомнил Милн, — и включи зажигание.
Услышав звук мотора, он, все так же рассмотря на толпу, добавил:
— Сдай назад, Эл.
— Но они уже близко, нет времени! — крикнула Элис, убирая руки с руля.
— Сдай назад и разворачивайся. Слышишь?
— Да! — громко ответила Элис, чтобы Эдвард точно ее услышал.
Милн не глядя положил свою руку на руль, поверх руки Эл, и сжал ее пальцы.
— Давай!
Мотор взревел, Эдвард вывернул рулевое колесо, и преследователи ненадолго остановились, не ожидая, что добыча окажется к ним так близко, — на расстоянии вытянутой руки. «Хорьх», развернувшись, подъехал к ним, и, обдав их острой россыпью гравия, быстро ушел вперед.
* * *
— Они подожгли «Мерседес»! — Эл впервые заговорила с того момента, как они уехали из Груневальда, от волнения поднимая и опуская руки. — Они подожгли его?!
Милн кивнул, и перевел взгляд за окно. Теперь за рулем был он, и «Хорьх» остановился на дороге между Берлином и Мюнхеном, — Милн не понимал, куда им теперь ехать.
Элис посмотрела на Эдварда, открыла бардачок, взяла какой-то сверток, и, выйдя из автомобиля, открыла дверь с водительской стороны.
— Как ты? Подвинься ближе, мне нужно осмотреть твою голову.
— Агна, все в порядке, — начал Милн, но, посмотрев в лицо Элис, добавил еще мягче, — все хорошо, правда.
Она отрицательно покачала головой, положила сверток на крышу «Хорьха», развернула его и осмотрела содержимое, состоявшее из средств для обработки ран.
— Ни черта не в порядке, Харри. Дай мне фонарь, пожалуйста.
Эл кивнула на небольшой переносной фонарик в черном футляре, который они иногда использовали при передаче шифровок в Центр. Он не раз им помогал, когда они выходили на связь ночью.
— Я не ранен, — возразил Эдвард, протягивая ей фонарь.
— Да, конечно! Дом взорвали, забросали бутылками с зажигательной смесью, окна разбиты, вся гостиная в стекле, на улице горит копия автомобиля Грубера, за нами шла толпа идиотов, а ты ближе всех был к месту взрыва, и ты не ранен, конечно!
— Фортепиано закрыло нас от взрывной волны, — напомнил Эдвард, поворачиваясь к Эл, и позволяя ей осмотреть свою голову. — Все обошлось.
— Нет! — Элис крикнула, и посмотрела на Милна. — Мы проехали мимо убитых людей, там были дети, ты видел? Видел пожары? Дома горят. А плач и крики? А Кайла беременна… боже, — Элис остановилась, вглядываясь в темноту, — Кайла беременна!..
После этой фразы Эл замолчала, и снова начала осматривать Милна. Он оказался прав, — фортепиано надежно закрыло их от взрыва, и он не был ранен.
Элис убрала пинцетом с его волос только несколько стеклянных крошек. Давний шрам на голове Милна, — девушка осмотрела его особенно тщательно, — был чистым и спокойным. Присев перед Эдвардом, Элис отогнула в сторону край его рубашки, — с той стороны, где от шеи до груди по коже бежал еще один, длинный и узкий шрам. Он тоже был чистым и спокойным. Ни одного осколка или царапины.
— Все хорошо, — сказала Элис тихо, и опустила взгляд вниз. — Все хорошо…
— Эл, — Милн наклонился к ней.
Элис закрыла лицо руками, а потом тихо заговорила, аккуратно подбирая каждое слово:
— Есть мальчик. Ему семь. Мариус. Он живет в одном из домов, напротив дома мод Гиббельс. Когда… когда Гиринг пытался меня изнасиловать, Мариус спас меня, въехал в него на велосипеде, на полной скорости. С тех пор я вижусь с этим мальчиком. Иногда. Даю ему деньги, золотые марки. Но он давно не приходил, хотя я долго его ждала.
Я ничего о нем не знаю, не знаю, где он живет. Он не хотел говорить.
Но… если даже сейчас, когда страшно, мы ничего, совсем ничего не можем сделать, тогда… Зачем это? Это все?..
Эдвард внимательно выслушал Элис, поднялся с автомобильного сидения и прошел мимо нее, засунул руки в карманы брюк, и уставился мрачным, тяжелым взглядом на загородную дорогу. Распинав носком ботинка каждый из ближайших камней, он вернулся к автомобилю.
— Сейчас мы поедем к Кайле, проверим, как они. А потом, через несколько дней, когда все стихнет, начнем искать мальчика. Очень осторожно, Агна. Очень осторожно.
Элис посмотрела на Эдварда и заплакала.
— Но я злюсь на тебя. Как ты могла не сказать мне?!.. А если бы тебя кто-то увидел? Или ты думаешь, Магда Гиббельс не может перейти дорогу и увидеть, как ты обнимаешь еврейского мальчишку? — шептал Милн, обнимая Элис.
— Ты знаешь?.. Откуда?
Эдвард посмотрел на Эл.
— Ханна? Опять она!
— Сомневаюсь, что она сказала об этом кому-то еще, кроме меня. Для нее это еще одна возможность поупражняться в остроумии. Так она думает, что держит меня на крючке. И я не стану ее разубеждать. По крайней мере, сейчас.
— Прости. Я хотела тебе сказать, но не знала, как это лучше сделать.
Милн поцеловал Элис в прохладные от ночного холода волосы, и прижал к себе. В памяти застряли ее слова: «Но если даже сейчас, когда страшно, мы ничего, совсем ничего не можем сделать, тогда… зачем это?». А еще Эд подумал, что, может быть, стал слишком осторожным с того момента, как у него появилась Эл.
Раньше он пошел бы на риск, — и даже больший, чем этот, — не раздумывая. Потому что тогда он был один, и отвечал только за себя. Теперь задача стала кратно сложнее. Но он попробует. Кто знает, как может развернуться удача?
В его активе был он сам, форма эсэсовца в багажнике автомобиля, в которой он уже однажды нахально заявился в лагерь Дахау, два пистолета, — вальтер и зауэр-38, и… Та доля безрассудства, которая и привела его в разведку. Если сложить все вместе, то это не так уж мало для темного времени. Милн докурил сигарету и тщательно втоптал окурок в землю. Действовать нужно быстро.
Эдвард усмехнулся, рассматривая бурое небо. Огонь в его груди разгорелся снова. Тот самый, который после окончания Итона привел его сюда. Были, конечно, и другие, личные причины, но все они, в конечном счете, сводились к одному. Огонь.
Пока он горит, Милн будет передавать шифровки, добывать секретные данные, обыскивать кабинеты и разыгрывать роль Харри Кельнера. Или кого-то другого.
Сейчас этот огонь, давно дремавший за доводами разума, проснулся и разгорелся с новой силой, — как если бы воздух поддерживал и распалял крохотный огонек зажженной спички. Милн дважды осмотрел «Хорьх», снова проверил надежность замка на большом деревянном ящике, куда он спрятал чемодан с рацией, и повторил:
— Я поведу машину, ты сядешь рядом. Если я замечу что-то подозрительное, ты должна пригнуться, спрятаться в нише под приборной доской. И молчать. До Берлина, думаю, мы сможем доехать более-менее спокойно, хотя… На въезде в Берлин будь внимательна, Эл. Наблюдай, но осторожно.
Если кто-то из тех, кто наводит этот «порядок», посмотрит на тебя пристально или задержит взгляд на твоем лице, — отводи взгляд, — сама знаешь, они очень трепетно относятся к тому, как на них смотрят, и любой взгляд могут посчитать за вызов. Наша версия, — на случай, если нас остановит какой-нибудь официальный нацист, и начнет задавать вопросы…
— Ты — оберштурмфюрер, по личному приказу Гейдриха должен доставить евреев в главное здание гестапо, на улице принца Альбрехта, дом восемь, — закончила за Милна Элис, и посмотрела на него.
Эдвард кивнул, подтверждая ее слова.
— Только… Тебе не кажется, что эта версия с приказом Гейдриха слишком опасна? И ее слишком легко проверить.
— И узнать, что все это — ложь?
Посмотри вокруг, Агна. Ты сама сказала, что вокруг творится хаос. А когда он творится, то даже те, кто его устраивает, впадают в ажиотаж, и в подобной неразберихе, на кураже, — к тому же, замешанном на крови, — способны поверить всему, что им говорят, даже в самую фантастическую ложь.
— Ты говоришь страшные вещи, — сухо заметила Эл.
— Я знаю, но, к сожалению, это — правда. И эта выдумка про Гейдриха может помочь нам спасти Кайлу и Дану.
Милн заглянул в лицо Элис, и улыбнулся краем губ.
— Я тоже очень надеюсь, что нам не придется использовать эту версию.
Элис улыбнулась, но улыбка тут же ушла с ее лица.
— Я даже не стану целовать тебя, потому что у нас все получится, и мы все успеем позже, — прошептал Эдвард, и лукаво посмотрел на Эл.
Предположения Милна о пути до Берлина оказались верными. Их никто не останавливал, и никому не было дела до скользящего в темноте черного, блестящего автомобиля. Новый поворот дороги вывел к Груневальду, и скоро Элис увидела их дом. Вернее, дом Агны и Харри, и то, что от него осталось. «Мерседес» уже догорел, и теперь его остов дымился в темноте, — на том месте, где Эдвард всегда парковал автомобиль, когда Харри Кельнер возвращался в большой дом на Херберштрассе, 10. Мотоцикл тоже сожгли, а оконные рамы большого дома, ухмыляясь пустотой, безумно скалились в ответ на тревожные, быстрые взгляды Элис. Милн сказал, что позже, когда погромы стихнут, они вернутся сюда, чтобы посмотреть, что осталось от вещей и от дома, но Эл это не казалось хорошей идеей. Все время, проведенное в Берлине, она намеренно старалась жить так, чтобы не привязываться к окружающим вещам, к дому Кельнеров.
«Это ненастоящее», — мысленно повторяла она, если ловила себя на том, что слишком привыкает к тому, что окружает Агну и Харри.
Правильным было это решение или нет, но сейчас, оглядываясь на разрушенное здание, уже оставшееся далеко позади, Элис почувствовала, что если бы она позволила себе полюбить дом Кельнеров по-настоящему, то сейчас ей, скорее всего, было бы гораздо тяжелее при взгляде на разбитый, тлеющий остов, в котором мародеры действительно могли поживиться очень многим.
Она и Эдвард были живы, вещи на первое время тряслись в чемодане под задним сидением «Хорьха», и они по-прежнему находились в Берлине как Агна и Харри Кельнер, — не вызывая подозрений, по крайней мере, явных, — а значит, — Эл посмотрела на сосредоточенное лицо Эдварда, — у них действительно все может получиться.
* * *
На центральных улицах Берлина был ад. Горящие дома, выволоченные на мостовую люди, — понять, кто это, — женщины или мужчины можно было только по их крикам. Если они еще могли кричать. Потому что многие, брошенные на тротуарах и дорогах, уже были немыми и мертвыми. Ночь и темнота снова играли на руку тем, кто устроил эту расправу над людьми по всей Германии, захваченной Австрии, Чехословакии. От всеместного огня ночь стала цветной и жаркой. Эл смотрела на происходящее из окна машины, и не могла отвести взгляд от того, что видела. Загнав женщину в угол, мужчина размахнулся и проткнул ее штыком, проворачивая его для большей верности, в сквозной ране. Женщина закричала так страшно, что сама земля должна была разбиться от ее крика.
Но земля осталась целой и продолжала свой ход. И Кельнеры тоже ехали дальше. И тем более невероятным было Эл видеть этот ужас и продолжать совершать заученные, привычные, обыденные действия. Например, поправлять пальто, и кутаться в него сильнее, чтобы ночной холод не пробирал до костей. Элис смотрела на окружающий их ужас огромными глазами. Хотелось кричать, прятаться, остановить машину. Схватить Эдварда за руку и остановить машину! Открыть дверь, выбежать на улицу, и прокричать изо всех сил, чтобы они прекратили! Прекратили бить, резать, стрелять, смеяться и насиловать. Потому что этого не должно быть на земле. А если это может быть на земле, то как быть потом, после всего немого, непроходящего, забитого в легкие и в горло, кошмара?
Как?..
Элис посмотрела на Милна, и снова заплакала, не в силах сдержать слезы. Она вспомнила, как в Лондоне, проводив ее до дома, Эдвард сказал в ответ на ее вопрос, что был на войне.
«Война меняет людей не лучшим образом». Сейчас, глядя на его профиль, она снова задала все тот же безмолвный вопрос, — один из тех, что по-прежнему тревожил ее, — «как война изменила тебя?». Ответа не было, как не было в Берлине того, кого не коснулась бы эта страшная ночь. Эдвард продолжал вести автомобиль молча, глядя прямо перед собой. Только теперь он управлял машиной резко и быстро, словно хотел скорее вывезти их из этого хаоса. Его губы, плотно сжатые, превратились в единую, тонкую линию. Голова была поднята высоко, а длинная шея вытянута вверх, за грань невидимой удавки. Не сдаваться, держаться на плаву! Это было бы проще, если бы кровь не подступала к горлу, и ему не мерещились этой ночью все те, кого он когда-то убил.
Стивен Эшби подмигнул и безумно улыбнулся Милну кровавой улыбкой, стоя между бесцветными, — от огней автомобильных фар, — колоннами очередного имперского здания, наваленного главным архитектором рейха, Шпеером, в центре Берлина.
Улыбка растянулась на лице Стива от уха до уха, и, пристально смотря на Милна, он провел по горлу рукой. Эшби хотел повторить для бывшего друга свою последнюю фразу, сказанную им за секунду до смерти, — ту самую про «мы побе…», но «Хорьх» круто повернул, мертвый Эшби исчез, и Кельнеры увидели главную синагогу Берлина, которая горела факелом, отдавая жаром на многие метры вокруг.
Кто-то завороженно смотрел на пожар, а кто-то помогал держать двери синагоги закрытыми. Чтобы те, кто был внутри, не могли по недосмотру стать теми, кто оказался бы снаружи, и смог выжить.
Какая-то женщина, схватив за руку ребенка, перебегала дорогу. Ее заметил мужчина. И Элис запомнила то звериное и сальное выражение лица, с каким он смотрел на нее, неторопливо, медленно преграждая ей путь. До их столкновения оставалось несколько мгновений, но Элис так и не узнала, удалось ли женщине и ребенку спастись. Она очень надеялась на это, помня, как за спиной мужчины пошатываясь, поднялся человек, и пошел на него с зажатым в руке железным прутом. У этого человека, даже несмотря на неуверенную походку, было немалое преимущество перед тем мужчиной, — он шел на него со спины, и, когда еще Эл могла видеть их, оставался незамеченным им.
А вот момент, когда в лобовое стекло «Хорьха» прилетел огромный камень, — отчего оно тут же пошло стеклянной паутиной трещин, Элис пропустила, и потому сильно вздрогнула. Но не от стука камня, а от криков, последовавших за ним.
— Эй, ты! Стой! Сто-о-й! — крикнули сзади, и Милн повел «Хорьх» быстрее, но в этот момент перед автомобилем выскочили еще несколько человек, преграждая ему путь.
Заднее стекло «Хорьха» разлетелось вдребезги, и автомобиль, блокированный тремя мужчинами, остановился.
Милн ударил по рулю, и свирепо оглянулся по сторонам, оценивая обстановку. Надо было ехать вперед, ехать на них!… Но времени, чтобы сожалеть об упущенной возможности уже не было, — трое, блокировавших «Хорьх», ухмылялись, глядя на Эдварда и Элис, а четвертый, — тот, что бросил камень, — приближался к машине сзади, неторопливым, размеренным шагом. Посмотрев на него в зеркало заднего вида, Милн подумал, что он — главный в этой шайке. Эдвард оглянулся, сверяя расстояние, отделявшее главного от машины, и расслабился, возвращая тело в прежнее положение.
— Не бойся и не кричи. Посмотрим, что они будут делать дальше, — сказал он, обращаясь к Эл, но не сводя глаз с тех, кто ждал их снаружи.
Милн не увидел как Элис кивнула, сглатывая тяжелый ком, застрявший в пересохшем горле. Боковым зрением она следила за тем, как Эдвард взял новый, недавно купленный им зауэр в правую руку, и снял пистолет с предохранителя. Движения его рук были выверенными и четкими, а взглядом он продолжал наблюдать за их новыми знакомыми, которые пока тоже не делали резких движений.
— Ну, хватит, эй! — сказал один из них, и громко свистнул.
Подойдя ближе к «Хорьху», он наклонился к окну, с ухмылкой рассматривая Милна через него, и перевел взгляд на Эл.
— Парни, нам сегодня везет! — крикнул он и рассмеялся.
Оглянувшись, он указал в сторону Эшби. Ответом ему был дружный, согласный хохот.
— Вытаскивай ее, давай посмотрим!
— Парни хотят, чтоб вы вышли! — сказал первый, перекатывая во рту серу, и ударяя кулаком по крыше автомобиля.
Милн посмотрел сквозь него, и, игнорируя сказанное, снова оглянулся назад, на главного, который до сих пор не дошел до машины, то замедляя, то снова начиная неспешный шаг.
Губы Эдварда дернулись, он перевел взгляд на первого, и извинительно улыбнулся, делая вид, что пытается, но никак не может открыть дверь автомобиля. Милну снова улыбнулись в ответ, но он знал, что эта пауза — последняя перед первым ударом. Его зрение засекло темную и невысокую фигуру главного, который наконец-то доплелся до «Хорьха», и сейчас шел прямо к двери с водительской стороны, следуя жестам своего приятеля, первым обратившего внимание на Элис.
Когда главный оказался прямо напротив двери, за которой был Милн, Эдвард одним броском открыл дверь, сбивая его с ног и, — резко поднявшись из машины, — стреляя в того, кто просил его выйти из машины. Пуля от зауэра, выпущенная в упор, попала в лицо, вырывая из горла раненого дикий крик. Прижав руки к лицу, — через которые уже бежала темными, густыми линиями, кровь, он опустился на землю рядом с «Хорьхом», и застонал. Остальные двое, все еще не принявшие участие в этой встрече, словно по команде отступили назад, а потом пошли на Милна. Один из них шел прямо, а другой отошел в сторону, заходя слева от Эдварда. Окружение Милна сорвалось от новых выстрелов. Перебросив зауэр в левую руку, Эдвард выстрелил в того, кто шел на него, и пропустил пулю от второго, обходившего его со стороны. Пуля врезалась в предплечье левой руки Милна, сбивая его новый прицел. Эдвард согнулся и застонал, закрывая рану правой рукой.
— Ну что, поговорим?
Центральный подошел к Милну и сбил его с ног ударом в подбородок. Эдвард упал на землю рядом с тем, в кого он выпустил сегодня первую пулю. Сейчас его лицо было месивом, в котором человеческие черты стало не различить. Милн пошевелился, пытаясь встать на колени. Новый удар опрокинул его на спину. Центральный завис над ним, сплюнул на Милна, и проводил взглядом главного, который, судя по всему, уже отошел от удара дверью.
Может быть, он и дальше продолжал бы смеяться в лицо Милну, а Милн, может быть, и дальше продолжал бы смотреть на него неверным от боли взглядом. Но крик Элис расставил все по своим местам. Пауза кончилась. И пока центральный скалился в ответ на крик Эл, Милн вскинул правую руку вверх и выстрелил в него. Покачавшись, и рискуя упасть прямо на Эдварда, в последний момент он сменил траекторию, и повалился на спину, ругая того, кто его подстрелил. Цепляясь за «Хорьх» правой рукой, Милн с явным усилием поднял себя на ноги и застыл на месте, фиксируя равновесие.
Элис больше не кричала, — с той стороны «Хорьха» теперь слышалась только какая-то неясная возня и приглушенные голоса.
Прижав левую руку к телу, Милн помотал головой, пытаясь сбить нарастающее головокружение, и начал обходить «Хорьх». Главный прижал Элис к борту автомобиля, и, удерживая ее за горло одной рукой, другой пытался расстегнуть свои брюки. Попытки Элис вывернуться из его хватки не приносили особого успеха, — он был гораздо сильнее и выше ее. Хрипя, она попыталась разжать его пальцы на своей шее, но он лишь сильнее встряхнул Эшби, отвел ее тело на несколько сантиметров от машины, и с силой ударил Эл о «Хорьх».
— Тихо, фрау, тихо… — шептал он, все больше заводясь от явного сопротивления.
Когда Эдвард увидел Элис, в его голове мелькнула страшная мысль: она смирилась и перестала сопротивляться. Но вот Эл развела руки в стороны и ударила ребром обеих ладоней в шею мужчины. Справа и слева. У главного перехватило дыхание, и вместо того, чтобы и дальше продолжать свои попытки справиться с пуговицами на штанах, он начал кашлять и задыхаться.
— Су… сука! — прохрипел он, согнувшись, смотря на Элисон слезящимися глазами.
Освободившись от хватки, она тоже закашлялась, хватая ртом воздух, а когда выпрямилась, увидела перед собой Эдварда. Подойдя к главному со спины, он занес над ним руку, и единым резким ударом опустил на его голову свою руку с зажатым в ней вальтером. Тот рухнул на землю, и замычал, закрывая ладонями разбитую голову. Эдвард прицелился, но не выпустил пулю, отвлеченный звуками со стороны. Тот, кто выстрелил в него, подходил к Элис, и в этот раз Милн оказался быстрее. Человек повалился на землю рядом с Эшби, и, коротко что-то прохрепев, затих. В живых, — из всей шайки, — остался только главный.
Дрожащей, неверной рукой Эдвард снова навел на него пистолет, но снова задержал выстрел, с удивлением чувствуя, как он, Милн, сам оседает вниз, на гравий и — в темноту.
* * *
Эдвард, серый и бледный, то приходил в себя, то снова терял сознание. У Элис не было никакого практического опыта в осмотре пулевых ранений или извлечении пуль из тела, — все ее знания сводились к краткому курсу первой медицинской помощи, которые преподавали при подготовке в МI-6 и тому, что она узнала от Кайлы. Но главное в том, что знала Эл, сводилось ко времени. Его нельзя терять, — до настоящего момента она помнила об этом только в теории, но, увидев раненого Эдварда, и то, как быстро меняется его состояние, осознала и почувствовала всю верность этого первого, и, может быть, главного правила. На то, чтобы уехать с места драки далеко, времени тоже не было. Как не было теперь и самого безопасного места. Поэтому Эл, отведя машину немного дальше, за границу темных, — то ли сожженных, то ли брошенных, одноэтажных домиков, — остановила «Хорьх» позади одного из них, и заглушила мотор. Она вышла из автомобиля, открыла вторую дверь, порылась в чемодане с вещами, спрятанном под задним сидением, и вернулась. Забравшись на сидение, она подвинулась ближе к Милну, — чтобы лучше видеть рану на левой руке.
— Не говори. Я осмотрю рану.
Милн был серым и тихим. Мутные капли пота, то мелкие, то крупные, скатывались по его лицу вниз, и застывали у границы светлых волос, которые сейчас окрасились цветами восходящего солнца. В иных обстоятельствах он наверняка бы кивнул, и подбодрил Эл какой-нибудь фразой или шуткой, но сейчас он только смотрел на нее неясным взглядом, и, — если его глаза не закатывались, и он не скатывался за грань сознания, — следил за ее быстрыми движениями, — настолько, насколько мог их видеть.
Часто ее тонкие пальцы и запястья ускользали из его поля зрения, но он продолжал смотреть вниз и влево, в ожидании, когда они снова появятся, и замелькают перед ним, похожие то ли на белые крылья, то ли на белые перья… Положив перед собой небольшой футляр, Элис выпрямилась и приобняла Милна, стараясь как можно быстрее и осторожнее снять с него пальто. Он почувствовал, как ее рука легла на шею, на верхние позвонки. Затем она притянула его к себе, — Элис и ее запах стали ближе, а потом — дальше, когда она освободила Милна от верхней одежды и разорвала рубашку на плече, укрывая его сверху пальто так, чтобы рука и рана оставались открытыми. Ветер налетел на Милна, охлаждая кожу. Стало хорошо, холодно и спокойно. Он перевел взгляд дальше, за спину Эл, — в небо. Начинался восход. Небо красилось лучами восхода.
— Тебе холодно… прости, — прошептала Элис совсем рядом с ним.
Так близко, что он почувствовал, как ее шепот щекочет кожу. Элис раскрыла футляр и достала медицинские перчатки. Несколько долгих секунд ушло на то, чтобы правильно надеть их на дрожащие руки, которые совсем не хотели ее слушаться. Размер перчаток оказался немного больше того, что был нужен, и Эл сильнее натянула нижний край на запястье. Перчатки щелкнули, неплотно приставая к коже. Сделав глубокий вдох, Элис, сидя на коленях, придвинулась к Эдварду как можно ближе, и посветила карманным фонариком на рану. И не увидела ничего, кроме крови. Она начала выбиваться из раны фонтаном, резко и хаотично. Элис что-то прошептала сухими губами, и приподнялась, чтобы осмотреть внутреннюю сторону руки. Кровь попала ей на лицо, и Эл рефлекторно закрыла глаза. Выходного отверстия не было. Значит, пуля осталась в плече. И кровь была алой.
— Алая кровь, артериальное…— шептала Элис, снова усаживаясь перед Милном, уже потерявшим сознание. — Наложить повязку на рану… Давящую повязку на рану, прямо… на… рану.
Собственные движения казались ей ужасно, невероятно медленными. Рана и область вокруг нее вздулись, кровь по-прежнему выбрасывалась фонтаном, но уже не так сильно, как раньше. Элис взяла широкий бинт, и наложила его край на пулевое отверстие. Натягивая ткань, она постаралась наложить повязку как можно плотнее. Кровь, пропитав первые слои марли, постепенно начала останавливаться, и Элис слабо улыбнулась, смотря на верхние слои бинта, белые и чистые. Для большей надежности она закрыла бинт несколькими оборотами обычной белой ткани, — она была плотнее, и казалась Эл надежнее стерильной марли.
Она успела.
Врач сказал, что пуля пробила плечо не так сильно, как могла бы.
— Скорее всего, выстрел был сделан с близкого расстояния, почти в упор. Как это произошло?
Элис попыталась вспомнить, слышала ли она выстрел, но память подсказывала только одно: это могло случиться в тот момент, когда ее душили, и значит, она могла не расслышать выстрел. Кто стрелял в ее мужа? Где это произошло? Сколько их было?
Агна Кельнер подробно отвечала на эти и множество других вопросов. И не была уверена, что ее ответы действительно слушают и записывают. Все ее показания полицейский свел к одному слову, которое теперь было хуже последней грязи. Евреи.
Стерев кровь с лица, Агна Кельнер села на стул, и в течение следующих двух часов подробно отвечала на вопросы того, кто назвал себя полицейским. Вопросы шли и повторялись по кругу, — одни и те же, снова, снова и снова. Но Агна внимательно следила за тем, что она говорит. Адреналин помогал ей не засыпать, и помнить абсолютно все, до последней подробности. Она даже запомнила выражение лица полицейского, когда на один и тот же вопрос Агна ответила одной и той же фразой. По его лицу было заметно, что он разочарован. Агна знала, что такой способ допроса был довольно эффективным, — запутать напуганного, уставшего и избитого человека, которому, к тому же, запрещено садиться на стул, — и потому он стоит последние, скажем, часов двенадцать, — очень просто.
Часто сам человек к моменту такого «разговора» готов сказать и подписать все, что угодно. Но Агне Кельнер повезло. Во время беседы с полицейским она не только сидела на стуле, но и могла закурить предложенную им сигарету.
Фрау Кельнер, улыбнувшись, отказалась от сигареты, и повторила уже сказанное, в котором полицейский даже не захотел разбираться. К чему это, если и так понятно, что во всем виноваты евреи? Посмотрите, что они сотворили с прекрасным Берлином, столицей великого рейха?! И это далеко не все, — он достоверно может сказать фрау Кельнер, что это были не простые городские беспорядки, но намеренно спланированный и хорошо организованный сговор: подумать только, — они громили все города Германии и возвращенные рейху исторические области! Разграбить прекрасную, музыкальную Вену? Кощунство и варварство! Поэтому и думать нечего о том, кто виноват в нападении на фрау и ее мужа. Но фрау Кельнер может быть спокойна, — германская полиция выполнит свой долг, и непременно найдет и воздаст по заслугам тем, кто посмел стрелять в ее супруга и угрожать ей. Агна кивнула полицейскому и уточнила, может ли она идти? Ей необходимо проведать мужа. Конечно, — ответил ей полицейский, убирая блокнот для записей во внутренний карман кителя. Он улыбнулся ей на прощание, строго рассмотрел свое отражение в зеркале, проводя ладонью по гладкому пробору, забитому бриолином, и покинул больницу.
И теперь фрау Кельнер сидела в палате, рядом с кроватью мужа.
Харри еще не пришел в сознание, но дежурный врач, принявший их рано утром, и оказавшийся тем самым врачом, чье лицо Агна помнила с того дня, когда потеряла ребенка, заверил ее, что с Харри Кельнером все будет в порядке.
— Нужно только следить за раной, — сказал доктор, и бесшумно ушел по коридору, в белом халате, полы которого были очень похожи на крыло старой птицы.
«Белый как лунь» — вспомнила Агна, провожая врача взглядом. Выслушав врача, она молча кивнула. Агна вообще стала говорить предельно мало, — исключением можно было считать только полицейский допрос. Ей нечего было сказать тем, кто окружал ее с этой стороны мира. Она хотела говорить только с Харри, но он пока молчал, и она молчала тоже. Тревога и страх постепенно стихали и отступали. Дыхание становилось спокойным и ровным, и Агна уже не проводила рукой по лицу каждую пару минут, все еще думая, что на нем — кровь Харри.
Вернувшись в палату, Элис села на стул напротив Эдварда, снова и снова медленным взглядом рассматривая его лицо и тело. Это казалось невозможным. Эдвард ранен? Он в больнице? Чем больше она думала об этом, и чем дольше смотрела на белого Милна, тем более невероятным это выглядело. Когда врач сказал ей, что герр Кельнер потерял не так много крови, как это «чаще всего бывает», и что она, Агна, хорошо сделала, что наложила давящую повязку и не пыталась, — в отличие от подавляющего большинства добрых дилетантов, наносящих тем самым непоправимый вред раненому, — тревожить или вытаскивать пулю, она молчала. А в голове безостановочно крутилась по кругу только одна, всего одна мысль: в человеческом теле всего около шести литров крови! Всего шесть! Поразительно мало. Но Агна остановила кровь, наложила давящую повязку на область предплечья. Она успела. И это было самое важное.
Элис нужно было обдумать очень многое. Например, — где теперь жить? Где искать Кайлу и Дану? Они живы? С ними все в порядке? А с их ребенком? Когда безопаснее всего съездить на развалы дома, в Груневальд? И можно ли восстановить дом? А если вещи, оставшиеся в доме, украли? Сейчас остановиться в гостинице? В какой? Нужно помнить, помнить и не забывать о повсеместной прослушке, Эдвард всегда об этом помнит. Кажется, он все помнит, и никогда не ошибается.
Ничего не говори, Агна.
Будь осторожна.
И спокойна.
Ты не можешь показывать свой страх, ужас или растерянность. Здесь так не выглядят. Где можно оставить чемоданы с большей безопасностью? Лучше позвонить или приехать на завод «Байер», чтобы предупредить о состоянии Харри? И пропустят ли Агну Кельнер? Как отреагируют в доме мод на происходящее?..
Погромы провели в ночь с девятого на десятое ноября, со среды на четверг. И как бы невероятно и абсурдно это ни было, вместе с вопросами о жизни, мелькнувшей рядом смерти и следующем дне, Эл нужно было обдумать и другие, не такие острые, и — «общего порядка». Не решаясь оставить чемодан с рацией где бы то ни было, Элис носила его с собой. Он был тяжелым и неудобным, но, в сочетании с другим чемоданом, в котором лежали вещи Агны и Харри, она, — как ей показалось по взглядам, которыми ее разглядывали окружающие,— вызывала любопытство, желание помочь и… сочувствие.
Вместе с ее растерянным, опустошенным внешним видом и немного замедленной реакцией, — она очень старалась выглядеть как можно лучше, но вся предыдущая ночь, ранение Эда, сгоревший дом, ожидание в больнице и строгая необходимость Агны Кельнер утром в четверг вовремя прийти в дом мод, на работу, — все это не слишком укладывалось в голове, и потому она, разговаривая с врачом, или обращаясь к медсестре, говорила медленно и отрешенно, как человек, который долго шел по дороге, а в следующую секунду, посмотрев на карту, узнал, что дороги больше не существует. Ни на карте, ни в реальности. Дорога стерта, изуродована, закрашена черной неровной штриховкой, разбросанной по карте толстой рукой генерала. Он смотрит на карту и ничего не видит, затем громко требует чаю, а когда адъютант его приносит, — крепко-янтарный, в высоком стакане с серебряной ложечкой на подносе, — генерал хватает его, обжигает толстые пальцы, и воет от боли. Карта летит к чертям, люди ссыпаются со своих дорог вниз, как незримые марионетки, и дороги на карте становятся перечеркнуто-черными от грифеля простого карандаша. Карта и территория больше не соответствуют друг другу. И в этом нет ничего удивительного, — они никогда не были похожи.
Элис сидит на стуле с высокой спинкой, возле больничной кровати, и смотрит на Эдварда. Все прочие тревоги отступают перед самым большим и страшным, что могло произойти. Сейчас, когда его жизни ничего не угрожает, это уже не кажется таким острым и опасным, но… «при серьезном повреждении плечевой артерии и обильном кровотечении, смерть может наступить в течение одной минуты, потеря сознания — в течение пятнадцати секунд». Элис вспоминает, что в человеческом организме всего шесть литров крови. И даже если ты высокий и сильный, у тебя тоже есть только эти шесть… Эл глубоко дышит, положив голову на грань спинки высокого стула. Смотреть на Эдварда, слышать его дыхание, и знать, что он жив. Это все, что ей хочется. Смотреть на его бледное лицо снова и снова, и видеть, как от дыхания поднимается и опускается его грудь.
Он жив.
Это главное.
Потому что невозможно представить, чтобы Эдварда не было.
Как такое может быть?
Это невозможно.
Слишком невероятно.
Так не может быть, — Эд всегда был рядом. Сначала на расстоянии, и — шутками в письмах брата, потом в Рождество. И уже тогда, как позже поняла Элис, он защищал ее. Даже от Стива, несмотря на то, что Эдвард был гостем в их доме. А теперь… Казалось невероятным, что они вместе уже пять лет, но… Нет, невозможно представить мир без Эдварда, такого просто не может быть. Элис, быстрее отталкивая от себя страшные мысли, садится еще ближе к нему, сжимает его прохладные, тонкие пальцы. Его левая рука закрыта плотной, белой повязкой. Эта повязка лучше и стерильное той, что накладывала она, и Элис рада, просто безумно рада, что с Эдвардом все хорошо. Она будет следить за его раной, она будет ухаживать за ним. Но она тоже, как и он, — после того допроса в гестапо, — успела. Это главное, с этим возможно все. Любая победа, даже самая невероятная.
«Провокация Грубера, информации о которой вы не поверили, проведена нацистами в ночь с 9 на 10 ноября в Германии, аннексированной Австрии и Судетской области Чехословакии. Ужасные погромы и разрушения. Около тридцати тысяч мужчин (евреев), отправлены в немецкие лагеря. Разбиты и разграблены магазины евреев, жилые дома, синагоги. Официально — около 90 погибших. Массовые избиения, изнасилования, пожары. Есть случаи суицида. Вину за погромы власть Германии возложила на евреев. Гиринг объявил, что они должны выплатить рейху один миллиард марок. Француз ранен; огнестрельное ранение в ходе нападения. Он в больнице, сейчас его жизнь вне опасности. Дом и «Мерседес» сгорели. Временно будем находиться в гостинице. Ищем новый дом. На связь выйдем при первой благоприятной возможности.
Эдит».
Элис убрала руку с передатчика и нервно выдохнула. Она только что передала в Лондон свою первую шифровку, составленную абсолютно самостоятельно, без участия Эдварда. Это же сообщение было первым со времени погромов, прокатившихся страшной волной по Германии и оккупированным рейхом территориям бывшей Австрии и Чехословакии.
После ранения Эдварда ей вообще многое пришлось делать самостоятельно, без его поддержки и помощи. Это пугало Эл, и, в то же время, как ничто другое помогло ей проверить свои собственные силы. Как бы она действовала, если бы работала в Берлине одна, без Милна? Именно этот вопрос поддерживал ее и помогал довольно неплохо, — и что немаловажно для разведчика быстро, — оценивать новые, постоянно меняющиеся обстоятельства, и находить для них лучшее решение из возможных.
За то время, что Эдвард был в больнице, Эл нашла для Агны и Харри уютный номер в небольшой, тихой гостинице в одном из районов на окраине Берлина. В этот номер, который хозяйка забронировала за Кельнерами, Агна могла въехать в любую минуту, даже прямо сейчас.
Но, занятая решением массы неотложных вопросов, — среди которых было посещение модного дома, с целью сообщить о произошедшем, и неудачная поездка на завод «Байер», где никто не ждал, и слушать не хотел ни Агну Кельнер, ни ее слов о ранении Харри, — она так уставала к концу дня, что все ночи проводила в больничной палате Милна.
Врач, тот самый Белый Лунь, который спас Агну Кельнер, когда у нее случился выкидыш, уже отчаялся уговорить ее на полноценный отдых, и потому, только еще раз тяжело вздохнул, махнул рукой и разрешил ей находиться в палате Харри столько, сколько нужно. Разобрав передатчик, девушка оглянулась по сторонам, и вышла из разбитого «Хорьха», чтобы перенести чемодан с рацией в деревянный ящик под задним сидением автомобиля. Убедившись, что ящик надежно закрыт, Эл спрятала ключ, и выпрямилась, зябко кутаясь в пальто и приподнимая плотный воротник.
Вокруг никого не было. Мрачный, холодный лес Груневальда звучал этим утром как обычно, как всегда. Солнце тусклыми лучами светило сквозь голые, пружинные от наступающих холодов ветки деревьев, и совсем не грело. Глубоко вздохнув, Эл села за руль и натянула перчатки на озябшие руки. «Надо что-то придумать с машиной», — подумала она, включая заднюю передачу и сдавая назад. Черный разбитый «Хорьх», в котором после нападения на Кельнеров не было половины стекол, и который Эл, как могла, расчистила от битого стекла, наверняка был с ней согласен.
Жалобно проскрипев при развороте, он медленно вывез Агну из леса и повернул к сожженному дому Кельнеров. Остановившись у подъездной дорожки, ведущей к разнесенному взрывной волной парадному крыльцу, Элис вышла из машины, и застыла на месте, мрачным взглядом осматривая разбитый и разграбленный остов бывшего дома Харри и Агны.
Забирать было нечего. Эл хмуро оглядела разбросанные вещи, и обняла себя за плечи, пытаясь согреться. Разве что снять со старинных напольных часов большой позолоченный маятник, отбивший за эти пять берлинских лет огромное множество ударов в доме Кельнеров? Странно, что они его оставили. Зато, кажется, унесли все остальное, — все, что представляло, по мнению мародеров, хоть какую-то ценность.
Эл подошла к остаткам деревянного скелета фортепиано, закрывшего их в ночь нападения от взрывной волны, и, сняв перчатку с руки, прикоснулась к нему дрожащими пальцами, осторожно проводя по блестящей поверхности. Повернув голову вправо, она посмотрела на разбитую мебель, разорванные книги, — чьи белые страницы, которыми холодный ветер, играя, прикрывался как веером, — были истоптаны подошвами сапог, и заметила среди осколков и земли что-то яркое. Наклонившись, девушка вытянула из-под обломков платяного шкафа небольшой обрывок ткани, и горько улыбнулась, чувствуя, как быстро забилось сердце в груди. Платье Аликс Бартон, которое подарил ей Эдвард, было разорвано, но этот фрагмент желто-фиолетовой ткани, обугленный по краям и заваленный сверху обломками мебели, еще сохранил свою яркость. При мысли об Эдварде к глазам подступили слезы.
С ним все в порядке, он быстро идет на поправку, но, несмотря на это, страх Элис не становится меньше. Наоборот, — теперь Эл все чаще ловила себя на мысли, что в восстановленном внешнем благополучии, она все время пытается найти, расслышать и отыскать подвох. «Счастья не будет, эта тишина обманчива, я должна быть готова ко всему…», — растерянно думала Элис, сидя в палате Эдварда, и наблюдая за тем, как он спит. Но к чему именно она должна быть готова? «Ко всему…» — беспокойно отвечала она сама себе, не находя иного варианта. Тревога разъедала ее изнутри, но Эл и сама толком не знала, что именно ее пугает. Только чувствовала, что что-то приближается, надвигается лавиной, от которой им нужно успеть вовремя увернуться.
За время, прошедшее с ночи погромов, которую теперь называли «хрустальной», — из-за огромного количества разбитых витрин и окон, — Эл превратилась в сплошной комок из тревоги и страха. Хотя внешне для этой тревоги оставалось все меньше причин: Эдвард чувствовал себя все лучше, и врачи давали благоприятные прогнозы. Она должна радоваться, а не ждать беды. Тогда почему внутри не утихает это глухое, бесконечное волнение? И рукам совершенно не находиться ни места, ни дела. Единственное, что ей помогало справляться со страхом, — это очередное напоминание о том, что все в порядке: «Эдвард жив, все хорошо. Эдвард жив, все хорошо…» — Элис повторяла эту фразу как мантру. До тех пор, пока не чувствовала, как медленно, по чуть-чуть, напряжение спадает, ее тело расслабляется, и она засыпает пусть чутким и тревожным, но, все-таки, сном.
Подержав в руке обрывок ткани, девушка провела по нему рукой, и, свернув, положила в карман пальто. Она уже повернулась, чтобы идти к «Хорьху», когда боковым зрением зацепилась за что-то, мимолетно остановившее на себе ее внимание: фотография Агны и Харри, сделанная 15 февраля 1933 года, — их первый день в Берлине, день их свадьбы. Вытянув снимок из-под осколков стеклянной рамки, Эл стряхнула с фотографии крошки черной, мягкой земли, перепаханной взрывом, и положила фотографию в тот же карман, что и обрывок платья Агны Кельнер. Еще раз оглянувшись на бывший дом быстрым взглядом, Эл с удивлением почувствовала, как в глазах собираются слезы. «Нет, — подумала она, резко разворачиваясь, — нельзя. На это совершенно нет времени!».
* * *
Ханна Ланг отмахнулась от слов старика в белом халате, следовавшего за ней по больничному коридору, и вбежала в палату Харри. Дверь отлетела в сторону, с громким стуком ударилась о стену, и показала ей бледного Кельнера.
— Говорю вам, фройляйн, с ним все в порядке, его жизнь вне опасности!
Врач взмахнул руками, возмущенный нарушением больничного распорядка, требовавшего, прежде всего, тишины и посещения пациентов в строго отведенные часы, и посмотрел на высокую блондинку, которая, склонившись над пациентом, с волнением и страхом рассматривала то его лицо, то перевязанную руку.
— Ну, видите! Он спит! Вам пора уходить! — прошептал врач, подходя к девушке.
Дернувшись, она зло посмотрела на доктора.
— Я отсюда никуда не уйду! Я сама врач, и знаю, что нужно делать! Какой уход вы ему оказываете?
Ланг бросила на мужчину высокомерный взгляд, и снова повернулась к Кельнеру.
— Ханна… Что ты делаешь? — хрипло проговорил Харри, просыпаясь, и по забывчивости приподнимаясь на постели с опорой на поврежденную, левую, руку. — Черт!
Он упал на подушку, зашипев от резкой боли.
— Несите обезболивающее, скорее! — крикнула Ланг врачу, усаживаясь на край кровати, и бегло осматривая палату.
«Ее здесь нет! Может быть, она умерла?» — взволнованно подумала Ханна об Агне, и осторожно опустила руку на плечо Кельнера, помогая ему лечь удобнее.
— Харри, послушай меня! Я все брошу! Я отменю свадьбу, только скажи!
Старик в белом халате хмыкнул, подошел к Кельнеру, и, отодвинув экзальтированную даму в сторону, быстро осмотрел рану.
— Хороший же вы врач, — медленно протянул он, рассматривая красное от волнения лицо Ланг. — Все в порядке, как вы сами можете видеть. Пациенты в первое время после получения травмы часто забывают о ранении, и двигаются по привычке, без учета повреждений.
Доктор выпрямился.
— Вы должны уйти, часы приема закончены.
— Я не уйду! Я… — раздраженно начала Ханна, но голос Кельнера ее остановил.
— Все в порядке, доктор. Фройляйн уже уходит.
Засунув руки в карманы накрахмаленного халата, врач усмехнулся и вышел из палаты.
— Харри, что случилось? Что произошло?! Кто в тебя стрелял?!
Ланг сжала руку Кельнера, нависая над ним.
Отодвинувшись от нее, он, — на этот раз удачно, — медленно приподнялся на постели, и закрыл глаза.
— Уходи.
— Ты слышал, что я сказала?! Я все отменю! Но что произошло? Кто это сделал?!
Поморщившись от громкого голоса Ланг, Кельнер собрал силы и резко выкрикнул, надеясь, что это отрезвит паникующую Ханну:
— Я женат, Ханна! Женат! Между нами все кончено! Когда ты это поймешь?!
Сделав глубокий вдох, Харри медленно выдохнул, и добавил уже спокойнее:
— А это… — он подвигал забинтованным плечом. — Ты разве не знаешь, что было в городе той ночью?
— Эти свиньи! Они заплатят!.. — выкрикнула Ланг, не слушая Кельнера.
— Они действительно заплатят. Один миллиард марок, по личному распоряжению самого рейхсмаршала Гиринга, — ответил мужской голос, предваряя на несколько секунд появление его обладателя на пороге больничной палаты.
Звонко щелкнув каблуками, мужчина улыбнулся, разглядывая удивленные лица Кельнера и Ланг, вскочившей с кровати и отошедшей в дальний угол комнаты.
— Позвольте представиться, Герхард Зофт, страховой агент.
Быстрый взгляд Харри скользнул по фигуре высокого незнакомца в штатском, и на несколько секунд ушел в сторону, к виду за окном больничной палаты.
— После недавнего разгула преступности со стороны еврейства мне поручено установить степень полученного некоторыми лицами ущерба, и в число этих лиц входят Харри и Агна Кельнер.
Мужчина зашел в палату и закрыл за собою дверь.
— Я не ошибся, вы — герр Кельнер?
— Да, — кивнул Харри, выпрямляя спину.
— А вы, стало быть, фрау Кельнер?
Ланг довольно улыбнулась, решив поддержать неверное предположение мужчины многозначительным молчанием, когда голос Агны перекрыл начавшееся возражение Харри.
— Фрау Кельнер — это я.
Девушка зашла в палату, с видимым усилием удерживая в обеих руках тяжелый чемодан. Остановившись, Агна посмотрела по очереди на Харри, Ханну и незнакомого ей мужчину, на лице которого после ее слов показалась веселая улыбка, а затем раздался смех:
— Ну, надо же! Вы появились здесь в точности так же, как и я, совершенно внезапно! А здесь были сейчас такие разговоры! Не могу не отметить, герр Кельнер, что у вас отменный вкус, — добавил страховой агент, посмотрев сначала на Агну, а затем обратившись к Ханне.
— Кто же тогда вы, светловолосая фройляйн?
Зофт принялся разглядывать серьезные лица присутствующих, веселясь от этого все больше. Ответа не последовало, и он продолжил, обращаясь к Агне:
— Рад знакомству, фрау Кельнер!
Взгляд его светлых глаз задержался на чемодане, который девушка по-прежнему держала в руках.
— А я как раз хотел выяснить меру полученного вами ущерба. Что вы скажете об этом?
— Наш дом сожгли при нападении. Автомобиль и мотоцикл тоже, — коротко ответила Агна и замолчала, смыкая губы.
— Тот самый автомобиль, который был копией «Мерседеса» самого фюрера? — Зофт заглянул в свои записи.
— Да, — ответил Харри.
Страховой агент снова весело рассмеялся.
— Будь на то моя воля, я бы не позволил вам ездить на таком автомобиле!
— Ни министр пропаганды, герр Гиббельс, ни упомянутый вами рейхсмаршал Гиринг не были против этого, — уточнил Харри.
— Да-да-да, знаю, герр Кельнер! Наши правители так милостивы к нам, не правда ли?
Мужчина остановил проницательный взгляд на лице Агны, и снова посмотрел в свои записи.
— Вот и сейчас они пекутся обо всех нас, предупреждая все возможные потери и стремясь к тому, чтобы никто из арийцев не успел почувствовать того чудовищного ущерба, который сотворили евреи! Кстати, фрау Кельнер, мне известно, что в эти дни вы пытались сообщить руководству компании «Байер», где работает ваш супруг, о состоянии герра Кельнера. Смею вас заверить, там в курсе произошедшего. Руководство компании вполне понимает ваше нынешнее положение, и, конечно, не торопит герра Кельнера в том, что касается возобновления его служебных обязанностей.
Произнеся эту краткую речь, мужчина, назвавшийся страховым агентом, сделал какие-то пометки в блокноте, и, не обращая внимания на удивленные лица присутствующих, указал ручкой на чемодан, который Агна не выпускала из рук.
— Что там, фрау Кельнер?
— Все наши вещи, которые мы успели собрать перед тем, как выбежали из дома в ночь нападения.
Агна крепче сжала ручку чемодана.
— Покажете? — спросил Зофт, хотя в его интонации было гораздо больше утверждения, чем вопроса.
Девушка быстро улыбнулась и поправила рукой волосы, наклоняясь немного в сторону от тяжести чемодана, который сейчас она держала за ручку одной рукой.
— Ну же, смелее! Я всего лишь страховой агент, а не агент гестапо! — рассмеялся Зофт, убирая блокнот с записями и папку, которую все это время он держал в руках, в кожаный саквояж.
Воспользовавшись тем, что Зофт, укладывая вещи, смотрит вниз, Кельнер с удивительной для его состояния быстротой, спустил ноги с кровати, и, нагнувшись, подал Агне другой чемодан, внешне ничем не отличавшийся от того, который был у нее в руках.
Девушка, задержав дыхание, с замиранием сердца наблюдала за тем, как в одну секунду чемодан с рацией, который она только что отдала Харри, исчезает под больничной кроватью Кельнера, а у нее в руках оказывается другой, с вещами Агны и Харри.
Зофт поднял глаза на фрау Кельнер, и внимательно, в ожидании посмотрел на нее.
— Я жду, фрау Кельнер.
Агна подошла к страховому агенту и положила чемодан на небольшой столик, прямо перед ним.
— Откройте, — приказал Зофт, внимательно наблюдая за девушкой.
Два замка поочередно щелкнули, Агна выпрямилась, убирая руки от чемодана, и смотря на то, как Зофт поднимает его крышку. Несколько секунд прошло в абсолютном молчании.
— Это все, что вы успели взять с собой? — уточнил страховой агент.
— Да, — Агна кивнула.
Зофт, оторвавшись от разглядывания вещей, снова принялся рассматривать ее лицо.
— Вы так спокойны, фрау Кельнер. Вас не оскорбляет, что я осматриваю ваши вещи? Мне показалось, в начале вы были против.
Агна мягко улыбнулась.
— Я только немного удивлена тем, что страховые агенты осматривают личные вещи, но если в этом ваша работа…
Мужчина поднял указательный палец, приказывая Агне замолчать, и, склонившись, над чемоданом, принялся медленно вытягивать из него ее нижнее белье.
— У вас… фрау Агна Кельнер… Очень красивые вещи, — медленно проговорил Зофт, неспешно рассматривая на просвет белье и сорочку девушки.
Агна почувствовала, как краснеет, но лишь плотнее сжала губы и продолжала смотреть на страхового агента.
— Что-то еще? — спросила она, когда молчание слишком затянулось.
— Ну что вы, фрау Кельнер! Я узнал все, что мне было нужно.
Зофт миролюбиво улыбнулся и закрыл чемодан. Повернувшись, он сказал, обращаясь к молчаливой Ханне:
— Фройляйн Ланг, а вы, наверное, пришли пригласить эту замечательную семейную пару на свою скорую свадьбу?
Ханна открыла рот, растерянно смотря на мужчину.
— Так я и думал. Уверен, вам есть, что обсудить. Всего хорошего, и… — взгляд Зофта перешел на Кельнера, — …скорейшего выздоровления. Я подготовлю все необходимые бумаги по возмещению ущерба, и дам вам знать.
Зофт вышел из палаты пружинным, энергичным шагом. Харри, Агна и Ханна остались одни.
— Тебе пора, — сказал Кельнер Ханне, едва за страховым агентом закрылась дверь.
Блондинка хмыкнула, нервно повела плечами и уставилась на Агну, явно не собираясь никуда уходить.
— Как жаль, что с вами, фрау Кельнер, все в порядке.
Харри резко вскинул голову вверх, посмотрел на Ханну, и поднялся с кровати.
— Я очень рада, что не оправдала ваших надежд, Ханна.
Агна посмотрела на блондинку в упор, и, скрестив руки на груди, крепко сжала их.
Кельнер сделал пару шагов и остановился, поморщившись от прострелившей его боли. Постояв на месте несколько секунд, он подошел к Ханне, лицо которой при его приближении изменилось, переходя от злости к растерянности.
— Не смей так говорить с моей женой! — зло прошептал он, сжимая плечо Ланг здоровой рукой, и силой уводя ее к выходу.
— Я отменю свадьбу, только скажи! Я все сделаю ради тебя! — кричала Ханна, вырывая руку. — Харри!
Со стороны коридора послышались шаги, дверь распахнулась, и двое санитаров, крепко взяв Ланг под руки, вывели ее из палаты. После их ухода повисла гнетущая тишина. Агна долго не двигалась, оставаясь на прежнем месте, а когда, наконец, посмотрела на Харри, сказала тихо, словно отвечая вслух на свои невысказанные мысли:
— Нет, — Агна покачала головой. — Она не успокоится, это кончится плохо.
Харри тяжело опустился на кровать и сжал голову руками.
— Прости меня.
Агна подошла к Харри, и, отведя от его лица руки, присела перед ним.
— Ты не виноват в том, как она ведет себя.
Девушка улыбнулась, но улыбка получилась тревожной и не слишком убедительной. Осторожно, чтобы не задеть его поврежденную руку, Агна обняла Харри, погладила по волосам, и шепнула:
— Как ты?
— Лучше, — глухо ответил Кельнер, крепко обнимая Агну, и вдыхая ее запах.
— Доктор сказал, что выписывает тебя. Поедем домой?
Она посмотрела на Харри.
— То есть в гостиницу.
Харри кивнул и замер. Ему вдруг стало очень больно и страшно. Сердце дрогнуло, и он еще крепче сжал Агну в объятьях.
* * *
— Смотри, какой…
Ханна незаметно для других легонько толкнула подругу локтем, и указала подбородком в сторону высокого блондина. Подруга фройляйн Ланг, — как и она, медсестра одной из берлинских больниц, — проследила за ней и усмехнулась.
— Ханна, Ханна…
— Узнать бы, кто это… суховат, правда, и, похоже, строгий… — протянула Ланг и облизнула полные губы, наблюдая за мужчиной.
— Знать или не знать, а лучше бы тебе так не смотреть на мужчин, — шепнула подруга, одергивая рукав белого медицинского халата.
— Не говори ерунды, именно такие взгляды они и любят, — продолжала Ханна, не отводя ярких глаз от незнакомца, прибывшего к ним сегодня утром в составе медицинской комиссии, которой предстояло осмотреть одну из лучших больниц Берлина. — Ну… И не только взгляды… — протянула она, вытягивая голову вверх, чтобы рассмотреть, с кем заговорил блондин.
— Ханна! — зашептала ее подруга, и покраснела.
— Да брось, Альма, неужели ты… это же Берлин! По вечерам здесь…
— Не хочу ничего слышать! По вечерам я сижу дома.
— И зубришь свои скучные книги, фройляйн Кох! А вот если бы ты приняла приглашение Германа, и пошла с нами…
Альма сухо сглотнула, посмотрела по сторонам. Убедившись, что в окружающем гомоне их голосов никто не услышит, она наклонилась ближе к Ханне, и жарко зашептала:
— А зачем тебе этот, если у тебя есть Герман?
Фройляйн Кох посмотрела на Ханну, и, уловив значение ее взгляда, зарделась еще больше.
— О, Ханна! Будь осторожна! Мужчины опасны, от них всего можно ожидать!
Ланг перевела на Альму веселый взгляд, и едва удержалась от громкого смеха:
— Это ты выучила сидя дома, Альми?
Боясь выпустить из виду блондина, который в этот момент разговаривал с заместителем отделения терапии, Ланг, все-таки, не без сожаления повернулась к подруге и сказала как можно скорее:
— Что с того, что у меня есть Герман? Ты видела его, он не молод, и… «трясется надо мной как старая шавка!» — с отвращением подумала Ханна, но вслух сказала, — А мне… — она снова посмотрела на незнакомого мужчину, — …хочется для разнообразия не напиваться перед тем, как я пойду в постель с тем, от кого при свете дня меня тошнит… И вот он, Альма. Посмотри! Мы даже похожи. Высокие и статные, оба — с голубыми глазами и — блондины. Правда, он немного худой, но ничего…
— Истинные арийцы, — заключила Альма хмуро, и отвернулась в другую сторону.
— Именно так, Альми, — Ханна игриво подмигнула подруге. — Истинные арийцы, предназначенные друг другу.
— Где тебя носит, Ханна?! Уже десять утра! Обход давно завершен!
Альма сама не заметила, как от возмущения повысила голос, и загремела стеклянными колбами.
— Герр Либбе заметил, что тебя не было на обходе. А о твоих пациентах пришлось заботиться мне!
— Ну и что? Как они, живы? — протянула нараспев Ханна, грациозно опускаясь на кушетку.
— То есть… ты?…
— Ой, Альма, только не делай такие круглые глаза! У меня были причины для опоздания.
Ланг помолчала, ожидая от подруги вопросов, но когда их не последовало, быстро затараторила, взмахивая в воздухе руками, ногти на которых были покрыты густым слоем ярко-красного лака.
— Я все узнала, Альма! Герр Либбе мне все и рассказал о нем.
— О ком?
Девушка непонимающе уставилась на подругу.
— Не будь дурой, Альма! Вчера. Блондин. Помнишь?
— А-а-а… — не слишком воодушевленно протянула фройляйн Кох. — И что же?
— Он новенький! Здесь, в Берлине. Две недели как приехал из Гайдельберга, где учился на медицинском. Так что мы еще и коллеги!
— Ну да, — кисло заметила Альма. — Только он обитает в каких-то медицинских коллегиях и комиссиях, а мы… сама знаешь, — выносим судна и меняем гнойные повязки.
— Это ты их меняешь, моя дорогая Альма, — Ханна пикантно улыбнулась. — А я не собираюсь больше здесь торчать.
— И что ты будешь делать?
— Выбираться отсюда, конечно! Если не с помощью Германа, то при помощи этого красавца — точно! Второе, скажу я тебе, будет куда приятнее первого. Поверь мне, я знаю, о чем говорю.
Заметив по взгляду Альмы, что она снова не понимает главного, Ханна раздраженно продолжила:
— Вчера, после того как вся эта комиссия ушла, я пошла к Либбе, и спросила у него, кто к нам приезжал.
— И он выдал тебе биографии всех, кто был, с фотокарточками? — улыбнулась Альма.
— Нет, конечно. Мне это и не нужно.
— Ну, так кем оказался этот блондин? — со вздохом уточнила Кох, которую уже начинал утомлять этот разговор.
— Как я и сказала, — вчерашний студент медицинского из Гайдельберга. Ну, почти вчерашний.
— ….Окончил один из лучших факультетов лучшего университета… — мечтательно протянула Альма.
— И потратил на это целых шесть лет своей жизни! — хмыкнула Ханна, возвращаясь к объекту своей страсти.
— Его зовут Харри Кельнер. Новый ассистент фармаколога, на стажировке.
— Ты, кажется, разочарована? — Альма снова улыбнулась, закрывая шкафчик на ключ.
— Ну… положение могло быть и получше, признаю, но сам он… Пусть и ассистент, и на стажировке…
— И без постоянной должности, — тихо добавила Альма, подливая масла в огонь.
— Могло быть и хуже, Альми. Черт с ней, со стажировкой! Вот сам он… встретил меня с большим интересом.
— То есть как? Ты его видела?
— А что же, — Ханна усмехнулась.
Отклонившись назад, она закинула ногу на ногу, поигрывая красной туфелькой, обнажившей стопу и теперь раскачивающейся на кончиках пальцев.
— Ты думала, я буду на него только смотреть? Нет, моя дорогая Альма, я не такая, как ты. Я беру то, что мне нравится. То, что я хочу.
— «То, что…»? — Альма пораженно взглянула на Ханну. — Он…
— А я хочу его, — продолжала Ланг, не слушая подругу.
— …Человек, — тихо закончила Альма уже для самой себя, потому что поняла, что Ханна совсем ее не слушает.
— Ладно, мне пора, Альма! Работы еще много, нужно обойти всех этих больных… И поскорей бы наступил вечер!
— Зачем?
Вопрос застал Ланг у двери. Не оборачиваясь, блондинка тяжело вздохнула, словно говорила с сумасшедшей, и пояснила:
— Затем, что сегодня вечером я снова его увижу.
* * *
Ханна не сразу дала знать о своем присутствии. Сначала она несколько минут наблюдала за Кельнером, который, выйдя из здания, где располагалась фармацевтическая компания «Байер», одним резким, быстрым движением сорвал с шеи галстук и остановился под лучами уходящего летнего солнца. Его глаза были закрыты, губы, — сначала плотно сжатые, — постепенно разомкнулись, и он вздохнул, предельно глубоко и медленно. Так, словно слушал скольжение воздуха каждой клеткой своего тела.
— Харри… — негромко позвала Ханна, начиная приближаться к нему.
Острый взгляд голубых глаз мгновенно сфокусировался на ее лице. Не осталось и следа от царившей секунду назад безмятежности.
— Простите… герр Кельнер.
Девушка изогнула сочные губы в виноватой улыбке.
— Вчера мы договорились с вами о встрече… Я привезла те документы, с итогами испытаний экспериментальных препаратов, которые по ошибке не взяла с собой. Простите…
— Ничего… — с хрипотой в голосе, особенно заметной на первом слове, ответил Кельнер, внимательно разглядывая красивое лицо девушки, и поправляя воротник белой рубашки.
—…Ничего страшного, фройляйн Ланг. Эти документы еще не запрашивали, вы успели вовремя.
— Я рада! — выдохнула Ханна, и замолчала в ожидании следующей фразы Кельнера.
Которой, впрочем, не последовало, как не было во взгляде мужчины и намека на что-то большее, переходящее за грань обычной вежливости.
Ланг, не привыкшая к такому равнодушному обращению, нервно вздохнула, и заговорила тише, намеренно делая паузы между словами и не отводя взгляда от лица Харри.
— Герр Либбе попросил меня завезти вам документы, и сказал, что вы в городе совсем недавно.
— Недавно приехал из Гайдельберга, — подтвердил Кельнер, закуривая сигарету.
— Выходит, мы с вами коллеги? Вы закончили медицинский?
Харри кивнул, выпуская дым в сторону. Разговор снова оборвался, и Ханна начала заметно нервничать, лихорадочно соображая, что она может предпринять еще, когда дело касается такого на удивление несговорчивого мужчины.
— Я могла бы показать вам Берлин.
Блондинка улыбнулась, подключая к широкой улыбке тот взгляд, который до этого момента всегда действовал безотказно.
— Правда, сейчас уже поздно, и мне нужно домой…— в ее глазах мелькнуло сожаление.
— Я могу вас подвезти, — предложил Кельнер, выбрасывая сигаретный окурок в урну.
— Это было бы чудесно, спасибо!
Ханна улыбнулась, касаясь запястья Кельнера, и наблюдая за тем, как он, опустив взгляд вниз, с удивлением смотрит на ее руку.
— Пожалуйста, — Харри отступил в сторону, пропуская Ланг вперед.
Подойдя к черному «Мерседесу», Кельнер открыл перед Ханной дверь. Девушка довольно посмотрела на блондина и с удовольствием устроилась на пассажирском сидении, с улыбкой наблюдая за движениями мужчины.
Когда Харри сел за руль, Ланг, продолжая следить за ним кошачьим взглядом, придвинулась ближе. Благо, автомобильное сидение, выполненное в виде сплошного дивана, вполне позволяло это сделать. Не говоря ни слова, девушка повернулась к Кельнеру, делая вид, что все происходящее — абсолютно случайно, и больше всего в данную минуту ее тревожит мысль о том, например, сможет ли она сегодня безопасно добраться до своей квартиры в центре Берлина. Не умеющий читать мысли, и все такой же немногословный, Кельнер, сам того не зная, вполне заверил ее в этом, одним ходом игнорируя игривые взгляды Ланг, и выводя автомобиль на оживленное шоссе.
Ханна посмотрела на Харри, и уже хотела нахмуриться, — отсутствие привычной мужской реакции на свою персону продолжало сбивать ее с толку, — но вспомнила свое первое впечатление о Кельнере. «Суховат, и, похоже, строгий» — напомнила она себе, и вздохнула, чувствуя как к ней возвращается привычная уверенность в своей красоте. «Спокойно, Ханна, не волнуйся. Именно эта отстраненность тебе и понравилась в нем. Это даже интересно… В конце концов, никуда он не денется». Успокоенная собственными доводами, Ланг расслабилась, откинула длинные волосы назад, и назвала свой домашний адрес.
— Фридрихштрассе, 25.
Кельнер кивнул, плавно заводя машину в поворот, и бросил на Ланг быстрый взгляд, в ответ на который последовала незамедлительная улыбка.
— Как же быть с экскурсией по городу? Вы не ответили, герр Кельнер.
Затормозив перед светофором, Харри посмотрел на Ханну.
— Я не против, фройляйн Ланг, спасибо за предложение.
Рука Ханны, скрытая от взгляда Кельнера, и сжатая в кулак, расслабилась.
— Здесь направо, пожалуйста… Вы не пожалеете, герр Кельнер, я очень хороший гид.
Харри повернулся к блондинке, смотря на нее с выражением вопросительной иронии.
— Я давно живу в Берлине, и хорошо знаю город, — добавила Ланг, будто Кельнера в самом деле интересовало, хороший ли она проводник по столице Германии, и, к своему удивлению, почувствовала, как начинает краснеть от его взгляда.
— Значит, мне очень повезло, — с той же иронией ответил Харри, и остановил машину. — Фридрихштрассе, 25, фройляйн Ланг.
Ханна огляделась по сторонам, с удивлением рассматривая дом, в котором для нее
снимали квартиру.
Судя по растерянному выражению лица, она не ожидала, что дорога до дома закончится так быстро. Девушка посмотрела на Харри, на его самодовольную, — как ей показалось, — ухмылку, которая на деле была не более, чем следом недавней улыбки, — и разозлилась. «Да как ты смеешь!» — зло подумала Ханна, поднимая на него сердитый взгляд. Придвинувшись к Харри в легком шорохе обтягивающей юбки, Ханна обняла его и поцеловала в губы.
— Уверена? — шепнул он, прерывая поцелуй, и останавливая Ланг.
— С первой минуты… — ответила Ханна, запуская ладонь под воротник белой рубашки Кельнера.
* * *
О том, что Кельнер отлично знал Берлин до встречи с ней, Ханна поняла позже, когда их роман уже был в самом разгаре. В то утро она шла по больничному коридору, и вспомнила, как он подвез ее до дома. «Фридрихштрассе, 25» — прозвучал в воспоминаниях Ханны ее собственный голос.
«Он ведь даже не спросил, где это, и как нужно проехать! Он только приехал по адресу. Словно знал, что…».
Ханна поморщилась, обрабатывая старый, тонкий шрам Харри, тянувшийся от шеи, через ключицу и до середины груди, который сейчас, по прежней линии, был наполовину взрезан снова. Яркая кровь, просачиваясь сквозь пальцы Ханны, тяжелыми, глухими каплями падала на ковер гостиной.
— Это же надо было встретить именно этих ублюдков! Харри!
— Они… зажали в переулке женщину, я не смог пройти…
— А лучше бы прошел! Ну, что бы они ей сделали?… А твою рану придется зашивать по новой!
Кельнер, молча наблюдавший за тем, как его кровь снова и снова падает на ковер с высоким ворсом в одной и той же точке, вскинул голову вверх и удивленно, с плотно сжатыми губами, посмотрел на Ханну. Но ничего не сказал. Только долго всматривался в ее красивое лицо, будто искал что-то потерянное.
— И как они тебя подрезали? — снова завелась Ханна. — Они же не могли знать про этот шрам.
— Они и не знали… Просто один схватил меня, ударил о стену, а второй заметил шрам… В качестве урока, как они сказали, они решили обновить…
Ханна отвернулась в попытке подавить дурноту, подступающую к горлу, громко сглотнула, повторно обрабатывая рану, и поднесла к ней медицинскую иглу.
— Будет больно, Харри. Точно не хочешь выпить?
— Хочу.
Ланг вставила в его дрожащую руку бутылку с виски, во всплесках которого поблескивала темнота, и ждала, пока Кельнер выпьет достаточно, чтобы выдержать боль, пока она зашивает шрам, который казался ей еще длиннее потому, что его предстояло зашить заново. Несмотря на выпитое спиртное, Харри дернулся, когда за иголкой, через рану, сквозь кожу, медленно и тошнотворно потянулась нить.
— Ненавижу это… ощущение… мерзость…
Сделав неровный вдох, Кельнер откинулся назад, прислоняясь обнаженной спиной к креслу.
— Все-таки сесть на пол было… х-х-хорошей идеей… дальше не упадешь.
Он посмотрел на бутылку с виски, и улыбнулся тому, что знал о себе и раньше: алкоголь его не пьянил, не давал даже легкого опьянения. «Опять… терпеть… терпеть» — повторял он себе, нарочно отвлекаясь от подсчета сделанных Ханной стежков.
Сколько там еще? Чувствуя, что соскальзывает во тьму, несмотря на все приложенные усилия, он постарался упереться спиной в кресло как можно сильнее. Где-то на краю сознания мелькнула мысль, что мерзкая нить прекратила таскаться сквозь его кожу туда-сюда.
«Это хорошо…» — подумал он, отключаясь. Кровь заполонила собою все вокруг, и Харри Кельнера на время не стало. Но он снова появился ночью. Очнулся одним рывком, выпрыгивая из дурного и вязкого тумана, застывшего на границе сна и явности. Ханна была в явном мире, и это его немного успокаивало, — был кто-то еще, кроме него самого, за кого он мог зацепиться. Хотя бы немного. Страсть, дикая, как жажда, заполнила все вокруг, и он, все еще вздрагивая от бурлящего в крови адреналина, потянулся к Ханне, целуя ее лицо, светлую кожу, густые, блестящие волосы и полные губы. Он слышал, как она удивлялась и фальшиво протестовала, говоря, что «это сейчас ему вредно», но очень скоро, — по ту сторону проснувшейся жажды, — ее слова стихли. На смену им пришли стоны. Протяжные, долгие и глухие. Иногда такие пронзительные, что ему казалось, будто она плачет. Сердце холостой, рваной дробью глухо билось в подлатанной груди Кельнера, и постепенно, очень медленно, он выныривал на берег яви.
Опять.
— После такого, мой дорогой, ты обязан на мне жениться.
Ханна довольно потянулась, отбивая ногтями мягкую дробь на груди Харри.
— Это вряд ли, фройляйн Ланг, — задумчиво ответил он, рассматривая гостиную в ее квартире.
— Почему? Ты женоненавистник?
Харри рассмеялся. Сначала тихо, потом громче, а успокоившись, заметил, все еще посмеиваясь:
— Да, особенно в последние секунды!
— У тебя скверное чувство юмора, — Ханна кисло улыбнулась.
— Согласен.
Почувствовав перемену в настроении Ланг, Кельнер пояснил:
— Я не намерен жениться, Ханна. Вообще. Ни на какой женщине.
— Тебя обидела какая-то из нас?
Ланг посмотрела на Харри вполоборота, поверх голого плеча.
— Нет. Просто… не хочу.
— А как же я? — прильнув к нему разгоряченным телом, она повела руку вниз.
— А с тобой что-то случилось? — Харри потянулся к Ханне, и поцеловал ее в губы. — Или все остается прежним?
— Секс, встречи, прогулки?
— И ужины. На мой взгляд, даже довольно уютные.
— И «никаких обязательств»? — уточнила Ланг, вспоминая его слова.
— Именно. Как мы и договаривались. Или тебя это уже не устраивает?
Харри медленно провел ладонью по спине Ханны, и довольно улыбнулся.
— Ну что ты!.. — Ханна тряхнула тяжелыми волосами. — Меня все устраивает. Ты же не влюблен в меня?
— Как и ты в меня.
— Именно. И тебя не волнует, что у меня есть другой?
Кельнер усмехнулся.
— Скорее, это я — этот «другой». Наши встречи начались тогда, когда ты уже была с ним. И я с самого начала знал о нем, ты сама сказала.
— И ты не ревнуешь? — допытывалась Ханна, пытаясь звучать легко и незатейливо, что выходило ровно наоборот, и в ее голосе впервые за все время их встреч засквозила тяжесть и злость. — Что я сплю с ним, как с тобой? Что я целую его?
Кельнер повернулся к Ханне, и, глядя в ее немного бледное лицо, уточнил:
— Что тебе нужно от меня? Если ты хочешь все прекратить, — скажи. Но не пытайся выбить из меня то, чего нет. Я ненавижу все эти манипуляции, поэтому у нас с тобой и существует договор.
Ланг покраснела, рывком отодвигаясь от него.
— А ты чувствуешь? Ты, всегда такой закрытый и отстраненный, молчаливый, словно у тебя пропал дар речи, ты… что-нибудь чувствуешь ко мне?!
Кельнер тяжело вздохнул, растирая лицо руками.
— Мне казалось, что моя «отстраненность» тебе нравится. Или уже нет?... А мне нравится, что у нас все легко.
— Полное отсутствие обязательств, ты это хочешь сказать? — язвительно уточнила Ханна.
Кельнер закрыл глаза и медленно спросил:
— Ханна, что ты хочешь?
— Все! Хочу все! Тебя, всего, навсегда, каждый день!
Она заплакала громко и зло, ударяя рукой, зажатой в кулак, в пол.
— Я люблю тебя!
На этих словах Харри, который уже начал одеваться, застыл с расстегнутой манжетой в руках. А Ханна яростно продолжала:
— Я люблю тебя, и я ненавижу тебя! Ты любишь меня?
— Нет, — глухо ответил Кельнер, и замолчал. — Мне жаль.
Ланг рассмеялась, проводя острыми ногтями по ковру. Подняв голову, она посмотрела на Харри исподлобья, выпрямила спину, демонстрируя ему свою тяжелую, обнаженную грудь, и прошипела:
— Тогда будь проклят, Кельнер! И убирайся!
И он действительно убрался. Не только из жизни Ханны, но и в жизни Харри Кельнера. Все встречи и контакты с другими людьми он стал отслеживать еще тщательнее. Другой от этого давно бы сошел с ума, но Эдвард Милн продолжал ставить на то, что он всегда был одиночкой, и потому просто шел дальше. После проклятия встречи с Ханной прекратились. Но началась слежка. Пару раз, делая вид, что он ни о чем не подозревает, Кельнер замечал, как она идет за ним следом по выбранному им маршруту. Он мог бы легко оторваться от нее, — это было сделать тем легче, что Ханна не обладала навыками «наружного наблюдения», и выдавала себя в первые же минуты очередного следования за Кельнером. Харри думал поговорить с ней, но воспоминание об их последнем разговоре останавливало эту затею, и, в конце концов, он решил, что будет лучше, если он не станет напоминать Ханне о себе. Тем более, его внутренний голос, невесело смеясь, говорил, что она и «без того его помнит».
И пока Кельнер пребывал в зыбкой уверенности, что история с Ханной закончена и решена, фройляйн Ланг сама дала о себе знать. Причем весьма нетривиальным образом.
Декабрь лихо бежал к Рождеству, весело сверкая блестящим, зеленым хвостом по страницам дряхлеющего день ото дня календаря, и Кельнер уже завернул в узкий коридор, в конце которого, по правой стороне, — за самой последней дверью, — была его квартира, когда Ханна Ланг, в прямом смысле слова, преградила ему путь. И не она одна.
Вместе с ней был какой-то мужчина, чья роль, по-видимому, состояла единственно в том, чтобы прижав Ланг к стене коридора, целовать ее. И делать это тем громче и развязнее, чем ближе становились гулкие шаги Кельнера, по наивности души своей предполагавшего, что и этот вечер сочельника пройдет так же, как и все другие, а завтра он, Харри, просто уедет в отпуск. Выражение лица Кельнера, узнавшего в страстно целующейся с каким-то типом даме Ханну Ланг, было полно замешательства и изумления.
Действительно, — год уходящий ни единым намеком не готовил его ни к чему подобному. Подойдя к паре, Харри остановился, и не успел ничего сказать, когда услышал голос Ланг:
— Харри Кельнер!
Она посмотрела на него и засмеялась.
— Ну и в какой дыре ты живешь, подумать только! А ведь твоя стажировка давно закончилась, и ты теперь получил работу в компании «Байер»! Это… это… герр Кельнер! — отрекомендовала Харри Ланг. — А это… — она ткнула указательным пальцем в грудь второго мужчины, — …не Герман!
Хохот Ланг раскатился эхом по всему коридору.
— Ну, а ты, Харри Кельнер, как живешь? Сделал меня шлюхой, и доволен?
— Что с тобой, Ханна? — стараясь говорить как можно спокойнее, спросил Кельнер. — Что ты приняла? Или он тебя накачал?
— Никто-о-о… никто меня не накачивал! Я выполняю план!
— Какой еще план?
Харри встал перед Ханной, приподнимая ее лицо за подбородок, и стараясь уловить хаотичный, блестящий взгляд голубых глаз.
— Какой план, Ханна?
— Чтобы ты… ревновал! Вот, полюбуйся, — Ханна указала на мужчину, который был в не лучшем состоянии, чем она сама. — Теперь я с ним. И с другим. И еще с одним. А от Германа… ушла… Спросишь, почему?
Кельнер покачал головой, хмуро рассматривая лицо Ланг.
— А он напоминает мне о тебе, вот почему! А этот… и те, другие — нет… Я трахаюсь с ними, Харри! Очень много… скажи мне, ты ревнуешь?
— Пойдем со мной, — сказал Кельнер, беря Ханну за локоть.
— О-о… вот это новости, вы слышали? Прошло всего два месяца, и мы снова вместе! Мы идем трахаться, мой дорогой?
Кельнер поморщился, делая шаг вперед. Без труда обойдя незнакомца, которого притащила Ханна, Харри подвел ее к двери своей квартиры, достал ключ, и провернул его в замочной скважине. Входная дверь, тихонько скрипнув, ударилась о стену квартиры.
— О-о… и это твой дом, герр Кельнер? Надо же! Сколько мы с тобой спали, а я никогда здесь не была! Надо отметить этот случай…
Ханна прислонилась к косяку, и помахала рукой мужчине, оставшемуся в коридоре.
— Жди меня. Жди меня здесь, Ханна, — громко сказал Харри, и закрыл за собою дверь.
Снова оказавшись в коридоре, он повернулся к незнакомцу, трясущемуся у противоположной стены, и вывел его на улицу. Придерживая его под руку, — почти так же, как Ханну несколько минут назад, — Кельнер не без труда прошел, — вернее протащил его — через пару кварталов. Посадив спутника Ханны, который давно уже был в отключке, на скамью в одном из парков, Кельнер побежал домой.
Ханна спала, сидя на полу, — прислонившись спиной к дверному косяку, у которого Кельнер ее оставил перед уходом. Светло-коричневое пальто бесформенной грудой пузырилось вокруг Ланг, очевидно просто плавно съехавшей вниз по стене. Вздохнув, Харри несколько минут внимательно рассматривал Ханну, а затем, взяв ее на руки, отнес в спальню и уложил на кровать. Освободив девушку от обуви и верхней одежды, Кельнер укрыл ее одеялом, а сам устроился в кресле.
— Харри… Харри!
Ханна потрясла Кельнера за плечо, и, заметив, что он просыпается, отошла назад.
— Ханна, — протянул он, выпрямляя затекшую от неудобной позы спину.
Ланг всплеснула руками и отвернулась.
— Я… не знаю, что сказать… это было так некрасиво!
— Дело не в этом. Что ты делаешь?
Ханна посмотрела на Кельнера.
— Ты должен понять! Ты должен! Я, я… люблю тебя!
— Но я не люблю тебя, Ханна. Мне жаль, но это так.
Ланг усмехнулась.
— А ты жестокий, Харри Кельнер! Думаешь, можешь судить меня? Бросил меня, и стал чистым, да?
— Я не сужу тебя, Ханна. Все кончено, и тебе лучше уйти.
— Нет! Я никуда не уйду! Ты выслушаешь меня! Ты должен, должен любить меня!
— Никто этого не должен! — крикнул Кельнер, выходя из себя. — И ты не можешь меня заставить!
— Ты! Это ты сделал меня шлюхой! Из-за тебя я пошла к ним, чтобы ты ревновал, любил меня!
Ханна заплакала, опускаясь на кровать.
— Это абсурд! Уходи, Ханна, просто уходи! Живи своей жизнью, и будь осторожна.
— А-а-а… теперь ты проявляешь обо мне заботу?! А я…
Ланг огляделась в поисках сумочки, но вспомнив что-то, подбежала к своему пальто, оставленному Харри на застеленной половине кровати.
— Приготовила тебе рождественский подарок, Кельнер. На, возьми!
Ханна так стремительно вытащила из кармана серебряный мужской портсигар, что он едва не вылетел из ее рук.
Харри покачал головой.
— Нет. Послушай, Ханна, пора остановиться. Мне было хорошо с тобой, но то, что происходит сейчас…
— Это не для тебя, так? Ты подонок, Кельнер! Будь по-прежнему проклят!
Схватив пальто, Ханна выбежала в коридор, и с треском закрыла за собой дверь.
Это была их последняя встреча в прежних обстоятельствах. Вечером того же дня Харри Кельнер вылетел самолетом в Лондон, и вернулся в Берлин только в середине февраля уже нового, тысяча девятьсот тридцать третьего года. За это короткое время изменилось все: от Берлина и всего мира до Харри Кельнера, который никогда не намерен был жениться. И женился.
* * *
— Нужно ехать, — снова тихо шепнул Харри, поднимаясь с кровати и беспокойно осматривая гостиничный номер.
— Давай останемся.
Агна провела рукой по его волосам, с тревогой отмечая про себя, как вена резкими, сильными толчками пульсирует на виске.
— Тебе нужно отдохнуть. Мы обязательно поедем, позже.
Кельнер посмотрел на нее усталым, тяжелым взглядом, и медленно кивнул, откидываясь на подушку. Агна поцеловала его в щеку, положила голову на плечо Харри, и, закрыв глаза, глубоко вздохнула. Скоро ее дыхание стало тихим и размеренным, и она впервые за все эти тревожные дни заснула глубоким, настоящим сном.
Но Харри не спал. Он подумал о том, что не может сейчас тратить время на сон, потому что слишком многое нужно обдумать и решить. К тому же, он и так очень долго провалялся в больнице. Тревожные мысли Кельнера поплыли дальше, уходя к воспоминаниям о том, что произошло за последнее время, и к предположениям о том, что может произойти. То, что сделала Эл за то время, пока он приходил в себя, поразило Эдварда. Она спасла его, довезла до больницы, передала шифровку в Центр, нашла гостиницу… И ничем, абсолютно ничем не выдала их. Милн сделал тяжелый вдох. Он не сомневался в Элис или ее уме, но Эдвард всегда считал Эл очень хрупкой, той, кого он хотел и должен был защищать. Он — ее, но не наоборот… Огнестрельное ранение застало его врасплох, сбило с толку. Он сам расценил это как собственную слабость. «Именно я — старший агент, это я должен отвечать за…» — растерянно, скрывая от Эл свои мысли, часто думал Милн. Это он отвечал за выполнение их заданий. Это он должен был быть осторожнее, умнее, предусмотрительнее. Это он должен был защитить Элис… Но оказалось, что она защитила его. И это новое чувство, возрастая в сердце Милна горячей волной, было таким новым, непонятным и непривычным, что он не знал, как с ним быть. Он, Милн, оказался слабым. Он не сбил тех ублюдков, что блокировали «Хорьх» тогда, в переулке. Он растерялся, замешкался, дал слабину. Поймал пулю и выпал из реальности, не защитив Элис. А если бы они поймали ее? Если бы…Эдвард снова тяжело вздохнул, и закрыл глаза, стараясь успокоиться. «Тише, спокойно. Думай о фактах, а не о том, что могло случиться. Только факты имеют значение…» — поправил он себя, чувствуя, как болит все тело, пульсируя изнутри жаром и кровью, словно огромный, огненный шар. Ощущение было такое, будто сердца не стало, и, в то же время, оно было всюду, — в каждой клетке тела, в каждом его медленном вдохе, в каждом его медленном выдохе. Когда боль стихла, отходя в одну горячую точку на руке, Эдвард начал очень медленно вспоминать.
Их четверо. Разбитый «Хорьх». Он и Эл едут к Кайле. У Эл напряженное, испуганное лицо. Она осматривается по сторонам, а он не знает, что ей сказать, чтобы хотя бы немного отвлечь от происходящего. Но скоро эти мысли сменяются другими. В зеркале заднего вида, по отражению в боковом зеркале, он следит за тем, как хаотично и быстро, — словно черные призраки, — за машиной мелькают быстрые тени. На фоне огня и пожаров они особенно заметны, хотя, — Эдвард в этом уверен, — они совсем не хотели привлекать к себе внимание.
Трое блокируют «Хорьх», выходят вперед. Если бы скорость автомобиля была больше, то, кто знает, — может, он бы их переехал. Или попытался. Но он остановился. Струсил? У него не было практики в том, чтобы переезжать людей. «Людей?» — спросил он себя, и подумал о том, что до сих пор, даже за все это время в Германии, даже после смерти Стива, который ушел в ту же, что и другие нацисты, тьму, — он до сих пор не привык относиться к ним как к окончательным ублюдкам. Он видел в них врагов. Умных врагов, которых ему нужно победить, и которых нельзя недооценивать.
Но кем были эти четверо — эсесовцами, штурмовиками или кем-то еще, он так и не узнал. Тогда, при встрече, выяснять это не было ни времени, ни желания. К тому же, не так уж важно, кто это был, — их намерения были понятны с первой секунды. Но даже если произойдет невероятное, и все они окажутся полицейскими, и на вопрос Харри Кельнера о том, по какому праву они остановили его, он получит от них документы, удостоверяющие личность, и выясниться, что это «обычная проверка», это не разрешит ситуацию.
Вот Кельнер отвлекается на отсвет и движение в боковом зеркале «Хорьха». Четвертый. Он подходит сзади. Он совсем не спешит. Сдать назад, переехать его, развернуться и оторваться от всех? Бравая тройка смотрит на него и Элис, и продолжает стоять на месте, наверняка следуя заранее отданному приказу четвертого, — который в этой шайке, очевидно, главный, — следуя этому приказу, они не делают ничего, пока не получат от него условный знак.
Поэтому пока они только стоят перед машиной, скрестив руки на груди и ухмыляясь. Уверенные, что добыча никуда не денется, потому что у нее нет выхода. Четверо к двум, с учетом того, что один из этих двух — невысокая девушка, — это не слишком обнадеживающий расклад для последних. Харри глушит мотор «Хорьха», и, повторяя за новыми знакомыми, замирает на месте. Он тоже следит за ними. Медленным, едва заметным движением глаз. И одновременно прислушивается к тому, что происходит в машине, справа от него. Там сидит Эл. Она не издает ни звука, хотя тоже, наверняка, — он не может сейчас увидеть ее лицо, и это только предположение, — наблюдает за теми, кто вышел им навстречу.
Кельнер переводит взгляд от одной фигуры к другой. Они поразительно похожи между собой, — безличные и черные, неотличимые друг от друга. Таких сейчас наверняка много, у них сегодня ночной разгул, и эти, как и другие, тоже хотят поживиться за их счет. В голове Милна снова мелькают мысли об Элис. Она держится, это хорошо. Хотя могла бы сорваться в истерику. Хотя… вряд ли. Истерика к ней как-то не подходит. Эл скорее бы достала из бардачка вальтер или новый зауер-38, купленный Харри совсем недавно, — чтобы точно знать, как действует новое германское оружие, о котором он пересылает шифровки в Центр, — и наставила бы его на этих троих. И ей было бы плевать на их численное превосходство.
Милн чувствует, как от этой мысли, и от картинки, которая последовала вслед за ней, его губы растягиваются в улыбку. Но он не удивлен, так всегда бывает: в моменты опасности и риска он улыбается и смеется. Именно благодаря такой улыбке, которую он давно научился расценивать как знак, Эдвард знает, что сейчас ему не избежать не только драки, но и того азартного пламени, которое уже разливается по его телу. Так бывает практически всегда.
Азарт и огонь, разлитые по венам, у него проявляются улыбкой. Когда он был на войне с рифами, парни из его полка, заметив точно такую же улыбку на его лице перед началом атаки, со страхом смотрели на него, не понимая, что происходит. Они думали, что он — чертов псих, двинутый на жажде крови. Милн и сам про себя так думал. Но потом понял настоящее значение этой улыбки. Это было его подготовкой к опасной ситуации. Если бы не жар в теле и эта жуткая ухмылка с тихим, почти беззвучным смехом, он бы не выдержал ни одной битвы.
Кто-то шел в бой «всухую», а он перед каждой дракой или столкновением ждал этих знаков. Это занимало всего пару секунд, а потом он чувствовал, — глубоко втягивая горячий воздух пустыни через нос, — как огненный азарт, и вместе с ним расчетливая холодность, пропитывают его тело и кровь, выступая на лице страшной ухмылкой. Они помогали ему, мобилизовали его, собирали в единое целое так сильно, как ничто другое. С ними он готов был идти в любую, даже неравную по силам, атаку.
Эдвард посмотрел в зеркало заднего вида. Темная фигура четвертого неспешно приближалась к «Хорьху», и к тем троим, что стояли впереди. Милн заметил, как Элис, едва повернув голову в его сторону, попыталась посмотреть на него. На краткий миг он увидел, как блеснул в темноте ее испуганный взгляд, и, опустив руку с руля на сидение, он едва пододвинулся вправо, сжимая холодные пальцы Эл.
«Сейчас, Эл, не волнуйся. Еще немного… ну же, обойди слева!» — подумал Милн, снова смотря на четвертого, фигура которого была четко видна из-за близких пожаров и огня, бьющего столпами в небо.
Четвертый, словно прислушиваясь к мыслям Милна, остановился. А потом закурил сигарету. Огонек от спички яркой маленькой точкой упал вниз и погас. Затянувшись, он вытащил изо рта сигарету, покрутил ее в руке, и довольно улыбнулся, переводя насмешливый взгляд на «Хорьх», который уже никуда не сможет от них скрыться.
Зажав сигарету губами, и отведя ее в угол влажных губ, четвертый повернулся сначала вправо, а затем влево, рассматривая блестящий автомобиль. До него оставалось всего несколько шагов, и он был надежно блокирован его друзьями. Можно было не спешить, насладиться моментом, ведь сейчас у него появилась редкая возможность познакомиться с добычей поближе и рассмотреть ее прежде, чем для нее все закончится.
Он снова улыбнулся, поворачиваясь вправо, и размышляя над тем, стоит ли ему вытаскивать бабу из машины? Если сделать именно так, то придется отдать ее своим друзьям на то время, пока он разбирается с мужиком. Это не будет проблемой, — силы изначально не равны, и даже дураку ясно, что лучше не пытаться оказать сопротивление при таком раскладе. Но на мужика все равно уйдет время, пусть и немного. А значит, эти трое получат бабу первыми. Он улыбнулся. Нет, этого он не допустит. Он должен быть первым, как всегда.
Таков негласный закон их компании. А тот, кто осмелится его нарушить…
Стряхнув пепел, он бросил сигарету себе под ноги, и втоптал ее в мягкую, жирную грязь, с удовольствием вспоминая о том, как совсем недавно они прояснили этот вопрос между собой очень подробно.
«Исчерпывающе», — довольно подумал он, вспоминая, как всего несколько дней назад приказал этим троим зажать новенького, четвертого, еще не оценившего расклад верно, и, рассмотрев его руку, прижатую к столу, под светом качающейся потолочной лампы, начал поочередно, один за одним, выкручивать его пальцы. Вспомнив об этом, главный рассмеялся, — звук сломанных пальцев до сих пор очень нравился ему, радовал память. И, что совсем неудивительно, стал отличной острасткой для новенького, который, конечно, как и все другие в подобных обстоятельствах, начал кричать и вырываться, но, — делать нечего, — и он тоже, как и все до него, послушал, как звучит его тело на самом деле, тогда, когда к нему… Как это пишут в книжках? «Приложена посторонняя, внешняя сила воздействия?». Точно. Так и было.
Испытав на себе эту самую внешнюю силу, новенький обмяк на стуле, и уже не пытался соревноваться с ним в первенстве. Щенка посадили в коробку. И пусть скажет спасибо, что с него взяли расчет только пятью сломанными пальцами, ведь далеко не все, кого они встречали прежде, — в качестве добычи или в качестве кандидатов на вступление в их братство, — могли похвалиться тем же. Особенно ретивые, например, отправлялись кормить рыб. Но прежде он всаживал в них одну или две пули, чтобы плыть по течению им было комфортнее.
Сплюнув густую слюну, смешанную с табачной крошкой, четвертый повернул влево. Один мужик против них не представляет никакой угрозы. И надо сначала порешать вопросы с ним, если он хочет скорее добраться до бабы, которую все равно, — он знал, — его друзья не посмеют тронуть без его знака или прямого разрешения. Потому что всех баб он пробовал первым. Всегда. Это его закон. Настолько точный, что это правило тоже стоило бы занести в какие-нибудь книги. Эти двое, — как и многие другие, попавшиеся им сегодня ночью, — их, конечно, уже не прочитают, но это не слишком его обижало.
Четвертый не спускал взгляда с машины, и прекрасно все видел. Веселье в его груди росло, — мужик явно испугался, и уже даже не пытался выйти из машины. Жаль, — это могло бы быть очень интересное окончание их поездки, но и так, без сопротивления, тоже сойдет. К тому же, бабы всегда сопротивляются, стоит ему к ним подойти. И эта тоже будет, наверняка. Это хорошо, — он любил, когда они не соглашаются. Знают, что ничего не могут, а все равно кричат, царапаются, бьются. Каждый раз это будоражит его кровь, поджигая радостью каждую чертову вену в теле, и он слышит, чувствует, как от возбуждения кровь кипит, и не может остановиться. Именно потому он старается не бить их, когда насилует: от ударов они часто теряют сознание, а он хочет, чтобы они чувствовали его полностью, до самого дна. До последней капли их крови, которую он выпустит на волю тогда, когда захочет.
Милн сглотнул и открыл глаза. Что стало с тем, кого он ударил по голове за секунду до того, как отключился сам? Эл ничего о нем не сказала, надо спросить ее. И Зофт, — Милн нахмурился, — кто он такой? Он не более «страховой агент», чем Эдвард Милн — истинный ариец. Нельзя выпускать его из виду. Нужно узнать о нем как можно больше. Тем более, что сам Зофт осведомлен о Харри и Агне Кельнер очень хорошо. И Хайде. Незадолго до нападения Харри собирался обыскать его кабинет на предмет каких-нибудь любопытных находок, прекрасно понимая, что такие, как Эрих, не успокаиваются. Как Ханна. Но прежде всех — Кайла и Дану. Харри Кельнеру нужно как можно скорее прийти в себя, и узнать о том, как они. «А тот мальчик…Как Эл сказала, его зовут?». Мариус? Маринус? «Его тоже надо найти…— думал Кельнер, проваливаясь в сон, — надо найти…».
Эдвард наклонился к спящей Эл, поцеловал ее в обнаженное плечо, и тихо зашипел, с трудом отклоняясь назад, и снова напоминая себе, что сейчас, после ранения, он еще не может двигаться так же легко, как раньше. Откинувшись на подушку, Милн прикрыл глаза и тяжело вздохнул. Кровь снова с силой забилась в теле, вынуждая его остановиться, и напоминая, что, ни Эдвард Милн, ни Харри Кельнер не могут игнорировать ее, — рану, которая, к тому же, заживает медленно и плохо.
«Хорошо, что ведущая — правая…» — медленно подумал Эдвард, сжимая одеяло в руке. Рана действительно заживала плохо, он знал это: Кельнер был врачом, и, даже с учетом того, что сейчас он работал в концерне «Фарбен», что не соответствовало напрямую его специализации, разглядывая рану, он понимал, что она заживает не так, как следует, и не так, как ему хотелось. И это сильно нервировало его. «Не так быстро, как тебе хочется, да? — тихо и язвительно осведомился его внутренний голос, скалясь довольной улыбкой оттого, что этим вопросом угодил точно в цель. — Столько дел, столько дел!.. А ты медленный. Рука болит, тормозит, злит тебя. Тебе нужен покой, нужно разрабатывать руку, чтобы восстановить двигательную силу, но где же найти для этого время и терпение?…». Милн поморщился, отгоняя навязчивые мысли, и снова тяжело вздохнул.
Все было правдой. «Нужно… нужно… нужно…» — перечислял он в уме, лежа ночью без сна, торопясь решить как можно больше дел. Но рука снова и снова отбрасывала его назад, напоминала о себе. О том, что нравится это ему или нет, но пока Харри Кельнер вынужден особенно считаться с ней, и замедлять свой бег на поворотах. А бежать было куда. Пусть Кельнер от ноющей боли спал плохо и — отрывками, — он составил список задач, которые ему необходимо решить как можно скорее:
1.Осмотреть развалы дома в Груневальд. Эдвард и сам до конца не понимал, что рассчитывает там найти, но интуиция шептала ему, что он должен съездить на Херберштрассе, 10.
2.Найти новый дом для Харри и Агны. Но где, в каком районе? Далем? Снова Груневальд? Шарлоттенбург? Вильмерсдорф? Вопросы с домом и ремонтом разбитого «Хорьха» — самые важные, их следует решить в первую очередь. Без более- менее надежного дома, — абсолютной надежности нигде, особенно в нынешней Германии не существовало, — они рискуют опоздать с передачей необходимой информации в Центр. Значит, нужен дом. И скорее. Возможно, не такой большой, как прежний, но уютный, желательно неприметный (на этих словах Милн хмыкнул, — неприметность в помпезном районе Берлина Груневальд, — это действительно что-то новое. «Ну, что там еще, Харри? Какие еще у тебя требования к дому?» — иронично подумал он), рядом с парком или лесом. А лучше — в зеленой зоне, в окружении парков, из которых, — при необходимости, — удобно передавать данные и выходить на связь. Чем больше вариантов, тем легче их работа. Тем проще они запутают нацистов, которые не без успехов пеленгуют данные радиопередач. Пока им везло, но искушать случай не следует.
3.Зофт. Нужно выяснить, кто он на самом деле, и что ему нужно. И действовать с ним, — судя по тому, как этот «страховой агент» вел себя в больничной палате, — следует с особой осторожностью.
4.Хайде. Здесь планы прежние, — те же, что Харри уже обдумал до Хрустальной ночи, но из-за нападения не успел воплотить: нужно заглянуть на досуге в его кабинет, и выяснить, что старина Эрих успел накопать на Харри Кельнера.
5.Ханна. Стоило только мысленно назвать это имя, как Эдвард тяжело вздохнул. Тупиковая ситуация, которая осложнялась тем, что, несмотря на недавние события, Агна Кельнер по-прежнему отвечала за пошив свадебного платья Ланг, а последняя, как и прежде, чрезвычайно настаивала на том, чтобы Кельнеры присутствовали на ее свадьбе. Внешне, — хотя и в очень малой степени, — это еще могло сойти за вежливое приглашение на радостное торжество, но суть его была совсем иной. И все они, — Харри, Агна и Ханна, понимали это. Если бы Кельнер мог отказаться от участия в этом торжестве, не вызывая подозрений, он бы это сделал. Но… — Милн обвел гостиничный номер тяжелым взглядом, — … Харри Кельнер не мог. И потому, скоро ему и Агне предстояло посетить свадьбу Ханны Ланг. А до этого неплохо бы все еще раз подумать о том, что делать с Ханной? Потому что Эл права, — Ланг не успокоится.
6.Кайла, Дану, Мариус. Каждого из них предстояло найти и, — при самом лучшем раскладе, — отправить в Лондон. Или в США? Программа «Киндертранспорт» предполагает эвакуацию из Германии в Великобританию. Но — только для детей, которые уезжают без родителей. Допустим, Мариуса они смогут отправить в Лондон. Но что делать с Кайлой и Дану, и с мамой мальчика? Как устроить их отъезд? Смогут ли Кельнеры подвести их отъезд под эту программу? Харри знал, по крайней мере, об одном случае, когда женщина, подкупив нацистов, смогла выехать в Лондон вместе со своим сыном. Если у Харри и Агны получится сослаться на беременность Кайлы, и отправить ее, Дану, Мариуса и его маму этим же путем, — это будет просто невероятное везение.
Эдвард посмотрел на часы. Четыре утра. Что ж, самое время для прогулки. Стараясь не разбудить Эл, он как можно тише выбрался из постели. Подхватив здоровой рукой одежду со спинки стула, Милн зашел в ванную комнату и тихо прикрыл за собой дверь, придерживая дверную ручку так, чтобы она не щелкнула. На сборы ушло гораздо больше времени, чем он к тому привык. Неожиданно оказалось, что левая рука, — пусть она и не была для него главной, — чрезвычайно нужна едва ли не для выполнения каждой мелочи, и понял он это, как и бывает в подобных случаях, только сейчас, когда не мог двигать ей в полной мере. Закончив с бритьем, которое теперь, судя по всему, — до восстановления руки, — обещало быть ежедневно косым, Эдвард всмотрелся в зеркало хмурым взглядом, словно призывая себя смириться с обстоятельствами, и не раздражаться всякий раз из-за своей временной медлительности.
Впрочем, все эти уговоры помогли довольно мало, — бледные губы Милна скептически скривились при мысли о том, что сейчас он должен быть более терпеливым и менее требовательным к себе и своим возможностям, и он снова почувствовал раздражение, засевшее внутри с момента ранения. «Я мог проехать на скорости, я должен был! Из-за меня мы попали в опасный переплет… А теперь, когда так нужна скорость, ее… нет». Милн покачал головой, рассматривая свое бледное отражение в зеркале над раковиной. Сейчас у него не было не только скорости, сейчас у него не было того, что гораздо важнее, и, — при необходимости, — даже может компенсировать недостаточную быстроту движений: решительности. Внутренней. Той самой, которая берет города, и в любом деле играет главную роль. Можно быть даже немощным, но решимость — внутренняя, сильная, горячая, — определяет почти все. Если ее нет… то, вполне возможно, ты выглядишь так, как он, Эдвард Милн: хмуро, замкнуто и зло. Злость обращена на самого себя, и ничем хорошим это обычно не заканчивается. Милн тоже прекрасно это понимает, но пока не может преодолеть собственную злобу. Ну а пока так, он, все же, старается обратить ее в скорость, и собрать себя для прогулки как можно скорее. И вот, спустя долгие, — по его меркам — сборы, он едет в Груневальд, на развалы дома Кельнеров: нужно осмотреть то, что осталось от особняка с синей крышей, и взглянуть на случившееся той страшной ночью точным, трезвым, взглядом.
Но Харри Кельнер ничего особенного здесь не находит. Как и Агна прежде него, он только стоит у разнесенного огнем и стараниями нацистов дома, и молча осматривает развалины. Все ценные вещи разнесены по рукам, все оставленные занесены снегом: давним и плотным снизу, пушистым и легким, летящим с неба хлопьями, — сверху. Кельнер осторожно отводит плечо в сторону, и от этого едва заметного движения руку снова прошивает электрическим разрядом боли.
Он морщится, плотнее сжимая тонкие, бескровные губы. Харри не особенно рассчитывал на то, что после стольких дней, прошедших с нападения, он найдет в развалинах что-то ценное. Кельнер здесь за другим. Ему нужно самому увидеть разрушенный дом, убедиться, что теперь и это для Берлина, — и для всей Германии — не мираж, не болезненная его, Кельнера, фантазия, не игра воображения.
Но реальность.
Стылая.
Спланированная.
Расчетливая.
Холодная.
И очень простая в своей очевидной, новой, ясности.
Все стало можно.
Делая глубокий, медленный вдох и такой же медленный выдох, он знает: оружие снято с предохранителя.
Харри простоял на колючем ветру несколько минут. В отличие от Агны, он не задерживал на развалах выжженного, просыпанного снегом, дома, внимательного взгляда. Его глаза, острые и яркие, быстро пробежали по развалинам, и посмотрели вдаль, — в холодное, ясное небо.
Рука Кельнера поднялась к груди, скользнула за борт плотного, расстегнутого пальто, и зашла во внутренний карман. Пальцы сжали тонкую вязь золотого, женского, браслета, и нежную ткань носового платка. Это были самые дорогие для Эдварда Милна вещи. Браслет принадлежал его маме. Он снял его с руки Мадлен Милн в тот день, когда она погибла в автомобильной аварии, на загородном шоссе, и с тех пор всегда носил с собой. А платок был тем самым, на котором Агна Кельнер, — тогда еще только тринадцатилетняя Элисон Эшби, — желая поздравить Милна с наступающим Рождеством, вышила васильковой гладью его инициалы по белоснежной батистовой ткани. Больше, — Кельнер отвернулся от разрушенного дома, и зашагал вверх по подъездной дорожке, возвращаясь к изрядно разнесенному в нападении «Хорьху», — он не искал ничего. Самое дорогое и горькое всегда было с ним.
* * *
Поиск нового дома для Кельнеров, — второй пункт в мысленном списке Эдварда.
Когда первый дом Харри и Агны остался позади, Милн завел чихающий «Хорьх» вправо. Если проехать по прямой, миновать несколько домов и остановиться недалеко от тупика, то покажется двухэтажный, небольшой дом. Симпатичный, ничем особенным не примечательный, и совершенно такой же, как и все другие, окружающие его.
Как удивительно и странно: Милн давно заметил этот дом, заложил его местоположение, как закладку в памяти, и не раз думал о том, что, возможно, этот дом, совсем не такой фешенебельный и вычурный, как первый, но все еще бывший в границах Груневальда, подошел бы для Харри и Агны больше, чем особняк по Херберштрассе, 10. Главные требования, которые были у Милна к новому дому Кельнеров, этот выполнял с лихвой: за ним был лес, близкие, живописные в теплое время года, парки и все та же река Хафель. Красиво? Да. Но главное — это хорошее прикрытие для передачи данных в Лондон. К тому же, они останутся в том районе, которому должны соответствовать Кельнеры, — богатом Груневальде. Милн осмотрел дом, давно выставленный на продажу, и, по привычке, кивнул. Нужно как можно скорее оформить покупку, и съехать из отеля, где наушников гестапо больше, чем окружающих людей.
Конечно, лучше было бы обсудить это с Эл, но внутреннее нетерпение Милна, собравшее его в четыре часа утра на эту более чем любопытную прогулку, не терпело промедлений. К тому же, времени для долгих поисков нового дома не было. Необходимость диктовала свои, сжатые в сроках, условия. Эдвард быстро выкурил сигарету, и, выпуская дым через нос, продолжал осматривать, — как он рассчитывал, — новый дом Кельнеров. Да, он так и сделает: вернется в отель, и они с Эл поедут оформлять покупку. Затем — к Кайле. А потом он отгонит «Хорьх» в мастерскую.
Забросив окурок в выгоревшую урну, Эдвард сел в автомобиль, торопясь вернуться в отель. Утренний Берлин, еще сонный, полупустой и неповоротливый, равнодушно следил за тем, как дребезжащий на повторах черный «Хорьх», вынырнув из Груневальда, суетливо едет в сторону маленького отеля на самой окраине города.
Еще немного понаблюдав за тем, как Кельнер, выбравшись из машины, широким шагом идет к крыльцу и забегает в невысокое здание с вывеской, Берлин отвернулся от него, занявшись солнцем и скорым, хмурым и морозным, рассветом.
Когда Харри вернулся в гостиничный номер, Агна стояла у зеркала, расчесывая короткие, в мягких волнах, темно-рыжие волосы. Заметив Кельнера, она повернулась к двери, молча и тревожно рассматривая его лицо.
— Что случилось?
— Едем к Кайле, — шепнул он, подходя к Агне, и целуя ее в щеку.
Она внимательно посмотрела на него, отмечая про себя пару небольших шрамов и неровно срезанную щетину, оставшиеся на его лице после бритья, и вспомнила, как по утрам, когда Харри Кельнер лежал в больнице, она брила его сама, осторожно и медленно, стараясь не порезать кожу. Проведя пальцами по щеке Харри, Агна с тихой улыбкой сказала:
— Я могла бы побрить тебя. Я научилась, пока ты был в больнице.
Кельнер промолчал, накрыл руку Агны своей, и отвел ее в сторону, не глядя на жену.
— Скорее, нет времени, — напомнил он.
Девушка нахмурилась, обожженная одной догадкой, мелькнувшей в мыслях, но, быстро улыбнувшись и отогнав ее от себя, обвела взглядом комнату в поисках сумочки. Сборы, прерываясь лишь шорохом верхней одежды и дробным постукиванием каблуков, — когда фрау Кельнер надевала полусапожки, — прошли в полной тишине. Харри уже повернул круглую дверную ручку, делая шаг вперед, и столкнулся на пороге номера с Герхардом Зофтом.
— Герр Кельнер, доброе утро! Прошу извинить за столь ранний визит, — улыбнувшись, произнес страховой агент. — Фрау, — мужчина наклонил голову, касаясь рукой в темно-коричневой, кожаной перчатке, едва загнутого, замшевого борта шляпы.
Агна отступила назад, и образовавшаяся в дверях вереница из трех людей, молча и скомкано вернулась в номер.
— Похоже, я вам помешал? — Зофт по очереди вгляделся в лица Харри и Агны. — Ну же, не стоит так беспокоиться! Я принес вам хорошие вести, и вот, кстати, — он вытащил из кармана пальто ключ, — ключ от вашей новой машины.
— Машины? — Харри удивленно посмотрел на Зофта.
— Временной, конечно! Потому что ваш некогда славный, блестящий «Хорьх», — с этими словами Зофт подошел к окну, и остановил взгляд на автомобиле, о котором шла речь, — сейчас, увы, совсем разбит. Но не можете же вы постоянно сидеть здесь, в самом деле! Да и на трамвае далеко не уедешь, не так ли?
Зофт оглянулся на Кельнеров, с любопытством ожидая ответа.
— Благодарю, — неторопливо отозвался Харри. — Я и не думал, что нам может быть предоставлен во временное пользование автомобиль.
— Может, может! — Зофт помахал рукой. — Здесь может быть абсолютно все! Ну, так что? Вот ваш ключ. К тому же, вам наверняка хочется побыстрее решить вопрос с жильем?
Кельнер улыбнулся краем губ, показывая замешательство и неловкость.
— Мы очень признательны вам за помощь, но с домом вопрос уже решен.
— Вот как? — Зофт удивленно приподнял светлую бровь и тихо присвистнул. — Значит, я не напрасно сделал визит в банк, распорядившись при вашем обращении к ним выдать вам необходимую денежную сумму и всячески способствовать оформлению нужных документов. Похоже, что вы, герр Кельнер, любите скорость? Ну, да!
Зофт ткнул указательным пальцем в старую, разбежавшуюся тонкой паутиной по потолку гостиничного номера, треснувшую известку.
— Это же вы тогда избили Хайде! Конечно, я вспомнил! Значит, вы действительно любите риск. И скорость. Все так, как мне о вас говорили.
Страховой агент довольно рассмеялся, и внезапно замолчал, врезая взгляд в Кельнера, который, ответив ему молчаливым непониманием, после небольшой паузы кратко сказал вслух:
— Думаю, на нашем счете достаточно денег для покупки дома, герр Зофт, и нам не придется обращаться в банк за согласованным вами займе. Но, — Харри посмотрел на Зофта, — спасибо за помощь. Что же касается Хайде, то это был боксерский поединок. Не думаю, что он имеет отношение к настоящему риску.
Зофт ухмыльнулся, искоса посматривая на Харри, и отвел взгляд за маленькое гостиничное окно. Причмокнув губами, он оглянулся на Агну, которая, слушая их диалог, и виду не подала, что он ее удивляет. Коротко улыбнувшись, она подошла к мужу, и остановилась рядом с ним.
— Благодарим вас за помощь, герр Зофт.
— Мы как раз хотели еще раз осмотреть дом перед покупкой, а потом отогнать «Хорьх» в ремонт, — добавил Кельнер, и посмотрел на дверь.
— Значит, я успел вовремя, и вам пригодится машина, — заметил Зофт.
— Да, пожалуй, — согласился Кельнер. — Мы воспользуемся вашим предложением, а «Хорьх» я отдам в ремонт позже. Сейчас нужно заняться домом.
— Ну, вот и славно! — согласился гость. — И я тоже уверен, что у вас хватит денег для покупки нового дома. К тому же, страховые выплаты покроют ваши вынужденные издержки. Но если вам понадобится помощь с оформлением документов при покупке недвижимости, я к вашим услугам. Поздравляю с новым домом, фрау Кельнер. Женщинам всегда так важно иметь свое собственное, неприступное жилище!
— Спасибо, герр Зофт, это правда, — согласилась Агна, беря Харри за руку.
Проследив за ее движением, Зофт улыбнулся, задерживая взгляд на соединенных руках Агны и Харри, и поднеся кулак к губам, прочистил горло коротким, резким выдохом.
— Не смею вас задерживать. Мой номер телефона у вас есть, бумаги о понесенном вами ущербе от берлинского еврейства, — вы ведь знаете, что многие из них живут в бедных, маленьких и низких, затхлых домиках, — скоро будут готовы. А пока, — Зофт улыбнулся, — пользуйтесь автомобилем, покупайте новый дом в Груневальде, и ни о чем не тревожьтесь, — евреи заплатят за все!
Коснувшись на прощание края шляпы, Зофт шагнул к двери, открыл ее и скрылся.
Выждав несколько минут после ухода страхового агента, Агна не спеша подошла к вешалке, и взяла пальто. Кельнер хмыкнул, вспоминая почти такой же момент во время их остановки в Кале, когда в январе 1933 года они только приступили к заданию, и на черном «Мерседесе», — теперь сожженном мародерами, — выехали в Германию. Они остановились в гостинице, и, не желая быть подслушанными, вышли на прогулку, чтобы поговорить. Тогда Агна, следуя за Харри, вышла из номера. Задержавшись у скульптуры Родена, и делая вид, что внимательно разглядывают ее, — хотя много ли можно было заметить в ранней зимней темноте, спустившейся на маленький французский городок напополам с пушистым снегом, мягко летевшим с неба на землю? — они пытались понять, что ждет их в Берлине. Сейчас, пять лет спустя, те дни, оставшись только в их памяти, казались совершенно далекими.
И сейчас Харри, следуя примеру Агны, накинул пальто, чтобы выйти на улицу, и спокойно обсудить то, что им следует делать дальше.
— Ехать к Кайле опасно, — прошептала Эл, как только они прошли по заснеженной аллее подальше от неприметного отеля.
— Сейчас нельзя, — согласился Милн. — Зофт может следить за нами. Сам или приставив кого-то. Мы поедем к ним, позже.
Прошептав это, он вздохнул. Сколько раз он уже говорил это? Сколько раз они откладывали поиски Кайлы? Поправив волосы Эл, сбитые ветром, Эдвард посмотрел на нее.
— Сейчас мы поедем туда, где нас тоже могут ждать.
— Смотреть новый дом?
— Именно.
— А он существует? Или ты его придумал? — с улыбкой уточнила Эл.
— Он существует, и нужно, чтобы именно этот дом стал новым домом Агны и Харри, — серьезно ответил Эдвард.
— Хорошо.
* * *
— Это он?
Агна остановилась перед двухэтажным домом на окраине Груневальда, за которым начинался густой, — правда, к этому времени года, уже давно облетевший, — лес. Милн кивнул, едва заметно поворачивая голову вправо, и уводя взгляд на балкон второго этажа. Сжав локоть Агны, он провел ее на два шага вперед, и, наклонившись, прошептал:
— Нас ведут.
Фрау Кельнер повернулась к мужу, и улыбнулась, обращая все свое внимание только на него, и совершенно игнорируя ту точку, с которой за ними вели наблюдение.
— Извини, что не предупредил тебя. О доме.
— Все в порядке. Я знаю, — Агна торопливо перебила Харри, — мне надо было самой скорее найти новый дом, но я не успела. Я…
Она замолчала, с силой сжимая ладонь Кельнера, повернулась и порывисто обняла его. Послышалось несколько судорожных, горячих и прерывистых вздохов, а потом девушка затихла, постепенно выравнивая сбитое дыхание.
— Что ты?.. — мягко шепнул Харри, но увидев ее взгляд, сказал серьезно:
— Со мной все в порядке, не бойся.
— Я так испугалась за тебя!
Агна судорожно вздохнула, и провела пальцами по щеке Харри, внимательно вглядываясь в его лицо.
— Все хорошо, — заверил он, отводя глаза, и не чувствуя той убежденности, которая звучала в его голосе.
Уходя от взволнованного взгляда Агны, Харри посмотрел на дом. А она удивленно взглянула на него, но промолчала. Сделав глубокий вдох, и улыбнувшись, фрау Кельнер радостно и громко объявила мужу, что этот дом ей нравится, и она очень надеется, что они успеют его купить прежде других покупателей. А чтобы он остался за ними, она думает, что им нужно поторопиться, и прямо сейчас обратиться в фирму, выставившую этот особняк на продажу.
Так они и сделали. Сидя в офисе строительной фирмы, который располагался в самом центре еще не убранного после погромов Берлина, супруги Кельнер сначала вежливо слушали сотрудника, уверенные в том, что его пышно-приветственная речь, умело переплетенная рекламой услуг, описанием исключительных достоинств приглянувшегося им дома в Груневальд и комплиментами в адрес Агны и Харри, — это, конечно, временно. Но когда протяженность речи перевалила за десятиминутный хронометраж, Харри Кельнер поднял руку и постучал по слегка выпуклому стеклу своих наручных часов. Сотрудник строительной компании, хлопнув себя ладонью по лбу, изобразил всемерное понимание ситуации, и торопливо приступил к оформлению бумаг, подтверждающих куплю-продажу супругами Кельнер двухэтажного дома в Груневальде, по улице Миттер, 16. Необходимые документы были оформлены и переданы владельцам на удивление быстро. А кроме этого, все тот же сотрудник, продолжая испытывать всемерное понимание ситуации, и, вместе с тем, огненное желание помочь выгодным клиентам, заверил Харри и Агну, что они могут переехать в свой новый дом «прямо сегодня».
— Конечно, в свете недавних беспорядков, в настоящий момент мы не можем обещать вам комфортное и полное обустройство дома, но определенное количество самой необходимой мебели в особняке, все-таки, имеется. Кроме этого, мы готовы оказать вам всяческую помощь с последующим благоустройством дома.
Переглянувшись, Кельнеры приняли предложение сотрудника, и, завершив все необходимые формальности, отбыли на расквашенном «Хорьхе» — его вел Харри, — и на «Фольксвагене», оставленном Зофтом, — эта машина досталась Агне, — в направлении автомобильной мастерской.
От того, кто следил за ними, — и старался ехать на Volkswagen Kafer неприметно и еще тише, чем они, — Агна и Харри, следуя негласному уговору, намеренно не отрывались. Да и как они могли? Разве рядовые берлинцы умеют замечать слежку? А даже если умеют, то неужели они могут уйти от нее?
Конечно, нет.
Вот и Кельнеры, следуя ранее условленным между ними маршрутом, не сбрасывали хвост. Между Харри и Агной было почти физически ощутимое напряжение, — небольшое, легкое и куражное, поджигающее кровь. Не глядя друг на друга, они улыбались. И знали, что на губах другого тоже растянулась ироничная улыбка. Агна научилась этому у Харри, а Кельнер всегда был таким. Может быть, именно о такой любви Харри к риску и сказал Зофту тот, с кем он говорил о Кельнере?
Черный «Фольксваген», который шел за ними, по-прежнему старался оставаться вне подозрений, но Агна и Харри, коротко рассматривая его в зеркалах заднего вида, знали, что именно он следит за ними, и не уходили от него потому, что он был нужен им.
Пусть тот, кто сейчас следует за ними, все увидит, все заметит и передаст тому, кто его направил. Это именно то, что им нужно: о них сообщат, что Харри и Агна нашли новый дом в прежнем районе, решили его купить, и даже оформили покупку, а теперь остановились у автомобильной мастерской, чтобы отдать разбитый «Хорьх» в ремонт.
Мастер, встретивший поздних клиентов у входа в ремонтную мастерскую, с придирчивой завистью пробежался по лицам и одежде Кельнеров, и, присвистнул, увидев, в каком состоянии находится дорогая машина, которую блондин, — рыжая девчонка молча стояла рядом с ним, и думала о чем-то своем, ни на чем не задерживая взгляд быстро скользящих вокруг темно-зеленых глаз, — просил его отремонтировать. Олаф медленно рассматривал этих двоих, чтобы прикинуть наверняка, сколько он может с них получить. Но когда дело дошло до «Хорьха», пыл Олафа поостыл. Прежде всего, потому, что при взгляде на автомобиль его прошиб натуральный страх. Олаф испугался. «Хорьх» мог купить далеко не каждый, — он не был гораздо более доступным по цене «Фольксвагеном», — наподобие того, что притаился сейчас за поворотом здания, в котором находилась мастерская. А если так, то кто так намеренно и прицельно разбил дорогой автомобиль? Почти все стекла выбиты, салон, с гуляющим внутри ветром, занесен снегом и уличной пылью.
«Что случилось?» — едва не спросил Олаф, но вовремя остановился. На мародеров эти двое походили мало, а даже если так, то какое ему дело? Недавние беспорядки, бушевавшие в городе, уже стихли. Может быть, этот «Хорьх» и связан с ними, а может быть, и нет. В любом случае, не станет же он вести себя как последний дурак, и упускать возможность? «Не глупи, Ол!» — одернул Олаф самого себя, и растянул щербатый рот в самой приветливой из доступных ему улыбок, которая стала еще шире, стоило ему услышать слова блондина о том, что ремонт «срочный».
— Срочность — это дополнительные расходы, — с удовольствием сообщил Олаф .
«Ну конечно, а как иначе?» — довольно подумал Ол про себя, беря на заметку для своего возможного будущего визита в гестапо, — сейчас все следовало предусмотреть, — внешность блондина и рыжей, и тот бесспорно любопытный факт, что блондин с заметным трудом двигал левой рукой. «Кто же тебя так, а?» — задался Олаф новым вопросом, но, понятное дело, ничего больше о том, что случилось с Харри Кельнером, не узнал. Но все же, на всякий случай, — будучи на неплохом счету среди осведомителей тайной полиции, который нужно было поддерживать на должном уровне для того, что с тобой ничего не случилось, — Ол сказал самому себе, что он сегодня же позвонит в дом номер восемь по улице принца Альбрехта: расскажет, для профилактики, о любопытных посетителях, и заодно напомнит о том, что он-то давно и верно служит Германии.
Когда новые клиенты, которым он пообещал всего в два дня уложиться с ремонтом «Хорьха», — и не забыл за эту срочность взять с них дополнительную сумму, — ушли, Ол, отбросив в сторону маслянистую тряпку с жирными разводами, которой он вытирал руки, поспешил к черному телефону, висевшему на стене мастерской. Толстые пальцы Олафа, путаясь в нужных ему отверстиях диска, накрутили нужный номер только с четвертого раза. И в большое ухо Ола, после короткой паузы, потянулись долгие, протяжные гудки. Три-четыре-пять-ше… а, к черту!
Не хотят принимать, не надо! Олаф уже хотел со всей накипевшей в его душе досадой зарядить трубкой по телефонному аппарату, как на том конце, пробившись сквозь механические помехи, зазвучал голос.
— Слушаю!
Ол довольно улыбнулся, еще несколько секунд довольно поскалился в сумерках, все плотнее обступающих мастерскую со всех сторон, и сообщил о новеньких. Он честно описал все, как есть: внешность, примерный рост и возраст, и другие детали, которые ему показались важными. Не забыл Олаф и о том, что к его мастерской они приехали на двух автомобилях: блондин привел разбитый «Хорьх», который Олафу теперь предстояло отремонтировать, а рыжая была за рулем черного «жука». Причем, точно такого же, какой следил за ними из-за поворота, ведущего к мастерской. «Случайно ли это?» — подумал Олаф, но почему-то не решился задать этот вопрос тому, на другом конце провода. «Они не терпят вопросов и своеволия» — напомнил себе Ол, и промолчал, сглатывая ненужный вопрос. Голос на том конце выслушал его, сказал что-то неразборчиво и бормочуще, — к тому же, наполовину съеденное шумом в трубке, — и из всего этого бедлама Олаф разобрал только «…принято». Затем голос отключился, оставляя его наедине с тихим потрескиванием телефонной линии. Ол опустил трубку на рычаг, посмотрел на карточку с телефонным номером, по которому только что звонил, и убрал ее в нагрудный карман рабочей куртки. До следующего звонка.
* * *
Дернувшись, следующий за Кельнерами «Фольксваген» заглох прямо перед входом в отель, в котором они остановились. Харри заглушил машину Зофта и скользнул веселым взглядом по зеркалу заднего вида, делая вид, что рассеянно осматривается по сторонам. Наблюдавший за ними, понимая, как глупо он только что обнаружил себя, попытался быстро сгладить неловкость, и неуклюже ткнулся обратно в проулок, но резко остановился, не зная, что ему делать дальше: Кельнеры вернулись к отелю, и здесь ему следовало незаметно прекратить слежку, но они увидели его, а он не знал, как ему поступить в этом случае. Потому что подобного случая, по его расчетам, возникнуть не могло. Но вот же, так и есть: оба, и Харри, и Агна, остались в машине, и, не выходя из нее, следили за обнаружившим себя незадачливым «хвостом».
Которому не осталось ничего иного, как снова завести автомобиль, и со всей возможной убедительностью поехать мимо, делая вид, что он уезжает по своим делам, и никакие Кельнеры его не интересуют. Проводив взглядом удаляющийся автомобиль, Агна посмотрела на Харри. Он ответил ей ухмылкой, и отвел взгляд в сторону, вызывая ее из машины.
Когда скучно гуляющие супруги Кельнер отошли на достаточное расстояние от отеля, Эдвард шепнул, проведя кончиком указательного пальца по милому, курносому носу Эл, что через час они поедут к Кайле и Дану: ждать больше нельзя.
— Надо воспользоваться моментом, пока за нами никто не следит.
Эл с сомнением улыбнулась, предвкушая увлекательное путешествие на трамвае по Берлину.
Немного отдохнув и переодевшись, Кельнеры вышли из отеля, и направились к трамвайной остановке. Эл не спрашивала, почему они не воспользуются машиной, — и без того было ясно, что Зофт, который до встречи с ними был прекрасно осведомлен о жизни Харри и Агны Кельнер, теперь, по щедрости своей выделив им во временное пользование автомобиль, тем более будет следить за ними. Сам или приставит кого-то, — как сегодня утром, — значения не имело: ни у Эдварда, ни у Элис не было ни малейшего желания проверять, кто именно станет за ними следовать. Поэтому машину Зофта они решили использовать только для «официальных» выездов Агны и Харри. Тех, о которых как-нибудь может спросить сам «страховой агент» или кто-то другой. Для тех выездов, что можно предъявить быстро, незатейливо и легко, — как визитную карточку. И конечно, поездка к Кайле и Дану, в один из окраинно-бедных районов «столицы мира» в число подобных выездов не входила.
Агна и Харри зашли в салон звенящего улицей и холодом трамвая последними. Спокойно и равнодушно, — похожие этим выражением своих лиц на многих и многих других берлинцев, — они оглянулись по сторонам, и, не сговариваясь, ушли на заднюю площадку трамвая, прячась у холодного окна.
Агна оплатила проезд и с легкой улыбкой огляделась по сторонам. Ответом ей стал злой взгляд одной из женщин.
Улыбка фрау Кельнер сползла с лица, — Агна вдруг остро почувствовала себя и свою улыбку здесь, в разбитом, трясущемся трамвае, неуместной. Ей даже показалось, что несколько взглядов, — злых на нее именно из-за напускного веселья и легкости, — с презрением прошлись по ней. Девушка отвела взгляд в сторону, и начала сначала, — рассматривая людей и их лица в тусклом освещении трамвая.
Первым, что отметила Агна, было то, что они, Кельнеры, похоже, были единственной парой. Все остальные пассажиры ехали уединенно, сами по себе, бросая за окно растерянные, отрешенные, удивленные или радостные взгляды. Да, она отмечала и эту радость, — и следующую за ней улыбку, — на лицах берлинцев уже в первые дни после погромов. Многие, неспешно проходя по центральным улицам города, останавливались, занимая развалистую, развязную позу, и неторопливо, с улыбкой на губах, рассматривали разрушенные магазины и дома евреев. Казалось, что произошедшее их совсем не пугает, — ведь сам доктор Гиббельс, захлебываясь оглушающей слух и разум пропагандой, спешил пояснить им суть случившегося в эти дни.
Это все евреи.
Одни евреи.
Это они устроили бесчинства, беспорядки и погромы. Как Гершель Гриншпан, польский еврей, по своей прихоти, из провокации, застрелил дипломата, так и его грязные соплеменники, продолжая черное дело, устроили беспорядки по всей Германии и недавно возвращенным к родным истокам Австрии и Чехословакии. Только евреи виноваты во всем! И больше терпеть подобное Германия не в силах! Вы только посмотрите на все это варварство! И мало, мало им для возмещения миллиарда марок, когда от их действий страдает сама великая Германия! Так что, какой у Германии выбор? Мало ли она вытерпела от этих свиней? Их необходимо выселить, от них необходимо избавиться. Именно так, — расчистить пространство. Но прежде пусть они возместят хотя бы малую часть материального ущерба, который получила от их рук великая страна.
Поэтому не было ничего удивительного в том, что находились те, — и их было много, — кто улыбался, глядя на разбитые магазины и дома.
Им сказали, что евреи платят.
Они за все заплатят.
Сочувствие к ним, — оставшимся в Германии и теперь вынуждаемым немецким правительством к отъезду, заключенным в исправительных, — «только лишь воспитательных», как уверяли Гиббельс и Гиллер, — лагерях, или убитым в ходе беспорядков, раз и навсегда неуместно.
Агна обвела пассажиров как можно более спокойным, безразличным взглядом, и посмотрела на сосредоточенного Кельнера. Он тоже, как и она, наблюдал. И судя по выражению лица, в котором переплелись усталость и пустота, увиденное его совсем не радовало. Но вот трамвай вздрогнул, дернулся и затих, с протяжным скрипом открывая перед желающими покинуть его высокие двери. Спустившись по ступеням, Кельнеры сошли на тротуар заснеженной остановки, и, не оглядываясь, зашагали нужным маршрутом, к дому семьи Кац.
Некоторое время они шли рядом, осторожно обходя завалы зданий, еще оставшиеся неразобранными после беспорядков. Вечер густел, наваливаясь на них темнотой прямо с высокого, совсем недавно светлого неба. От уверенного настроя Эл не осталось и следа. Здесь, среди разнесенных погромами домов и остова синагоги, чернеющих в остатках темно-синих, уже чернильных сумерках, казалось, что страх и тревога разлиты в самом воздухе. В этом бедном районе, всего несколько дней назад еще застроенном одноэтажными, бедными домиками, зевающих прохожих, с любопытством и ленью оглядывающих разбитые здания и выброшенные на тротуары вещи вперемешку с едой, не было.
Но здесь были те, кто прятался и боялся, и те, кому удалось, вопреки намерениям нацистов, уцелеть в погромах. Погруженная в свои мрачные мысли, Элис шла, не разбирая дороги. И очнулась только тогда, когда под ее новым шагом что-то хрустнуло и звякнуло. Вздрогнув, она отскочила в сторону, и нагнулась над темной землей. И почувствовала, как Эдвард уводит ее вправо, от того, что она хотела рассмотреть, рассветить фонариком, как назло запутавшимся в подкладке кармана.
— Нужно идти, — сухо сказал Милн, поддерживая Эл под руку, и добавил сорвавшимся в хрип шепотом, — не смотри.
Элис подняла на него взволнованный взгляд, не понимая, что он имеет ввиду, но уже зная, чувствуя, — при взгляде в его лицо, — что там, на земле, — что-то страшное, взрезающее память раз и навсегда. Эл отступила в сторону, следуя за движением Милна, и — поняла, что именно она увидела: это была женская рука, присыпанная землей, мягкой и рыхлой от взрыва, раскрытая ладонью к небу, и — звон детской, круглой погремушки, на которую она наступила. Сглотнув, Эл закрыла глаза и остановилась, сжимая рукой горло. Несколько тяжелых вздохов, — и дурнота, пусть и с трудом, откатилась назад. А Эдвард? Его лицо замкнуто, отрешено, отрезано от происходящего проступившей в чертах пустотой. И именно от этого Эл становится по-настоящему страшно. Она крепко сжимает его руку, и обнимает Милна, но он отстраняется, говоря, что им нужно спешить. Он вдруг уходит от нее и идет дальше, обходя и перешагивая развалы, и ни на чем не задерживая взгляд.
Дом Кайлы и Дану, — вернее, то место, где он был, — встречает их звенящей пустотой. Его, как и всех соседних ему домиков и зданий, больше нет. Есть только деревянный, разбитый, разворованный, а затем сожженный скелет дома: обломки, обугленные окатыши бревен, зализанные огнем до черноты, — он выглядит точно так же, как и сотни других, близких к нему или дальних домов, — в Берлине, на окраине Мюнхена или бывшей Вены, изуродованной аншлюсом и новым именем «Остмарк».
Молчаливая от увиденного, Эл остановилась на небольшом пустыре, который раньше был двором дома Кайлы и Дану. Да, вот, — тот угол их дома… Слова и фразы какими-то обрывками проносятся в памяти Элис. Она никак не может собраться, и потому продолжает стоять на разоренной, забросанной одеждой и вещами, земле. «Мы хотели найти Кайлу…» — растерянно думает Эл, и едва не спрашивает Эдварда вслух: что же им теперь делать?
Но вряд ли Милн это знает. Он растерян не меньше Элис. Хотя по нему этого совсем не скажешь: перешагивая через битое стекло, разорванную женскую одежду, битую посуду и обломки вырванных межкомнатных дверей, он обходит пустырь причудливой тропой, то и дело останавливаясь над разнесенными в разные стороны вещами.
В густой темноте, рассеянной лишь узким и длинным лучом его карманного фонарика, пустырь выглядит особенно жутко, — до озноба, окатывающего волной все тело разом. Эдвард все видит, все фиксирует быстрым взглядом, находится здесь, внутри всего этого мрака, смотрит на следы погромов, но, как и раньше, не понимает, — как это возможно?
Глупые вопросы, подобные этому, падают на Милна друг за другом, выбивая из него всякое понимание происходящего, и его прежние мнения о человеке и человеческой морали. Они, эти «устаревшие ценности», тоже звучат в его мыслях незаконченным рефреном, отдельными словами, досказывать которые нет никакого смысла: он и без законченных фраз знает, о чем они. И о чем бы они ни были, он с ужасом, зияющим пустотой, знает, что на эти старые вопросы в новых, окруживших его обстоятельствах, которые раньше казались совершенно невероятным и немыслимым, у него нет ответа.
И он тоже не понимает, что им делать.
Милн завершает свой странный обход, похожий на шаткую прогулку канатоходца, в той же точке, с которой начал, — останавливаясь рядом с Эл. Она смотрит на него то пристально, то отводя растерянный, ошеломленный взгляд в сторону. Он знает, чего она ждет: что вот сейчас Эдвард найдет нужные слова, а вслед за ними — выход. Он снова, как всегда, все разложит по полочкам, свяжет детали в единую цепь, и проговорит верное решение вслух. Они обязательно все сделают, и… «все будет хорошо»?
Элис смотрит на Эдварда, он смотрит на нее, и на перекрестке их блестящих, горьких взглядов ясно только одно: никто из них не знает, что делать дальше.
«Не смотри».
Так сказал Эдвард, когда Эл склонилась над холодной землей, пытаясь понять, что именно она видит. Она и сейчас хорошо помнила, как прозвучал его голос, — поздно и далеко, разлетевшись в густой темноте шепотом и эхо. Но Эл успела заметить: детская погремушка, женская рука.
Она вздрогнула, зажимая рот рукой, но не издала ни звука. Только отскочила в сторону, испугавшись, что может… — глаза Эл наполнились слезами при этом воспоминании, — может… стоять на теле этой женщины. Элисон все помнила, очень четко. Вот она отскочила в сторону и снова наклонилась, чтобы увидеть лежащую на земле женщину, но Эдвард остановил ее, — успел перехватить дрожащую руку Эл, вытянутую вниз.
— Не надо, Агна. Ты не поможешь.
Слова, сказанные дробным, глухим шепотом, краткими облаками вылетели из его губ, и ушли в сторону. Продолжая смотреть вниз, Агна Кельнер покачала головой, и перевела невидящий взгляд на Харри. Все вокруг остановилось. И лицо ее, искаженное ужасом, стало страшным от нового, — снова такого близкого, — столкновения с убийством и смертью. «Может быть, — беспокойно думала Эл сейчас, как будто она могла точно знать, как выглядела в тот момент или могла видеть себя, — мое лицо было таким же, когда Эдвард выстрелил в Биттриха, а я — в Стива?». Как сказал Зофт? Темные, с мягким изломом на вершине, брови Эл приподнялись, сближаясь на переносице. «Здесь может быть абсолютно все!».
Полные губы девушки потянулись в стороны в невеселой улыбке. Может быть, именно этот случай возле дома Кайлы и Дану запустил для Эл те сны, которые теперь почти не оставляли ее? Словно Биттрих и Стив только и ждали ее первой, беспокойной мысли о них: они теперь часто являлись ей. Во снах — ночью, и призрачными, бледными видениями — днем. В них Биттрих снова вел Агну Кельнер за собой, — прочь из дома Гиббельса. А потом, столкнувшись с Харри, безумно хохотал, скалился на Агну кровавым ртом, падал на землю от пули Кельнера, и умирал. До следующего своего прихода.
А Стив?
Эл тяжело вздохнула, медленно, кончиками тонких пальцев, поворачивая на деревянном подлокотнике кресла, — пока единственной мебели в новой, пустой гостиной Кельнеров, — чашку с остывшим кофе. И устало закрыла глаза.
Стив.
Как и Биттрих, он хотел увести ее с собой. Вокруг него и Эл была кромешная, синяя от собственной плотности, тьма. Брат смеялся и тащил за собой Элис, схватив ее за руку, а потом круто разворачивался, оглядывал ее сальным взглядом, и повторял всегда одно и то же:
— Вы, разведчики, такие глупые! Неужели вы думаете, что у вас что-то получится? Вас скоро откроют. А когда откроют — убьют. Вы никому не успеете помочь! Вы ничего, ничего не можете!
Каждый раз Эл вздрагивала от этих слов, и, — сначала тревожно, а теперь, по прошествии нескольких дней, только зло, — оглядывалась по сторонам, словно хотела найти брата, и высказать ему все, что она о нем думает. Но Эшби был бесплотен. Он лишь казался ей во снах или при свете дня, не забывая с улыбкой напомнить, что это она, и только она, — его родная, кровная, сестра, и никто иной, — убила его.
— Как ты могла, Элисон? Как ты могла? Это мучает тебя?
Резко вскинув голову, Эл посмотрела туда, где сейчас ей казался Эшби, но к тому моменту, когда она подняла на него измученные, ярко-зеленые глаза, он уже успел спрятаться, — и теперь в пустой гостиной Эл слышала только его долгий и тихий смех, наполненный удовольствием от того, что он, Стив, прав: сколько бы раз Эл не запрещала себе думать о его смерти, и сколько бы она не убеждалась, что и сейчас сделала бы тот же
выбор, факт того, что она убила родного брата, изматывал ее нервы и сознание бесконечным сознанием вины.
Эл повернула чашку на полкруга, и посмотрела в окно, на близкий, — пока еще весь в багряных цветах восходящего солнца, новый день. Ее пальцы коснулись небольшого шрама на левом виске, оставленного пулей Стива, и снова легли на золотой ободок белой чашки. Она мысленно вернулась к тому, что тревожило ее гораздо больше, чем все эти дурные сны и ухмылки мертвецов. Стив повторял ей: «Вы никому не успеете помочь! Вы ничего, ничего не можете!». Насколько он был прав? Или насколько он может быть прав? Ведь тогда, оказавшись на месте, где до погромов был дом Кайлы и Дану, они ничего и никого не нашли. «И ничего не смогли…» — устало подумала Элис.
Погромы, устроенные нацистами, стерли с земли маленький дом, в котором жили Кайла и Дану Кац. Медленно избродив обугленные развалы ближайших домов, Агна и Харри Кельнер вернулись к тому месту, где от дома Кайлы остался обгоревший, зализанный до блеска, черный, деревянный остов: никаких следов семьи Кац, только остатки разбросанных вещей, оставленных под холодным ветром. Снова обойдя развалы, Кельнеры сошлись в одной точке, и растерянно посмотрели друг на друга. И отвели взгляды в стороны, потому что говорить стало нечего, — все окружающее их было больше и красноречивее всякого, даже самого верного, слова. Тогда Эл подняла взгляд в высокое, бурое небо, неровно-темное от наступающего рассвета, и, раскрыв пересохшие губы, тихо произнесла:
— Мариус.
Милн кивнул, внимательно глядя в лицо Эл, чтобы убедиться, что с ней все в порядке, — насколько это было возможно, — и, не отыскав в ее сухом, сосредоточенном взгляде ни единой слезы, — были только блеск и злость, — положил руку ей на спину, уводя вперед, и одновременно с ней, — шаг в шаг, — возвращаясь к машине.
Элис отпила холодный кофе и поморщилась. Ее глаза, следуя за быстрыми, резкими мыслями о прошлой ночи, смотрели в пространство невидящим, задумчивым взглядом, перебегая от одной мысли — к другой, как если бы она сосредоточенно читала важный документ, или напряженно следила за нотами на белом листе во время собственного музыкального выступления. Она вспомнила тот район, где, как предполагала, жил Мариус и его мама: глухой двор, заставленный старыми, ветхими зданиями, — в почти невероятном соседстве с помпезным домом мод фрау Гиббельс, где работала Агна Кельнер. Плечи девушки поднялись и опустились на вдохе. Там Кельнеры тоже ничего не нашли. Кроме того, что уже видели на пустыре, где был дом Кайлы: разрушенные, разграбленные дома людей. И ни одного человека.
«Ни одного живого человека…» — с холодеющим от этой мысли сердцем, поправила себя Эл. Она уже почти спустила ноги на паркетный пол, как застыла в движении, — от самой важной мысли.
«Как я забыла?! — фраза взволнованно запрыгала перед ней, перечеркивая всю прежнюю тревогу, и запуская по телу горячую, радостную волну.
Эд оставил Кайле и Дану сообщение! Теперь там, на стене их дома, уцелевшей в пожаре, под крючьями свастики, нанесенной кем-то, написаны четыре цифры — 2120: тот номер телефона, что был отпечатан на оборотной стороне двух карточек, которые Харри Кельнер одним солнечным утром сентября оставил Кайле, — в надежде, что этот телефонный номер убережет ее и Дану от уличных эсесовцев.
Ни Кайла, ни ее муж ни разу не воспользовались этим номером. Но они помнят его. Должны помнить! «Иначе нам придется придумать иной способ связи с ними», — подумала Эл. Мысль о том, что Кайла и Дану погибли в погромах Элис к себе не подпускала.
* * *
Милн спустился на первый этаж, прошел мимо гостиной, и боковым зрением зацепился за неподвижную фигуру Элис. Она сидела в кресле, подогнув ноги. Бледное, взволнованное лицо и строгий, тревожный взгляд. Правая рука Эл, застывшая на кромке белой чашки, не двигалась.
— Уже не спишь?
Он пошел к ней, слушая, как в пустоте нового дома громким, смешным, шлепающим, эхо раздаются его шаги. Остановившись, Эдвард посмотрел на девушку сверху вниз: на темные, с золотыми и алыми искрами, рыжие волосы, на кончик курносого носа, усыпанный веснушками и край полных губ. Милн присел на подлокотник кресла, улыбнулся, глядя на нее и, понаблюдав за Эл еще несколько секунд, шепнул, чтобы не испугать:
— Доброе утро, фрау Кельнер.
Несмотря на шепот, Эл все равно вздрогнула, и удивленно посмотрела на Эдварда.
— Ты уже проснулся?
Она произнесла слова быстро, и перевела задумчивый взгляд на стену. И только сейчас вспомнила, что больших часов с круглым маятником, — густого, золотого цвета, темного на окраинах тяжелого круга, которые ей так нравились, — больше нет. Прежнего дома Кельнеров больше нет. Но есть новый дом, и в нем — новые, белые стены. Элис растерянно посмотрела на Милна, словно удивилась, что она здесь, а не там, где только что была в своих мыслях, и немного улыбнулась. Ей нужно переодеться, — сменить белый, длинный шелковый халат на выбранное прошлым вечером платье, уложить волосы и успеть к началу рабочего дня в дом мод фрау Гиббельс, но сначала следует проверить повязку Эда.
— Доброе… Надо сменить твою повязку.
Эл поднялась из кресла и посмотрела на камин, на верхней полке которого лежала аптечка — самое первое и необходимое, что она достала из багажа, перевезенного Кельнерами в этот дом с эхо, пока только пустой и неуютный.
— Не надо.
Эд покачал головой, обнял Эл за талию, и надолго замолчал, обняв ее. Она удивленно посмотрела на Милна, отчего-то очень осторожно погладила его светлые волосы, и замерла в его руках, слушая быстрое дыхание Эдварда, постепенно переходящее в глубокое и спокойное, и свой собственный сбитый стук сердца, — такой, словно за ней гнались все призраки с той стороны света.
— Почему? — тихо спросила Элис.
— На перевязку у меня свои планы. Но сначала я отвезу тебя в ателье.
— Вот как? — Элис посмотрела на Милна, задерживая взгляд на его лице.
— Да.
— Хорошо. Я скоро.
Эдвард посмотрел на Эл, ожидая от нее новых вопросов, но она, к его удивлению, ничего не сказала и не спросила, — только вышла из гостиной, и поднялась на второй этаж, чтобы подготовить Агну Кельнер к новому дню в ателье, где одной из основных ее обязанностей по-прежнему был пошив свадебного платья для Ханны Ланг.
Бывшая любовница Кельнера любила приходить в ателье самой первой, и, наблюдая за работой Агны Кельнер над своим платьем, рассказывать, как она говорила, «всякие известные глупости». Все это было не слишком старательным прикрытием: обе женщины прекрасно знали, что больше всего в эти минуты Ханна Ланг наслаждается тем, что во время примерок фрау Кельнер, — и без того невысокая ростом, — была в прямом смысле у ее ног, когда ровняла подол платья и намечала новые стежки. Конечно, это едва ли тянуло на полноценный реванш Ланг, которого она так хотела, но, за невозможностью отравить соперницу разом, — и вынужденная выбирать между смирением и отправлением яда капля за каплей в сознание фрау Кельнер, — Ханна, не раздумывая, выбирала последнее. Именно к этому Элис нужно было снова себя подготовить.
* * *
Харри остановил «Фольксваген» у дома мод. Агне нужно было идти, но она продолжала сидеть в автомобиле, растерянно глядя на измененный погромами город.
Она знала: этот тщательно организованный нацистами кошмар стал для нее невидимым водоразделом. И даже если город будет прежним, и даже когда он станет прежним, она больше не сможет видеть его так, как раньше. Хотя за то время, что нацисты были у власти, поджоги, погромы и разбои происходили постоянно: Эл отчетливо помнила предыдущий большой разгром Берлина, — несколько душных летних дней, которые позже назвали «Ночью длинных ножей», — и даже пылающий огнем Рейхстаг,— ни один из них не оставил в ней того глубокого потрясения и какого-то внутреннего надлома, который она постоянно ощущала сейчас. «А может быть, — думала Элис, — все просто скопилось в моей памяти, и это — общее, от всего?..».
Не доведя мысль до конца, Агна Кельнер продолжала смотреть в боковое зеркало автомобиля, в котором неровной, слегка дрожащей в зеркальных изломах фигурой отражался прохожий, мужчина. Он медленно шел по тротуару, осматриваясь по сторонам трясущейся головой. И Агна, глядя на его суетливые, резкие движения с постоянными оглядываниями, решила, что он что-то потерял. Но вот мужчина, остановившись, оглядел улицу, и, уцепив что-то взглядом, резво, — что совсем не вязалось с его склоненной к земле фигурой, одетой в черное, длинное и грязное от уличной, стаявшей снежной грязи, пальто, — перебежал дорогу, и поднял с земли какую-то цветную тряпку.
Расправив ее на вытянутых, дрожащих руках, он с довольным видом рассмотрел находку, сшитую из цветной ткани, и оказавшуюся, как заметила Агна, женским платьем. Судя по ликующему выражению лица, мужчина был весьма рад тому, что нашел.
Оглядевшись по сторонам, прохожий задрал голову вверх, осмотрел рамы с выбитыми стеклами, и кое-как перелез через высокий порог разбитой витрины магазина, все еще засыпанной стеклянными осколками. Агна думала, что мужчина надолго исчез, но вот он снова появился, должно быть, раздосадованный тем, что все ценное, бывшее в этом магазине, потрудились унести до него. Обтерев о край пальто что-то мелкое, поднятое с земли, мужчина вытянул руку вверх, разглядывая новую находку в лучах раннего солнца. На этот раз в его руке был женский гребешок для волос. Блеснув в солнечном луче разноцветной искрой искусственного камня, он оказался цепко сжат пальцами мужчины.
Агна громко сглотнула: с частых зубьев маленького гребня свисал густой клок волос, с кожей и запекшейся кровью. Почувствовав, как к горлу подкатывает дурнота, девушка отвела взгляд в сторону. Но прежде чем она это сделала, ее глаза успели заметить, как мужчина легко отшвырнул на землю волосы, и, подув на зубья гребня, обтер его о пальто, а потом спрятал в карман. И запел. И маршевая песенка тянулась за ним по пустынной улице громким и долгим эхо, пока он не скрылся за поворотом громадного, неуклюжего дома.
Эдвард обнял Элис за плечи здоровой рукой.
— Агна, так нельзя. Нельзя так мучить себя.
— Не могу перестать думать об этом, понимаешь? Обо всем. Как нам помочь Кайле? Где она, Дану, Мариус? А если они…
Эл заплакала, закрыв лицо руками. И в этом плаче не было ничего от кокетливых слез, какие часто используют женщины в своих целях, — только глубокая боль человеческого сердца, которое больше не может выдерживать. Ни эту боль, ни эту горечь, никогда не проходящие до конца, но только утихающие на время.
— Мы не знаем, что с ними. Но, может быть, они успели спастись. Давай думать об этом, Агна. Иначе нам не справиться. А мы должны. Ты нужна мне. Без тебя мне не справиться.
Эд говорил горячими, отрывистыми фразами, вкладывая в них всю силу убеждения, на какую был способен, и мысленно досадуя на свою, — как он это обозначал для самого себя, — «замороженность», — предел, дальше которого он не мог пройти, как бы ни старался. Предел, который однажды появился в нем как слом, и остался. И мешал ему в нужный момент, — именно такой, как сейчас, — найти и сказать нужные слова. Не посторонние фразы, а те самые слова, которые успокаивают боль в сердце. Как это делается? Эдвард не знал. Или забыл, давно не помнил.
Привыкнув к своей боли, зная, что она — есть, и всегда с ним, он не испытывал нужды в словах для самого себя: все и так было ясно. Но Эл все изменила. Ей нужны были эти утешающие, верные слова. Она не могла обойтись сухой, молчаливой и мысленной констатацией боли и сухих фактов, какими оперировал Милн. Эл нужно было больше. И для Эдварда появился новый, ранее незнакомый ему вопрос, который он не задавал не то, что о других, — среди окружающих его людей, особенно после смерти родителей, по-настоящему близких у него не было, и он привык к этому, как к еще одному факту своей жизни, перестал думать и обращать внимание, что все может быть иначе, — но и самому себе: способен ли он на это большее?
Он давно, — иногда ему казалось, что всегда, — был один, только один. Никто не был близок ему по-настоящему, и никому не был важен он. Это было даже удобно, учитывая задания, разведку, и особый ритм жизни, который она предполагала: если Харри Кельнеру или Себастьяну Трюдо нужно было исчезнуть, то он делал это легко и без труда, не будучи никем связанным, и отвечая лишь за самого себя. Но с появлением Эл все изменилось. Не сразу, незаметно, но точно и — насовсем. И с тех пор, плавно и мягко, от случая к случаю, немногословность и прежние, привычные ему в одиночестве выдержанность, логичность и даже, во многом, некоторая известность действий, которые он предпримет, терпели одну неудачу за другой.
Милн, не привыкший сдаваться, теперь порой впадал в такую громадную, неизвестную ему до того душевную растерянность, что буквально не знал, что ему делать. Это сбивало с толку, лишало его всего, к чему он привык в своем одиноком ритме жизни. Но… сдаться? Не попытаться решить этот вопрос? Такой вариант ему совсем не подходил, — потому что он на него не согласен. И потому Эдвард очень старался сделать все, что в его силах, понять, как «нужно». Как это у других людей? Что они делают в тех случаях, когда самому близкому человеку нужна их поддержка? Они говорят? Хорошо, он тоже будет. Но что именно, какие слова? Смотря на плачущую Эл, он не находил себе места. Сердце горело от волнения и боли за нее, а голова, кажется, совсем не хотела думать, и принцип «холодная голова — горячее сердце», не срабатывал. «Говори, говори еще! Найди слова!» — взнуздывал себя Милн, все больше чувствуя собственную беспомощность, и не зная, как помочь Элис. Но вот она пошевелилась в его руках, крепко обняла, поцеловала в неровно выбритую щеку, и немного улыбнулась сквозь слезы, от которых ее глаза стали невероятно, аквамарино-яркими, и такими пронзительными, что у Эдварда при взгляде в них перехватило дыхание.
— Спасибо.
Эл стерла со щеки Милна след от помады, и хотела что-то сказать, но осеклась, напряженно глядя в окно автомобиля, за которым маячила фигура Ханны Ланг в алом платье. Послышался тяжелый вздох, Агна отодвинулась от Харри, и, бросив взгляд в зеркало заднего вида, из которого на нее посмотрела фрау Кельнер с покрасневшими, блестящими от слез глазами, — поспешила выйти из автомобиля.
— Черт бы тебя побрал… — тихо пробормотал Кельнер, бросая на Ланг мимолетный, едва уловимый взгляд, и выходя из «Фольксвагена».
— Доброе утро, Харри… — начала Ханна, мгновенно меняясь в лице, когда Кельнер, скользнув по ее лицу злым взглядом, ускорил шаг, чтобы догнать Агну. Он остановил ее у входа в ателье.
— Агна!
Девушка оглянулась, и опустила голову вниз, смотря под ноги. Подойдя вплотную к ней, Харри положил руку на ее плечо, и, поймав прячущийся от него, беспокойный взгляд, сказал тихо и твердо:
— Я заеду за тобой вечером, и мы поедем искать Кайлу.
Агна указала взглядом на его раненую руку, безмолвно меняя тему разговора, и задавая тот самый вопрос, ответу на который помешала фройляйн Ланг.
— Вечером, — кратко ответил Кельнер, наклоняясь к Агне для поцелуя.
— Не надо, — смущенно шепнула она, имея ввиду Ханну, не спускавшую с них едкого взгляда. — На нас смотрят.
Губы Милна изогнулись ироничной улыбкой, и, после долгого поцелуя, он шепнул Эл, глядя в ее глаза:
— Я люблю тебя.
Кельнер зашагал к машине, но, оглянувшись, сказал громко, чтобы Агна его слышала:
— До вечера!
Дождавшись, когда она скроется за тяжелой входной дверью ателье, Харри вернулся к машине.
— Какая занятая демонстрация чувств! — прошипела Ханна, преграждая ему путь. — Доброе утро, Харри!
Кельнер обошел Ханну, открыл дверь автомобиля, — она сдвинула Ланг с места, и блондинка вынуждена была отойти в сторону, — снова хлопнул дверью, провернул ключ зажигания, и громко рванул с места, оставляя за собой облако белого дыма.
* * *
— Мне передали, что вы хотели меня видеть?
Доктор Лозен, которого Эл про себя называла «Белый Лунь», — с тех пор, как он спас ее после выкидыша, здесь же, в больнице «Шарите», — зашел в кабинет и удивленно посмотрел на Харри Кельнера.
— Да. Я бы хотел, чтобы вы посмотрели мое плечо.
Блондин кивнул на свою левую руку. Лозен прищурился, рассматривая Харри, и медленно произнес:
— Харри Кельнер, 35 лет, огнестрельное ранение в левое предплечье. Выписан из больнице «Шарите» три дня назад.
Кельнер молча кивнул. Указав на больничную кушетку краем острого подбородка, скрытого редкой белоснежной бородкой, Лозен подошел к небольшой раковине, тщательно вымыл худые, жилистые руки, и вернулся к ожидавшему его пациенту, которому, впрочем, не пришлось ничего объяснять: взглянув на врача, он, следом за пальто, снял пиджак, жилет с прикрепленной к нему изящной, золотой собачкой от карманных часов, белую сорочку, и, глубоко вздохнув, еще больше выпрямил и без того прямую спину.
Лозен медленно натянул на руки белые перчатки, и наклонился к ране на плече Кельнера. Он долго осматривал ее, изредка качая белой головой. Когда пальцы Лозена задели воспаленные края раны, Кельнер нетерпеливо заерзал на кушетке, и врач посмотрел в его сосредоточенное, бледное лицо.
— Не любите такое, да?
Лозен понимающе кивнул, и сочувственно улыбнулся. Глаза Кельнера удивленно посмотрели на него, но прежде, чем он успел задать вопрос вслух, врач кивнул на длинный узкий шрам, перебегающий грудь Харри.
— Дело скверное, герр Кельнер. Но поправимое. Рана плохо, медленно заживает. Края входного отверстия пули выглядят…
Доктор посмотрел на Кельнера.
— Я знаю. Я сам врач.
Седые, широкие брови Лозена ушли вверх по лбу, изрезанному поперечными морщинами.
— Вы — тоже?.. — иронично спросил он, поморщив губы в веселой полуулыбке.
— «Тоже»?
— Ваша… кх… фройляйн, которая приходила к вам в больницу, заявила мне, что она врач, и знает, как именно следует за вами ухаживать, а вот я, напротив, оказываю вам плохое лечение.
Голубые глаза старика весело засверкали.
— Вы могли бы обратиться к ней, а не ко мне.
— Я предпочитаю обращаться к компетентным врачам.
— В таком случае, мои компетенции обязывают меня напомнить вам о покое и отдыхе. Пациенты почти никогда не обращают внимания на подобные рекомендации, отмахиваясь от них, как от сора, но как, скажите мне, может зажить рана от пулевого ранения, если вы не даете себе отдых? Или вы снова хотите попасть сюда? Учтите, вашу знакомую сюда больше не пустят. Ее прошлый визит, да еще и в присутствии страхового агента, наделал среди медсестер столько шума, что их впечатления я слышу до сих пор.
— Я обещаю больше отдыхать, герр Лозен. И прошу извинить за тот визит… — Кельнер понизил голос, — …моей знакомой.
— Не извиняйтесь. Сдается мне, к вам это имеет гораздо меньше отношения, чем кажется, — улыбнулся Лозен, начиная свежую перевязку. — Просто будьте осторожны.
— Иначе ко мне снова придет страховой агент? — с ухмылкой предположил Кельнер.
Лозен перестал улыбаться, бросил на него тревожный взгляд, и плотнее сомкнул бледные губы, склоняясь над плечом Харри еще больше.
Выдержав долгую паузу, он очень тихо, когда от ранее сказанных слов не осталось и следа, сказал:
— Именно поэтому вам следует быть аккуратным.
Кельнер повернулся к доктору всем корпусом, останавливая на его мудром лице пристальный взгляд, смысл которого Лозену пояснять не требовалось.
— Учет вновь поступающих больных ведется особенно тщательно, герр Кельнер, теперь это повсеместная практика. Найдите себе другое занятие кроме ловли пуль, — отстраненно произнес врач, будто обращался он совсем не к Кельнеру. И с горечью, которая показалась в его взгляде всего на мгновение, быстро взглянул на Харри.
— Можете одеваться. Рекомендации мои такие: обильное, теплое питье и отдых. Руку старайтесь излишне не нагружать, но и не забывайте разрабатывать, чтобы вернуть ей полную подвижность.
Харри кивнул и начал одеваться, наблюдая за доктором и обдумывая услышанное. К двери кабинета они подошли одновременно и молча. И также молча, в обход принятых порядков, пожали друг другу руки. Кельнер уже взялся за дверную ручку, когда услышал тихие, быстрые и взволнованные слова Лозена:
— Я хорошо ее помню. Сразу запомнил. Я дежурил в ту ночь. Дневная смена, операции, ночная смена, операции… все, как обычно… А потом принесли ее. Мужчина забежал в больницу с ней на руках, кричал, чтобы мы помогли. Теперь я все чаще думаю, что несмотря на все, что происходит, все-таки есть те, кто не умер сердцем… Меня вызвали, я подумал, что это ее муж. Но когда стало понятно, что у нее выкидыш, и срочно требуется операция, я послал медсестру к нему, чтобы он знал, а она ответила, что этот мужчина давно ушел. А потом появились вы, и я все понял. Сам не знаю, почему я так запомнил ее. У меня больше сорока лет практики, кого я только не видел, но она была такой бледной! А волосы — рыжие, огненные, такие яркие посреди всего белого. И ее глаза. Огромные, внимательные, неотрывно следящие за мной. Я не смог сказать ей, что ее ребенок умер: совсем крохотный, срок маленький… я думаю, она сама все поняла. Она так на меня смотрела, за минуту до начала операции. Она сама мне показалась такой маленькой! А глаза — огромные… Я очень рад, что она выжила… Это ведь была ее первая беременность, правда?
Лозен с горечью, прекрасно зная ответ, посмотрел на Харри.
— Д-да… — почти беззвучно от перехваченного дыхания, прошептал Кельнер.
Старик закивал головой, поправляя безупречный, белый, халат.
— Мне очень жаль. Жаль, что ваша жена не сможет иметь детей.
Резко махнув рукой, Лозен добавил уже громче и тверже:
— До свидания, герр Кельнер.
* * *
Агна забежала в здание ателье и спустилась по винтовой лестнице вниз, в раздевалку. Пробежав ряд однообразных шкафов, она остановилась в самом дальнем углу, у дверцы одного из них, сняла пальто, и, взяв плечики, долго и слишком тщательно расправляла его. Затем, проведя щеткой по волосам, она внимательно рассмотрела и снова поправила укладку. Уголком ватного диска убрала немного растекшуюся черную тушь, подкрасила губы ярко-красной помадой, и улыбнулась себе в зеркале. И хотя улыбка вышла жесткая и совсем не радостная, Агна, кажется, осталась довольна своим отражением. Она уже шла спокойным шагом к лестнице, как вдруг остановилась. Прижав руку к животу, Агна закрыла глаза и сделала глубокий вдох, чувствуя, как внутри медленно стихает нервная судорога.
Нельзя выглядеть расстроенной или печальной. У нее нет на это права. Постояв на месте несколько секунд, девушка услышала близкие шаги, и, приклеив к губам легкую, приветливую улыбку, вышла из своего укрытия, и поднялась наверх, в зал, где должна начаться примерка свадебного платья Ханны Ланг.
— Доброе утро, — Агна прошла по залу, улыбнулась коллегам, и остановилась у круглого подиума. — Фройляйн Ланг.
Зеленые глаза девушки посмотрели на красивое, высокомерное лицо блондинки, которая наблюдала за ней с тех пор, как Агна вошла в демонстрационный зал.
Нарочито медленно отставив в сторону крохотную чашечку с черным кофе, Ханна поднялась из мягкого кресла, и, выверяя каждый шаг, плавно поплыла к подиуму. Впрочем, дело пошло быстрее, когда одна из младших помощниц, осторожно расправив заранее приготовленное платье, проводила Ханну в примерочную. А пока невеста была там, в зале, где осталась Агна и другие девушки, повисла такая тишина, в которой легко угадывалось любопытство и едва сдерживаемое желание узнать подробности прелюбопытной сцены, которую многие из присутствующих наблюдали лично: как на противоположной от ателье стороне улицы остановился черный «Фольксваген», но сначала из него никто не выходил, и скоро вышел, — вернее, выбежала Агна Кельнер — только тогда, когда с водительской стороны к автомобилю подошла фройляйн Ханна Ланг.
Агна одним рывком выбралась из машины, особенно громко, — а, может, так им послышалось в гнетущей тишине утреннего Берлина, — хлопнув дверцей, и почти побежала к дверям модного дома фрау Гиббельс.
Кое-кто из наблюдавших девушек уже выдохнул, когда муж фрау Кельнер побежал за ней и едва успел остановить ее у самых дверей здания, — как раз напротив того окна, за которым столпились любопытные. Так что теперь им все было видно особенно ясно. И как герр Кельнер сначала близко подошел к своей жене и что-то сказал ей, и как, — после того, как улыбнулся, — долго ее целовал. Да так, что у половины наблюдательниц за окном случилось разное: от удивленного или завистливого вздоха до пораженных усмешек.
Затем Агна зашла в ателье, а ее муж вернулся к машине, и уехал, обдав дымом красавицу Ханну, для которой почти все они шили свадебное платье. Здесь девушки потерялись в догадках, не зная, что дальше думать. Домыслов и предположений у них был целый ворох, но хотелось знать наверняка. Что же именно произошло? И что будет теперь, когда Агна Кельнер, несмотря на все случившееся, обязана держать лицо и продолжать шить для фройляйн Ланг свадебный наряд?
Все эти утренние события всецело отвлекли внимание девушек от недавних городских погромов. Хотя вряд ли они думали о них. До тех пор, пока не выходили на улицу, и не сталкивались с тем, что, к своему изумлению, не могут пройти по тротуару, потому что он все еще был занесен битым стеклом и разбросанными вещами каких-то людей. Тогда изумление, сменившись досадой, чаще всего превращалось в злость: ведь приходилось делать лишний круг там, где раньше путь занимал не больше нескольких секунд. Топнув ногой, дамы вынужденно разворачивались, осматривались по сторонам в поисках новых путей, и, недовольно надув губки, следовали новым, невыгодным маршрутом. А потом, встретившись в доме мод после выходного дня, долго и возмущенно обсуждали за чаем вынужденные нововведения, ужасаясь бардаку улиц и даже крови на тротуарах.
Теперь же, получив новую пищу, они гадали о происходящем в семье Агны Кельнер. Что же там случилось? И что именно сказала Ханна Ланг Харри Кельнеру, что он, не задержавшись, уехал сразу после того, как догнал Агну? И как скоро они смогут об этом узнать? Участие бывшей любовницы Кельнера во всей этой истории, конечно, создавало главный пикантный интерес, и потому все девушки, — даже те, кто не был занят пошивом платья для Ханны Ланг, — под тем или иным предлогом хотели оказаться в зале, чтобы своими глазами увидеть дальнейшее развитие интригующих событий.
Ханна вышла из примерочной через тридцать две минуты, — Агна сверила время по наручным часам с маленьким римским циферблатом, прекрасно зная, что примерка платья, даже свадебного, и такого пышного, как в случае Ланг, — не требует такой уймы времени. Но делать было нечего: задача Агны Кельнер сегодня состояла только лишь в присутствии на финальной примерке и устранении возможных недочетов в наряде. Хотя о последнем она совсем не думала, ибо на платье Ланг было потрачено столько сил и времени практически всех без исключения мастериц, работавших в ателье, что ошибки были исключены. Блондинка вернулась в зал, нервно одергивая пышный шлейф платья, и не давая возможности девушке, помогавшей ей, понять и рассмотреть то, что не устраивало будущую фрау Томас.
— Фройляйн Ланг, подождите, пожалуйста! Мне нужно понять, что случилось с платьем! — растерянно говорила девушка, пытаясь догнать Ханну.
Резко остановившись, блондинка дождалась, когда девушка натолкнется на нее, и только после этого, усмехнувшись, развернулась к ней, демонстрируя в обращении с младшей помощницей всю прелесть своих манер.
— Вам не просто «нужно» понять, что не так с этим ужасным платьем, вы должны понять, что с ним не так! Хотя, учитывая вашу неловкость, могу предположить, что толку от этого не будет!
Ханна развернулась к девушке, и, став еще выше за счет высоких каблуков, посмотрела на нее сверху вниз с таким омерзением, что Агна, обещавшая самой себе сдерживаться от какого-либо столкновения с Ланг, крепко сжала руки в кулаки, — надеясь, что это перекроет ее желание вмешаться в происходящее.
— Не смейте меня трогать! Не трогайте! — Ханна ударила девушку по рукам, не давая ей прикоснуться к платью.
— Но фройляйн…
— Кто отвечает за это платье? — спросила Ханна громко, обращаясь ко всем. — Кто?
— Вам известно, что я, — ответила Агна, подходя к Ланг. — На последней примерке вас все устраивало. Скажите, что не так, и мы поправим.
— «Что не так?»… — протянула Ланг, насмешливо оглядываясь по сторонам. — Что не так?! Все не так! Все! Кто позволил вам шить мое платье? Только не ты! — Ханна, теряя самообладание, ткнула указательным пальцем в Агну.
— Ханна, вы сами настояли, чтобы вашим нарядом занималась именно фрау Кельнер, — заметила жена Гиббельса, входя в залу.
— Фрау Кельнер!… — выплюнула Ханна, брезгливо смотря на Агну. — А теперь не хочу, фрау Гиббельс. Хочу, чтобы…
— Давайте успокоимся и сменим тему, Ханна? Вы, наверное, очень взволнованы скорой свадьбой, да и всем этим… — супруга главного коротышки третьего рейха указала за окно. — Кто бы мог подумать, что на нашу долю выпадут такие ужасные испытания! Посмотрите, что они сделали с нашим городом! А у вас впереди такой праздник! А мы теперь вынуждены прекратить сотрудничество с еврейскими поставщиками и магазинами тканей! Это очень жаль, ведь именно у них мы отбирали наши лучшие ткани, но что делать? Обстоятельства времени требуют от нас мужества и жертв! И пусть теперь они прячутся, как крысы, по своим разбитым церквям и подвалам! Зато…
Магда Гиббельс сверкнула ледяными глазами.
— …Теперь у нас будет полная возможность возродить арийскую моду, и показать всему миру, насколько она прекраснее Парижа, забившего собой головы модниц со всего света! У вас, девушки, в ближайшее время даже будет два выходных дня на неделе вместо одного. Чуть позже, когда все решится, и мы вернемся в свой привычный ритм, сбитый беспорядками этих евреев…
Ханна, слушая супругу министра, улыбнулась. Казалось, ее недавняя вспыльчивость ушла.
— Благодарю, фрау Гиббельс. Давайте сменим тему.
— Может быть, расскажем о своих свадьбах? У меня была очень счастливая… — робко начала одна из девушек.
— Не думаю, что это хорошая идея, фрау Зальман, — ответила жена министра пропаганды, смерив ее строгим взглядом.
— А я бы с удовольствием послушала… — заметила Ханна, показывая на полных губах обаятельную улыбку.
Послышался взволнованный шепот девушек, и Ханна, перекрывая их голоса, уточнила:
— …О свадьбе фрау Кельнер.
Все посмотрели на Агну, в полной тишине зала сказавшей только:
— Моей?
— Да, Агна, вашей.
— Не думаю, что это интересно.
— Да не пугайтесь вы так! Просто развлеките нас немного, отвлеките от тяжелых событий настоящего, — подбодрила ее фрау Гиббельс.
Взгляды девушек еще пристальнее обратились к лицу и фигуре Агны. Их желание узнать больше о Кельнерах и Ханне Ланг сбывалось прямо сейчас, и они хотели всех подробностей, какие только могли быть.
— Ну… — хрипло протянула Агна, понимая, что ей не отказаться от этого сомнительного развлечения, —… В моей… в нашей свадьбе не было ничего особенного. 15 февраля 1933 года я и Харри Кельнер расписались в центральной мэрии на Александрплатц.
— Это и правда ужасно скучно, Агна, — произнесла Ханна с улыбкой, наблюдая за ней. — Мы хотим подробностей, моя дорогая. Какое на вас было платье? Как вы познакомились? Почему решили выйти замуж на Харри?
Агна сделала глубокий вдох и чуть улыбнулась, должно быть, вспоминая холодный зимний день пятилетней давности.
— Мое платье было самое простое, фройляйн Ланг: чуть ниже колена, классического кроя… Я и мечтать не могла о таком шлейфе, как у вас.
Голос Агны набирал силу постепенно, и чем дальше она говорила, тем увереннее и глубже, — с оттенками легкой улыбки и иронии, — он становился.
— В тот день мы только приехали в Берлин, на «Мерседесе», повторяющим автомобиль самого фюрера. Прошу простить нас: Харри хотел меня удивить, а мне так нравилась эта модель… Теперь эта машина разбита при нападении, к сожалению. Но тогда… Тогда мы приехали на ней прямо в центр Берлина, и зашли в мэрию.
Агна улыбнулась.
— Церемония заняла всего около десяти минут, и мы вышли на улицу, где столкнулись, к своему удивлению, с самим рейхсмаршалом Гирингом. Узнав, что мы молодожены, он пригласил нас на вечер, и…
«Сам рейхсмаршал Гиринг? Автомобиль как у фюрера? Пригласил на вечер?» — изумленно шелестело вокруг Агны и Ханны, остановившихся напротив друг друга.
Сжав губы, Ланг дернула головой, и задала новый вопрос:
— Так почему вы решили выйти замуж за Харри?
Агна пожала плечом и улыбнулась тихой, влюбленной улыбкой.
— Думаю, вы можете отчасти знать ответ на этот вопрос, фройляйн Ланг.
Ханна вспыхнула.
— Не сочтите за грубость, дорогая Агна, мне просто интересно, как женщине.
Она прищурила ярко-голубые глаза.
— Однажды, при известных обстоятельствах, которые, как вам известно, бывают между мужчиной и женщиной, Харри сказал мне, что не планирует жениться. Вообще. Ни на какой женщине. Но прошло совсем немного времени, и я узнала, — вы же помните нашу первую встречу в кафе Мюнхена? На вас еще тогда была удивительно уродливая одежда: белая блузка, застегнутая под горло и длинная, черная юбка? — что Харри женился. На вас.
Упиваясь созданным эффектом, Ханна сладко продолжила, подходя к Агне:
— Вот поэтому я и не поверила тому, что Харри женат. Тем более на вас. Я ему так и сказала при нашей встрече, обстоятельства которой вам, наверняка, так же, — а, может быть, даже лучше, — известны, чем обстоятельства первой из упомянутых мной встреч. Но сейчас главное, милая Агна, даже не это.
Ханна остановилась за спиной фрау Кельнер, и прошептала театральным, намеренно громким шепотом:
— А то, почему после стольких лет, может быть и правда неплохого брака, вы до сих пор бездетны? Вы бесплодны?
Агна покраснела. От ритма бешено скачущего в груди сердца она плохо помнила, что именно происходило потомю Агна заставила себя помнить только одно: у нее нет права выглядеть расстроенной или печальной. «Нельзя», — повторяла она себе, чувствуя, как из-под острых, врезанных в ладонь ногтей бежит кровь. — «Нельзя».
— Может быть… — с удивлением услышала Агна свой собственный голос, отвечающий на вопросы Ланг, — мне следует сходить к врачу.
— Вы же понимаете, что происходит с теми женами, которые не хотят или не могут, как вы, родить своему мужу здоровых детей, верных фюреру? — продолжала Ханна. — Они…
— Фройляйн Ланг, довольно.
Магда Гиббельс остановила блондинку одним жестом.
— Достаточно вопросов. Девушки ожидают вас на примерку в другой зале. Пройдемте.
* * *
После примерки платья, которая, конечно, не могла быть вечной, и, наконец-то, закончилась, Агна Кельнер под предлогом срочной работы над нарядом Ханны, перешла в самый дальний зал ателье. Какое-то время ее еще отвлекали: девушки, то и дело заглядывая и заходя в кабинет, прикрывались разными рабочими причинами, но потом, может быть, вдоволь обсудив утреннее происшествие, и насладившись растерянностью и молчанием Агны, которая, к удовольствию многих, «оказалась не лучше» их, и была «спущена с небес на землю» Ханной Ланг, оставили ее в покое, и последние часы этого очень долгого рабочего дня Агна провела в одиночестве.
Вечером, поднявшись наверх по все той же винтовой лестнице, Агна, уже готовая к выходу, услышала за своей спиной увлеченный шепот и смех. Сильнее затянув пояс пальто, она подняла голову выше, попрощалась с коллегами так же, как и всегда, и вышла из ателье, — к отремонтированному «Хорьху», в котором ее ждал Харри.
Эл была уверена, что у нее хватит выдержки для того, чтобы вести себя с Эдвардом как обычно, не упоминая о произошедшем в ателье, — говорить об этом ей совсем не хотелось, — но когда он наклонился к ней, она, не ожидая этого от себя, вздрогнула. Эдвард удивленно посмотрел на Элис, а она, кратко улыбнувшись, торопливо сказала:
— Думаю, лучше сначала поехать к Кайле, а потом вернуться сюда для поисков Мариуса. Из ателье не все ушли, нас могут заметить.
— Так мы потеряем время, Агна, — ответил Милн, разглядывая Эл в полутьме автомобиля, замечая и ее волнение, и необычно резкие движения, и тревогу в голосе, и, конечно, то, что она даже не смотрит на него, а когда говорит, то отворачивается к окну, и потому ее голос звучит отдаленно.
— Так не будет лишних вопросов и подозрений, — ответила Элис, и сжала перчатки в руке с такой силой, что костяшки ее пальцев побелели. — …Делай, как хочешь. Тебе лучше знать, — вдруг добавила она уставшим, тихим голосом, разглядывая в окне центральный вход модного дома.
— Что произошло?
Она не ответила, продолжая смотреть на здание.
— Агна?
— Эл?
Элис, все так же не глядя на Милна, отрицательно покачала головой, чувствуя, как по щекам уже бегут первые слезы. Она знала, что если посмотрит на него, то не сможет сдержаться, и все расскажет. А говорить об этом она не могла.
— Пожалуйста, давай просто уедем отсюда.
Эдвард больше ничего не спросил. Проводив строгим взглядом пару черных фигур, шагающих по тротуару, он повернул автомобиль в сторону ближайших домиков, в одном из которых, по предположению Эл, жил Мариус.
Прогулка по ближайшим дворам и попытки найти Мариуса, — или того, кто мог знать, где он живет, и не боялся бы с ними говорить, — ничего не дали. Правильные берлинцы свободно бродили по улицам города, но тех, кто мог что-то знать о жителях этих домов, среди них не было, и быть не могло. Ни Элис, ни Эдвард, раз за разом осматривающие дворы и притихшие улицы, не знали, где еще им искать Мариуса. В этом районе были только ветхие домики, большинство из них теперь разрушены. И если Мариус жив и прячется, то — где?
Устав от бесполезного кружения по одним и тем же дворам, и чувствуя, как усталость, раздражение и голод мешают мыслить трезво, Эл предложила поехать к дому семьи Кац.
— Здесь мы никого не найдем.
— Думаешь, с Кайлой нам повезет больше? — в голосе Милна прозвучала невеселая усмешка.
— Недалеко от их дома была синагога, помнишь? Сегодня в ателье смеялись, что они могут теперь прятаться там.
Эл с трудом сглотнула, чувствуя, как сильно пересохло горло, и с надеждой спросила:
— Проверим?
— Проверим, — кивнул Милн, включая зажигание «Хорьха».
* * *
Эдвард остановил автомобиль за поворотом. Здесь, в уже густой, червонной темноте осеннего вечера, несмотря на зажженные фонари, «Хорьх» выглядел неприметно, удачно сливаясь с другими машинами, припаркованными у зданий. У сожженной синагоги, чья крыша от полыхавшего в ночь погромов огня почти обвалилась, было тихо.
«Слишком тихо», — подумал Милн, внимательно осматриваясь по сторонам, и отмечая про себя, как бесшумно скользят по улице люди: их тени, отражаясь на стенах зданий, выныривали из темноты всего на несколько мгновений, и снова исчезали, поглощенные тьмой, словно громадной чернильницей. Проверив пистолет, Эдвард перекинул его из руки в руку, отмечая про себя, что левое плечо меньше ноет от боли, — значит, обезболивающее, которое он выпил перед тем, как ехать за Элис, — действует. Заложив зауер за спину, справа, и надеясь, что он ему не пригодится, Эдвард посмотрел на Эл.
— Подожди меня здесь.
— Я иду с тобой, — возразила она, убирая сумочку с колен на заднее сидение, и надевая черные, длинные перчатки.
— Это может быть опасно.
— Я иду с тобой, Харри.
— Агна, у меня нет времени спорить с тобой. В случае опасности мне может быть сложно защитить тебя. Из-за руки.
— Именно поэтому мы идем вдвоем. Тебе может понадобиться помощь, если что-то будет не так. А я уже кое-что умею. Я застрелила Стивена, душила Биттриха и одного из тех, кто недавно напал на нас.
Милн сделал глубокий, медленный вдох, и посмотрел на Элис.
— Да что с тобой сегодня?
Эл молчала, и он добавил:
— Сначала осмотрим площадь перед синагогой.
— А если ничего не найдем?
— Там будет видно.
* * *
Вытянув из пачки новую сигарету, Милн постучал ею о картонную коробку. Все те же красные Amateur, которые он обычно курил. Глубокая затяжка, медленный выдох, за секунды которого стук сердца успокаивается, становится не таким быстрым, и его мысли снова возвращаются к поискам Кайлы и Дану. Он и раньше думал, что если ему и Эл удастся их найти, это будет невероятным везением. Таким, какого этим поздним вечером, когда они приехали к бывшему дому семьи Кац, и попытались узнать, не прячется ли Кайла и ее муж в синагоге, не случилось.
Элис и Эдвард обошли синагогу, но когда хотели зайти внутрь, навстречу им вышло несколько мужчин. Делая вид, что двое незнакомцев их нисколько не интересуют, они подпустили их поближе к дверям церкви, возле которой им встретился мужчина в штатском. Он не стал ничего объяснять. Только окинул взглядом Эл и Эда, и сказал, чтобы они «проваливали отсюда». При иных обстоятельствах Милн наверняка оспорил бы это заявление, но сейчас за его спиной было около десяти незнакомых мужчин. И он был не один, с ним была Эл. И как бы она не храбрилась рассказами о том, что при необходимости может оказать сопротивление, и что бы не говорила про Биттриха и прочих, у Эдварда не было ни малейшего желания проверять верность слов того, кого они встретили у церкви. Как и не было желания драться одной целой и одной простреленной и полузажившей рукой.
Поэтому, посмотрев на незнакомца, преградившего им вход в синагогу, он кивнул, крепче сжал ладонь Элис, развернулся, и спокойным, медленным шагом, не оглядываясь, вернулся к «Хорьху». На этом их поиски Кайлы, Дану и Мариуса закончились. Как и варианты, где еще они могут быть, и где еще им, Кельнерам, следует их искать.
Ездить к остову дома Кайлы в надежде на то, что, если она и Дану живы, то они придут на место своего сожженного дома, и поймут знак из цифр, оставленный Харри? Или ездить к первому дому Кельнеров, опять же, надеясь, что если с Кайлой и Дану все в порядке, то они оставят для них какой-нибудь знак на тех развалинах?
Призрачные, бесплотные, безнадежные варианты. «И других нет», — подвел итог Милн, медленно выдыхая сигаретный дым, и с облегчением чувствуя, как ветер охлаждает его лицо. От ночного ветра, смешанного с мелким снегом, Эдварду стало легче. Похоже, мысли стали приходить в порядок. Даже жар в раненой руке затих. Милн оглянулся на новый, полупустой дом Кельнеров. Эл, наконец, успокоилась и заснула. Но так ничего и не сказала о том, что произошло в ателье.
«И-и-и…» — потянулась к Милну новая мысль.
Эл сказала, что все понимает: им следует прекратить поиски Кайлы, Дану и Мариуса, — это слишком опасно. «Но вот перестанет ли она их искать на самом деле?» — спрашивал себя Эдвард, возвращаясь в дом.
Элис подогнула бинт, и, спрятав его край за белую, широкую полосу, придирчивым взглядом осмотрела свежую перевязку на плече Эдварда.
— Что скажете, доктор? — шутливым шепотом, с легкой хрипотой, спросил Милн.
В сосредоточенной тишине комнаты послышался глубокий вдох.
— Все выглядит… лучше, — медленно ответила Эл, чувствуя, как тошнота, подкатившая к горлу при виде открытой раны, медленно отходит назад. — Прости, я бы не смогла быть врачом.
Она отрицательно покачала головой, и улыбнулась, снова отгоняя назойливую мысль, не дававшую ей покоя. «Ну, теперь-то точно не осталось никаких дел, ты все переделала! И Агне, и Харри пора собираться на свадьбу Ханны!». Голос, прозвучавший в мыслях, рассмеялся раскатистым хохотом, и Элис снова вздохнула. У нее никак не получалось отвязаться от предчувствия, что на свадьбе Ханны непременно что-то произойдет. Но когда разум начинал убеждать Эл в обратном, говоря, что это всего лишь ее страхи, она разбивала все его доводы одной фразой: «Это же Ханна!». А еще Элис ругала себя за то, что после той примерки свадебного платья в доме мод, у нее, кажется, совсем не осталось терпения в том, что касалось Ланг. И чем больше Эл чувствовала опасность того, что может сорваться в любой момент, тем больше она старалась контролировать себя. Но, несмотря на это, нервы все равно были натянуты, — подобно струне, звенящей от собственного напряжения.
— Многие не переносят вида крови, доктор, — все тем же шутливым тоном заключил Эдвард.
Не удержавшись, он улыбнулся, замечая главное, ради чего он и затеял все это дурачество: Элис улыбнулась в ответ, а ее слишком сосредоточенный взгляд стал мягче.
— На сборы остается десять минут.
Эл хмыкнула:
— Да, мы очень спешим на свадьбу Ханны.
* * *
В день свадьбы Ханны Ланг и генерала Томаса, Берлин, — может быть, вторя Агне и Харри, — был несобранным, шумным, путаным и несуразно-веселым. На пути к Фоссштрассе, — улице, где стоял дом, в котором должно было состояться торжество, неожиданно, из множества машин, сбилась шумная, крикливая пробка.
Водители, выскакивая из автомобилей, не стесняли себя ни в выражениях, ни в жестах. Где-то на краю этой автомобильно-людской толпы и правда вспыхнула ссора, очень скоро переросшая в драку. Полицейские, продиравшиеся сквозь толпу, напрасно дули в свистки: от этого только смешно раздувались их лоснящиеся щеки, а вот тем, кто дрался, до них не было никакого дела. Окруженные толпой в два ряда, слепые от адреналина, ярости и окружающих криков, они теперь были больше похожи на свирепых боксеров, загнанных в круг, и обязанных победить друг друга, чем на водителей автомобилей, попавших, хоть и в большую, но заурядную и обычную пробку, на разбор которой, правда, у полицейских ушло более часа.
Сидя в недавно возвращенном из ремонта «Хорьхе», — Эд рассказал, как хозяин мастерской, возвращая ему автомобиль, очень пристально рассматривал Харри Кельнера, и то, как он обращается с машиной, не забывая при этом делать какие-то пометки в блокноте, — Эл не знала, плакать ей или смеяться от этой вынужденной остановки, которая, конечно, выбрала все возможности для разумного опоздания, что могло быть у Агны и Харри Кельнер. Но именно эта непредвиденная пауза помогла Эл. Дышать стало легче, и она уже не чувствовала той гнетущей тяжести, что сжимала ее горло на каждом вдохе.
К серому, несуразно-огромному, постороннему Шпеером в действительно «имперском» стиле дому, Кельнеры подъехали только через два часа и сорок минут. В высоких окнах первого этажа горел свет, и у них не было сомнений в том, что сейчас, — пройдя по большому внутреннему двору дома черными блестящими ботинками, безупречно сочетавшимися с таким же смокингом Кельнера, и черными, бархатными сапожками на небольшом, тонком каблуке, лаконично дополнявшими классическое пальто Агны и черное платье из плотного шифона, с высоким горлом, из потайной кулиски которого выглядывала темно-синяя, тоже бархатная лента, — ее Агна завязала в небольшой, немного строгий бант, — они окажутся на свадьбе Ханны Ланг. Но когда домработница в парадной форме и высоком белоснежном чепце с трудом открыла перед Кельнерами тяжелую дверь дома, знаменательного, прежде всего тем, что он находился в непосредственной близости от канцелярии самого фюрера, — к немалому и почти немому удивлению Агны и Харри выяснилось, что церемония бракосочетания по неизвестным причинам была спешно и неожиданно перенесена на открытый воздух, в соответствии с «истинно германскими мотивами». Агна нахмурилась, посмотрела на Харри, рассматривающего двор дома, и спрашивая его взглядом, что бы это, по его мнению, могло значить? Кельнер ответил едва уловимым, веселым взглядом, сдерживая в углах губ лукавую улыбку, и посмотрел на домработницу.
— Благодарю, фрау. Скажите, можем ли мы, с учетом этих неожиданных обстоятельств оставить свадебный подарок для генерала и его супруги?
— Конечно, герр…
— Кельнер. Харри и Агна Кельнер, — вежливо напомнил блондин, передавая служанке празднично упакованные коробки с вазой и бокалами ручной работы.
— Конечно, герр Кельнер. Я непременно передам!
— Спасибо. В таком случае, мы тоже присоединимся к этому празднику на открытом воздухе. Не подскажете, где именно он проходит?
— Груневальд? — переспросила Эл.
— Да, — подтвердил Эдвард, выезжая на дорогу.
— Именно Груневальд? — не унималась Элис.
Милн усмехнулся тону ее голоса.
— Именно. И не вздумайте смеяться этому, фрау Кельнер. Или подвергать происходящее иронии: все очень серьезно! — неубедительно-строго заметил он и засмеялся.
— Да, конечно, — смиренно ответила Эл, прикрывая губы, на которых распустилась широкая улыбка, рукой в черной перчатке, и отмечая боковым зрением улыбку Эдварда.
На церемонии бракосочетания генерала Томаса и Ханны Ланг не оказалось большинства приглашенных гостей. Многие из них, уверенные, что церемония пройдет по адресу, указанному в полученных ими приглашениях, и не подумали ехать на лесной пленэр в Груневальде. Да и сама Ханна была уверена, что церемония пройдет по плану, — в доме на Фоссштрассе. Она уже воображала, как принимает поздравления и подарки, и все было бы именно так. Если бы не внезапно пришедшая новость: на эту свадьбу, помня заслуги генерала Томаса, должен прибыть сам Грубер.
Стоило этой новости разлететься по просторной гостиной, украшенной к торжеству множеством белых роз, как почти тут же непонятно кем было решено, что принимать гения, осветившего своим явлением великую Германию в стенах дома, — как обычного человека, — невозможно и непозволительно. И когда кто-то из гостей начал говорить об истинно германском духе и истории, эти слова подхватили, растащили, и удивительно быстро решили поразить вкус и впечатления фюрера, и перенести церемонию на лоно природы.
— В Груневальд! — крикнул все тот же голос смеясь, под шум взлетающей вверх пробки от бутылки шампанского. — Самые большие легкие Берлина, лучший лес!
И вот уже все решено без участия Ханны, вынужденной теперь лишь молчать, вежливо улыбаться и крепче поджимать ярко накрашенные губы.
Она знала, что Харри нет среди присутствующих в доме гостей. Но знала она и то, что он придет, обязательно придет, — он не мог, не имел права игнорировать подобное приглашение. Гости уже шумно и весело выходили во двор дома, рассаживались по машинам, чтобы ехать в Груневальд, а Ханна, хоть и знала, что Харри еще не приехал, искала взглядом в пестрой толпе именно его лицо: худое, с четкими, высеченными чертами и яркими глазами, которые так часто, — по ее мнению, — блестели смехом тогда, когда они, Харри и Ханна, были вместе. «Харри и Ханна! Харри и Ханна! Харри и…» — бешено, среди оглушающего со всех сторон шума, билось в мыслях Ланг.
Его женитьба ничего для нее не изменила. Она по-прежнему хотела Кельнера, — и с минуты, когда узнала, что он женат, это желание, кажется, стало только больше. А еще она не понимала, просто не могла понять, как он мог выбрать такую, как эта — рыжую, мелкую, совсем девчонку, едва достающую ему до середины плеча! Но больше всего обескураживало Ханну даже не это, а то, что Харри, который, — она сама это знала, — не был ни снобом, ни пуританином, — отказывал ей. Ей, Ханне Ланг! Статной, красивой блондинке, за которой с юности волочился хвост из поклонников и ухажеров. Ей, которой не отказывал никто. До и после Кельнера. И все почему?
Неужели причина — всего лишь эта мелкая, рыжая сучка с веснушками на носу?! Это просто немыслимо! «Однажды у меня все получилось, даже когда ты уже был женат, — подумала Ханна, мысленно адресуясь к Кельнеру. — Но неужели ты ее любишь?! Ее?».
Невеста была так поглощена размышлениями о чужом муже, что не сразу поняла, что фраза, прозвучавшая где-то в отдалении, обращена к ней:
— Ханна, мы ждем вас! Скорее!
Объемно-расплывчатая дама, похожая на лягушку-голиаф, переодетую, по случаю, в платье последней моды, с нетерпением взглянула на Ланг. Карминово-красные губы Ханны растянулись в закрытой улыбке, она кивнула и поспешила за гостьей.
* * *
Если на пути к Фоссштрассе Кельнеры сумели пробиться сквозь автомобильную пробку относительно быстро, то теперь, возвращаясь в Груневальд, чтобы успеть поприсутствовать на свадьбе Ханны, они попали под такой плотный ливень, что ехать дальше стало совершенно невозможно. Переползая еще два перекрестка со скоростью улитки, Эдвард остановил «Хорьх» в каком-то глухом, неузнаваемом с первого взгляда, — от потоков хлеставшей с неба воды, — переулке, и заглушил мотор.
— Придется ждать, — повышая голос и наклоняясь к Эл, чтобы перекрыть шум ливня, — сказал Милн.
— А если дождь будет долгим? Мы опоздаем, и…
— Что?
— Ничего, — Элис пожала плечом и убрала прядь волнистых волос за ухо.
— Что произошло в ателье, Эл? — спросил Милн прямо, так и не научившись в личном, — несмотря на всю филигранность, которую предполагала разведка, — неспешному выяснению того, что его волновало.
Эл покачала головой, и, помолчав, с трудом проговорила:
— Не хочу говорить об этом. Не хочу. Давай лучше обсудим, что делать дальше? Я, кажется, совсем запуталась.
Эл посмотрела на Эдварда, и, — он понял это по ее дрожащим губам, — хотела улыбнуться, но улыбка не вышла, и тогда Элис опустила взгляд вниз — от автомобильного окна в ливневых разводах — на свои руки: левая крепко сжимает теплую ладонь Эда, а правая — темное платье Агны Кельнер: так судорожно, что когда Элис разжимает пальцы, на ткани остаются неровные, мятые линии. Милн долго молчал, отбивая по ноге злой ритм, и думая о том, что решение пункта о Ханне Ланг из его мысленного плана, похоже, стало сложнее, чем он ожидал. «Ничего, будет, чем заняться», — раздраженно, но с долей азарта от нового препятствия, которое он пока не знал, как решить, подумал Эдвард. А вслух сказал:
— В чем ты запуталась, renardeau?
Элис помолчала, то сжимая ладонь Эда, то обводя тонкие линии на ней. Положив голову на плечо Милна, она уткнулась носом в его шею, и тяжело вздохнула. Улыбнувшись тому, как кончик ее носа холодит кожу, Эдвард тихо начал:
— Нам нужно узнать как можно больше подробностей о планах по Польше. Это то, что касается Центра. Все остальное касается людей. Не знаю, возможно ли еще найти Кайлу, Дану и Мариуса, но в ближайших планах Харри Кельнера — разобраться с Хайде и узнать, кто такой Зофт, — «страховой агент», — на самом деле.
— Шансов узнать о Польше теперь больше, — задумчиво проговорила Эл. — Пока Агна Кельнер временно работает не в ателье, а навещая клиентов на дому, я наверняка услышу и узнаю что-нибудь об этом.
— Может быть, — согласился Милн, обнимая Элис здоровой рукой.
— А пока Агна может ездить к клиентам на машине Зофта.
— Представь, что ты выходишь из дома клиентки, и видишь Зофта. Что ты сделаешь?
Эл помолчала и вытянула руку вперед, обрисовывая в воздухе силуэт одной из дрожащих дождевых капель, застывших на стекле «Хорьха».
— Я спокойно подойду к нему, приветливо улыбнусь и поздороваюсь. А затем спрошу, — наивно и просто, — как же так случилось, что мы встретились с ним в огромном Берлине?
Эл так искусно изобразила голосом предполагаемую наивность, что Эдвард рассмеялся.
— Потом разговор наверняка зайдет о машине, и я скажу, что Агна и Харри очень благодарны ему за помощь, но «Хорьх» отремонтирован, и мы, опять же, с огромной благодарностью, возвращаем ему «Фольксваген».
— А если он спросит, как Агна будет ездить к клиентам без машины?
Эл выпрямилась и посмотрела на Эдварда.
— Я справлюсь, правда. Ты не можешь и не должен все делать один. Ты же сам столько раз говорил мне, что мы работаем вместе.
Эдвард нетерпеливо постучал по рулевому колесу, хмуро рассматривая дождевые разводы.
— Да, говорил.
— Посмотри на меня.
Эдвард продолжал буравить тяжелым взглядом исхлестанное ливнем стекло автомобиля.
— Все получится, — Элис поймала беспокойный взгляд Милна. — Не бойся за меня.
— Ты видела их? — не выдержал Милн, имея ввиду эсесовцев. — Они похожи на своры бешеных собак, Эл. Одурманенные желанием расправы, которое после погромов стало только больше. Я волнуюсь за тебя, я…
Эдвард отвернулся, резко ударяя ладонью по рулю «Хорьха».
— Со мной все хорошо, Эд. Все хорошо.
Эл крепко обняла Эдварда, и затихла, слушая как дробно и тяжело звучит его сердце, раздаваясь гулким эхо в груди.
— Значит, ты готова к встрече с Зофтом? — после долгой паузы уточнил Милн.
Элис кивнула.
— А ты?
— А я готов ко встрече со всеми.
Зная, что Эл, набрав в грудь воздуха, готовится задать новый вопрос, Эдвард опередил ее, добавляя со смехом:
— И даже к покупке мебели для нового дома Харри и Агны.
О том, что ситуация с Ханной тоже требует решения, Эдвард умолчал: ни к чему об этом говорить. Тем более, с Эл. Нужно просто понять, как действовать, и сделать все для того, чтобы Ханна Ланг действительно, раз и навсегда, осталась в прошлом.
* * *
Эдвард так и не понял, когда, — в какой именно момент, — Ханна, застывшая на лесной поляне, освещенной в близких сумерках факелами и свечами, взглянув на «Хорьх», решила, что автомобиль, на который она смотрит — тот самый. Но начало абсурду было положено именно в ту секунду, когда она, заметив подъезжающую черную машину, решила, что в ней везут самого Грубера. Не убедившись в этом, и ни у кого ничего не спросив, Ханна, готовая дать свадебный обет, и державшая в этот момент за руки своего жениха, вдруг резко потянула его вниз, — на мерзлую, голую землю. А генерал Томас, может быть, тоже взволнованный всем происходящим, — в конце концов, не каждый же день выпадает счастье сочетаться законным браком с великолепной блондинкой, стоя на коленях в лесу Груневальд, под портретом великого фюрера, — не разглядев в поднявшейся суете лиц прибывших в автомобиле гостей, повиновался движению своей прекрасной невесты, и чуть медленнее, чем она, — вполне возможно, что существующая между ними разница в возрасте дала о себе знать как раз в это мгновение, — сжимая в своих руках ее ледяные пальцы с алыми ногтями, опустился, как и Ханна, на стылую, заснеженную землю, вставая сначала на правое, а затем и на левое колено.
Присутствующие гости, заметив автомобиль, засуетились, заговорили, едва ли не запрыгали от восторга вокруг жениха и невесты: да, им было известно, что Грубер иногда оказывает некоторым молодоженам честь, и посещает их свадьбы, но все же, все же! Вообразимо ли, что вот сейчас, в эту самую минуту, он стремительно выйдет из любимого им черного «Мерседеса», пройдет несколько шагов по этой же самой земле, и окажется рядом с ними, — совсем простыми, совсем обычными, невзрачными людьми? Что тогда будет? Может быть, яркая молния осветит небо своим острым зигзагом, давая им понять, присутствие какого великого человека снизошло на них или произойдет какое-то другое знамение, не менее великое?
Кто знает, к каким увлекательным умозаключениям пришли бы гости Ханны Ланг и генерала Томаса, если бы с неба снова не хлынул дождь. Резкий, холодный, особенно леденящий своим холодом здесь, в позднем осеннем лесу, он шел на землю огромным потоком, мгновенно затопляя водой и гостей, и священника, переминавшегося в ожидании великого гостя с ноги на ногу, и огромный портрет этого же великого гостя, который двое мужчин, удерживая за края массивной золотой рамы, не могли спасти от дождя, и потому вода, залившись за зонт, призванный укрыть запечатленного в красках фюрера от непогоды, испортила его самым неподобающим и ужасным образом.
Харри и Агна, перепутавшие своим поздним появлением карты церемонии, и ставшие объектом пристальнейшего внимания всех без исключения присутствующих, уже выходили из автомобиля, когда увидели, как гости, не дожидаясь фюрера, разбегаются в стороны, чтобы укрыться от ливня.
Юркнув обратно, в уютный «Хорьх», Агна передернула плечами от холода, и перевела изумленный взгляд на Харри, внимательно наблюдавшего за происходящим вокруг них. Пытаясь укрыться от воды и грязи, гости сбились в кучу, и, не зная, куда им бежать от дождя, засуетились еще больше. Кто-то из мужчин, — его лицо было не разобрать за потоками воды, — кричал, повторяя снова и снова, во все стороны, как сломанный маяк: «Это не фюрер! Дамы и господа, это не фюрер!». Фраза звучала, повторяясь все громче, но вряд ли кто-то ее слушал: отбросив в сторону восхищение великим германским гением, люди, залитые холодным ливнем со всех сторон, спешили спрятаться от воды.
Единственной, кто оставался на месте, в своей прежней позе, была Ханна Ланг. Стоя на коленях в шикарном свадебном платье, за которое Агна Кельнер, — к величайшему облегчению последней, — уже не несла никакой ответственности, Ханна, продолжая сжимать руки генерала Томаса, смотрела на лобовое стекло «Хорьха» таким долгим и пристальным взглядом, что глаза зарезало от боли. Не обращая никакого внимания ни на то, что зонт, который до начала ливня держали над ними, теперь укрывает портрет фюрера, ни на слова своего мужа о том, что им нужно уйти, Ханна, застыв, продолжала стоять на коленях в белоснежном платье. Она разглядела за потоками дождя лицо Харри.
И — его жену.
С бешено бьющимся сердцем, звучащим, кажется, где-то в горле, Ланг смотрела на Кельнера, стараясь понять выражение его лица, отыскать в нем то, что ей так хотелось увидеть. Но лицо Харри было только таким, каким и бывает большинство лиц на официальных мероприятиях: отстраненным, вежливым и замкнутым. Когда же Кельнер, заметив не ее, Ханну, а генерала Томаса, махнувшего ему рукой, кивнул ему в ответ, ярость Ланг расцвела в полную силу. Блондинка резко поднялась с колен, и уже повернулась к «Хорьху», когда поняла, что происходит что-то странное: или она движется слишком медленно, или…
«Он уезжает!» — мелькнуло в ее мыслях прежде, чем Ханна сумела остановить себя. Все так и было: Кельнер, даже не выйдя из автомобиля, кивнул генералу Томасу, и плавно сдал назад, внимательно смотря то в зеркало заднего вида, то в боковое левое. Он уехал!
Не сумев сдержать себя, Ханна топнула ногой. Шпилька белоснежных туфель ушла вниз, а вынырнув из вязкой, размытой ливнем земли, оставила на подоле свадебного платья Ланг комья грязи. И если губы Ханны, плотно сжатые и тонкие от злости, не давали произнести ей ни слова, то черный «Хорьх», так непрезентабельно исполнивший свой долг по присутствию Кельнеров на свадьбе Ланг, сейчас был наполнен неудержимым хохотом Элисон Эшби.
— Эл, Эл! Тише… — неубедительно повторял Эдвард, смеясь вместе с Элис. — Перестань!
Но за раскатами смеха она не слышала его.
— Ты, ты… видел их? Портрет! Пор… — хохотала она, закинув голову вверх. — Зонт! И такие… лица! А она? На коленях в этом… этом платье! Ханна на коленях! В лесу! Я так… не мо… не могу больше! Больно… смеяться!
Обняв себя за талию, Эл наклонилась вперед, и вдруг резко замолчала. Колеса «Хорьха», еще немного прокрутившись по вечерней дороге, с плавным покачиванием остановили автомобиль.
— Так страшно! — прошептала Эл, с болью и горечью смотря на Эдварда.
Обняв Элис, он поцеловал ее в висок с бешено бьющейся под его губами веной, и посмотрел вверх, — туда, где за дверью «Хорьха», надо всем миром было огромное, необъятное, великое небо.
— Да.
* * *
За то время, что Харри не был здесь, лагерь Дахау стал гораздо больше. В наступающих сумерках короткого зимнего дня виднелись свежие срубы скорых бараков, которые, вероятнее всего, будут заселены новыми заключенными, оказавшимися здесь после погромов 10 ноября. Остановившись между старыми, темными бараками, Кельнер медленно втянул в легкие воздух, отдающий вонючей смесью болотной затхлости, и посмотрел вверх, на крышу небольшого белого домика, где располагался так называемый медицинский пункт.
С тех пор, как он и Агна впервые оказались здесь под видом эсесовца и «новой сотрудницы лагеря», прошло несколько лет. И если тогда нацисты не уставали повторять, что лагерь в Дахау, один из первых и «образцовых», выполняет сугубо «воспитательную функцию», после достижения которой — правда, при выполнении некоторых условий, — всякий заключенный может выйти на свободу, то теперь, — Харри оглянулся по сторонам жуткого в своей постоянной немоте лагеря, — это было еще сомнительнее, чем раньше.
Но он знал, — они были. Те, кто действительно, пробыв здесь какое-то время, возвращался к прошлой жизни. Вот только ни прошлой, ни прежней после пребывания здесь она для них уже не становилась.
Сначала узниками были, в большинстве своем, политические оппоненты новой власти: коммунисты, члены профсоюзов, тоже неугодных Груберу, или просто те, кто много раньше других начал понимать, к чему все идет, и был не согласен ни с нацистами, ни с факельными или спортивными шествиями, которые они предлагали, ни с благообразной Олимпиадой 1936 года, обманувшей своей пышностью множество и множество людей со всего мира, ни с союзами, где обязаны были, по заветам национал-социалистов, воспитываться мальчики и девочки.
В первые годы правления нацистов из Дахау и других лагерей некоторых заключенных отпускали. Но еще больше людей оставалось. И чем дольше Грубер, уже не встречая никакого сопротивления, — которое, впрочем, и в первые годы его правления не было организованным, — находился у власти, тем больше заключенных подвергались не просто допросам, но допросам с особой, изощренной жестокостью, а потом и мучительной смерти, шаг до которой, при таких условиях, оказывался совсем небольшим.
Харри знал, что сейчас в Дахау, и в других, близко расположенных к Берлину, — чтобы схваченных можно было быстрее в них «разместить», — лагерях творится некоторая, если уместно так выразиться, «неразбериха»: в погромах, прошедших с 10 по 14 ноября нацисты, переодетые и не переодетые в штатское, сработали так усердно, что арестованных мужчин оказалось слишком много. Гораздо больше, чем ожидали сами правители третьего рейха и больше, чем могли проглотить лагеря, отстроенные ими для борьбы с инакомыслием.
Дахау в этом смысле не был исключением: отсюда и переполнение в уже ранее переполненных бараках, которые, казалось, невозможно заселить еще плотнее, и расчищенные территории для постройки новых. Кельнер громко сглотнул, но плотный ком тошноты, всегда сопровождавший его в «инспекциях» по Дахау, никуда не исчез, и на новом вдохе, который сделал Харри, он вернулся на прежнее место, — в самый центр горла, пульсируя и разрастаясь внутри все больше.
Кельнер закурил, но это лишь усилило тошноту, и, выбросив только что зажженную сигарету и спичку в небольшую металлическую урну, — в лагере поддерживали образцовый порядок, — он быстрым шагом пошел к медпункту, надеясь, что скорость хотя бы немного собьет плохое самочувствие, от которого, к тому же, сильно кружилась голова, а заживаюшая рана на руке снова начинала нудно и ощутимо ныть.
«Будет, что ответить, если у них появятся вопросы», — подумал Кельнер, сворачивая направо, к белому, одноэтажному домику совсем не для того, чтобы просить о медицинской помощи. — «Хотя зачем мне что-то придумывать, если Харри здесь с очередным рабочим визитом? Внимательнее, Эдвард, будь внимательнее!» — пронеслось в его мыслях, когда он уже стучал в дверь.
В ответ прозвучало приглушенное «войдите!», и пока Кельнер все еще раздумывал, действительно ли это голос Ханны, она, увидев его, поднялась из-за письменного стола, смерив Харри радостным и удивленным взглядом.
— Здравствуй, — Харри кивнул, останавливая себя, для большей надежности, у стены.
— Не ожидала тебя увидеть, — Ханна улыбнулась, как всегда внимательно рассматривая Кельнера. — Не помню, чтобы общая проверка была назначена на сегодня.
— Я проявил личную инициативу, — Кельнер криво усмехнулся.
— Чтобы встретиться со мной? — голос фрау Томас стал выше и радостнее, а на щеках показался румянец.
— Можно сказать и так.
Харри внимательно посмотрел на Ханну, едва заметно покачиваясь на месте, что не осталось незамеченным ею.
— Ты очень плохо выглядишь. Я могу помочь?
— Можешь, — Кельнер утвердительно кивнул и поморщился от накатившей боли.
Ханна взволнованно улыбнулась, ожидая продолжения.
— Оставь меня и мою семью в покое. Я говорил тебе об этом много раз, но ты меня не слышишь. Это предупреждение — последнее.
— Это… это не семья! У вас нет детей! Это не семья! — мгновенно заводясь и переходя от растерянного тона в крик, ответила Ханна.
— А вот это вас не касается, фрау Томас!
Кельнер отстал от стены и подошел к бывшей фройляйн Ланг вплотную.
— Я не знаю, что ты наговорила моей жене, но мне до черта надоела ты, и все, что с тобой связано! Займись своим мужем, своей семьей и своими детьми!
— Вот как ты заговорил! А я-то думала, к тебе вернулся разум, раз ты сам пришел ко мне! Так слушай меня, Харри Кельнер!
Ханна вцепилась в лацканы пальто Кельнера, скручивая их в руках.
— Я расскажу все, что знаю о твоей жене и ее прогулках с нищими еврейскими выродками под самым носом у фрау Гиббельс, и если ты… если ты…
Голос фрау Томас дрогнул от слез, и ее хватка ослабла.
— Если я «что»? — издевательски, с вызовом подхватил Кельнер. — Ну, заканчивай!
Харри отбросил от себя руки Ханны, и отошел в сторону.
— Поверить не могу, что ты ее любишь! Поверить не могу, что ты выбрал ее, а не меня! — горячо зашептала Ханна после долгого молчания, распаляясь все больше и больше. — Ты обещал никогда не жениться!
— Черт возьми, о чем ты говоришь?! Я обещал? Кому?! — Кельнер посмотрел на Ханну, и сказал прежде, чем она успела ответить. — Не хочу ничего об этом знать, не хочу и не могу долго с тобой говорить. Но я предупреждаю тебя: если ты продолжишь каким-либо образом вмешиваться в мою жизнь или досаждать моей жене, я разберусь с тобой иным способом.
— Каким это? — развязно, с пошлой улыбкой, не исключающей радости от ответа на этот вопрос, уточнила Ханна.
— Тем, который уже не предусматривает слов, а включает только физическое воздействие.
Ханна усмехнулась и раскрыла рот, делая вид, что поправляет контур алой помады в углу полных губ.
— Жду не дождусь, Кельнер.
Харри внимательно проследил за каждым ее движением, и поморщился.
— Зря ты не хочешь услышать меня, Ханна. Я не шучу. Пока не поздно, займись своей новой жизнью. Разве не для этого ты вышла замуж?
— Не смей говорить об этом! Не смей! — снова переходя на крик, заявила Ханна. — Ты ничего не знаешь! Повторяю: я расскажу кому следует все, что я знаю о твоей жене, если ты не выполнишь мое условие.
— Условие заключается в том, чтобы я спал с тобой? — прямо уточнил Кельнер, скрещивая руки на груди, и приоткрывая входную дверь, чтобы запустить в душное помещение пусть затхлый, но все же, какой-никакой, воздух.
— Я всегда знала, что ты умный.
— Спасибо за комплимент.
— Твой ответ?
— Нет.
— Подумай хорошо, Харри. Иначе гестапо снова вами заинтересуется. И гораздо сильнее, чем в первый раз, когда по досадному стечению обстоятельств твоей милой жене не успели сжечь лицо и сломать сапогами позвоночник.
Ханна, плавно вышагивая, приблизилась к Кельнеру, и прошептала:
— Выполнишь мое условие, и с ней ничего не случится. А если будешь хорошо себя вести, я дам тебе много ценной информации. О чем хочешь. О том, что на самом деле происходит здесь или о ближайших планах…
Эдвард сглотнул, чувствуя, как от волнения кровь снова бьется током по всему телу.
Последние слова Ханны звучали для него как далекое эхо, — в его голове пульсировала только одна адская фраза: «…твоей милой жене не успели сжечь лицо и сломать сапогами позвоночник….».
Сделав глубокий вдох, Кельнер повторил:
— Нет, Ханна.
— Не делай вид, что тебе не нужна информация, Харри. Она нужна всем. Все пытаются найти себе место получше. Ключ к этому — информация.
— А ты не делай вид, что знаешь что-то важное, фрау Томас. Ну? Что там у тебя? Польша? Близкая война? Да об этом знает каждая бездомная собака, если у нее есть глаза и она не утратила способность наблюдать за происходящим. И не смей, повторяю, угрожать мне или моей жене.
Кельнер сладко улыбнулся, крепко взяв Ханну за подбородок: так, что она не могла отвернуться от него и была вынуждена смотреть в его лицо.
— Оставь меня и Агну в покое. Иначе я обращусь к своим добрым знакомым.
— К кому, например?! — выдохнула Ханна со злостью, пытаясь прикрыть ею собственный страх и завороженность Кельнером.
Харри усмехнулся, перевел азартно-злой взгляд вверх, словно ответ был начертан на побеленном потолке медпункта, и очень медленно, едва ли не по буквам, отслеживая каждую мельчайшую перемену в испуганном лице Ханны, произнес:
— Зофт.
* * *
Это была маленькая, неизвестная никому, кроме Кельнера, уловка и победа: имя Зофта подействовало на Ханну именно так, как он надеялся. Харри улыбнулся, спрятав подбородок за ворот пальто. Эта крохотная победа, это знание были тем больше и важнее, что он не был уверен в том, что все выйдет именно так.
Он пошел ва-банк. И все получилось. Но чем именно было это «все», и кем именно был сам Зофт, Харри предстояло только выяснить. Где и как? На эти вопросы у Кельнера тоже были свои варианты ответа. Неточные, как игра с именем Зофта на опережение: их стоило проверить, прежде чем предпринмать что-то против «страхового агента».
Именно этим Харри и планировал заняться. Рабочий день подходит к концу, а значит тот, к кому он сегодня придет в гости, уже наверняка собирается домой. «Чего так испугалась Ханна, услышав имя Зофта? Ханна, которая хорошо умела скрывать свои эмоции, и никогда бы не позволила себе так явно их показать, если бы это… не было сильнее ее», — размышлял Харри, подъезжая к Берлину. С улыбкой взглянув на надпись «Berlin» на придорожном указателе, Кельнер прибавил скорость.
— Агна? Фрау Кельнер!
Девушка вздрогнула от неожиданного, громкого голоса, отскочившего упругим эхо от домов центрального района Митте, и, давая себе время собраться, выдержала уже привычную для нее паузу, — эту маленькую хитрость, обязательную в разведке. Она оглянулась несколько секунд спустя, придерживая правой рукой в темно-красной, вельветовой перчатке край небольшой шляпки чуть более светлого оттенка, что в сочетании с багряными лучами вечернего солнца, ее темно-рыжими волосами и зелеными глазами создавало удивительный эффект, который не забыл отметить мужчина, назвавший Агну по имени.
— Поразительное сочетание, — прозвучало прежде, чем девушка сумела различить в солнечных лучах, бьющих ей прямо в глаза, высокую фигуру.
Но вот человек шагнул в сторону, заслоняя собой солнце, и Агна убрала руку, которую выставила как козырек над глазами. Она узнала того, кто был перед ней, и снова, осторожно, улыбнулась.
— Герр Зофт?
— Именно так.
— Представь, что ты выходишь из дома клиентки, и видишь Зофта. Что ты сделаешь?
— Я спокойно подойду к нему, приветливо улыбнусь и поздороваюсь. А затем спрошу, — наивно и просто, — как же так случилось, что мы встретились с ним в огромном Берлине? Потом разговор наверняка зайдет о машине, и я скажу, что Агна и Харри очень благодарны ему за помощь, но «Хорьх» отремонтирован, и мы, опять же, с огромной благодарностью, возвращаем ему «Фольксваген».
Воспоминание промелькнуло мгновенно, и так же мгновенно, похожее не шипящий огонек зажженной спички, погасло в памяти Агны.
Она продолжала улыбаться. Только теперь еще шире, и, как она надеялась, еще непринужденнее.
— …Автомобиль?
— Извините? — спросила Агна, уходя в тень, чтобы видеть лицо страхового агента.
— Ваш автомобиль в полном порядке, герр Зофт. Если желаете, можете забрать его прямо сейчас.
Агна нажала на золотой кружочек замка, и маленькая, черная сумочка в ее руках распахнулась.
— Вот, возьмите.
Девушка протянула внимательно разглядывавшему ее мужчине ключи от «Фольксвагена».
— Я совсем не об этом спрашивал, Агна. Ваш «Хорьх» все еще в ремонте?
Зофт прищурил чуть раскосые, стальные глаза, и замолчал в ожидании ответа.
— Нет, что вы. Мой супруг благополучно забрал его из ремонта несколько дней назад.
— Значит, я могу получить «Фольксваген» обратно?
«Страховой агент» вытянулся перед Агной, разглядывая ее лицо очень внимательно.
— Конечно. Нужно было сообщить вам об этом раньше, герр Зофт.
— Вы очень рассеяны, фрау Кельнер.
— Прошу извинить меня.
Агна растянула губы в вежливой, в меру сожалеющей о ее досадной забывчивости, улыбке.
— Должно быть, вы заняты обустройством нового дома, и поэтому забыли сообщить мне о машине?
Девушка кивнула, но когда Зофт подошел к ней совсем близко, она автоматически сделала шаг назад.
— Вы боитесь меня, фрау Кельнер?
— Вовсе нет, герр Зофт.
— В таком случае, вы мне любезно расскажете некоторые детали вашей жизни.
Агна удивленно взглянула на мужчину, и крепче сжала в руках сумочку.
— Не волнуйтесь, это формальные вопросы для оформления страховки за ваш первый дом. Итак…
Зофт помедлил, достал из внутреннего кармана пиджака золотой портсигар, и задержал его в руке.
— В каком году вы приехали в Берлин?
— В феврале 1933 года.
— Где вы были до этого?
— В Мюнхене, училась в академии искусств.
— Учились успешно?
— Да.
— Это вы так думаете или это подтверждается какими-либо объективными данными?
— Приглашение на работу в дом мод фрау Гиббельс может служить такими «объективными данными»? — уточнила Агна, чувствуя, как от пристального взгляда Зофта, словно влезающего под кожу, ее пульс начинает разгоняться.
Страховой агент хотел кивнуть, — будто отметить галочкой нужный пункт в своем невидимом перечне вопросов, — но когда Агна закончила фразу, он посмотрел на нее не без удивления.
— Слишком дерзкий ответ, фрау Кельнер. Времени остается мало, отвечайте быстро. Родной город вашего мужа?
— Оснабрюк.
— Где ваша домработница-еврейка сейчас?
— Я ничего о ней не знаю.
— Правда?
— Она пропала после погромов.
— А Биттрих?
— Биттрих?
Агна подняла на Зофта огромные, изумленные глаза.
— Биттрих, Биттрих! Быстрее!
— Он… он… погиб. Насколько я знаю. До этого, несколько лет назад, но какое это имеет…
— «Насколько вы знаете»?
— Я знаю, что его убили.
— Вам его жаль?
— Да.
— Какие чувства вы к нему испытывали?
— «Чувства»? Никаких. То есть, было очевидно, что я ему не безразлична, но…
— Что вы знаете о том, кто его убил?
— Ничего. Я не знаю этого человека.
— Вы думаете, убийца был один? — с нажимом спросил Зофт, ускоряя темп и без того быстрых вопросов.
— Я… не знаю, герр Зофт.
Агна, почувствовав, что на лбу выступили капли пота, хотела достать из сумочки носовой платок, но Зофт больно сжал ее руку, не позволяя этого сделать.
— А если их было двое? Как в случае с убийством Стивена Эшби?
Кровь бросилась в голову Эл, поглощая последнюю выдержку фрау Кельнер.
— Сти… Эшби? Стивена Эшби, вы сказали? — с огромным трудом выдерживая прежний тон голоса, спросила Агна, и почувствовала, как рука Зофта сжала ее руки еще сильнее, больно вжимая их в металлическую планку сумочки.
— Стивена Эшби. Да. Что скажете?
Зофт перешел на шепот, впитывая своим пристальным взглядом каждую перемену в лице Агны. Если она испугается или даст неверный ответ, он все поймет. Громко сглотнув, девушка хотела, по привычке, поправить волосы, но поняла, что не может этого сделать — хватка Зофта не позволяет подобной вольности.
И тогда, откинув голову назад, фрау Кельнер сделала глубокий вдох, и, слушая свой собственный голос словно из-за ватной стены, произнесла как возможно безразличнее:
— Стивен Эшби? Кто это? Разве он ариец?
— А если нет?
Разомкнув полные, чувственные губы, Агна красиво рассмеялась.
— Тогда не вижу смысла говорить о нем. Я его не знаю, герр Зофт. Не знаю ни его, ни того, что с ним произошло. И, — Агна поморщилась и пошевелила пальцами, сжатыми страховым агентом, — мне очень больно.
Не отпуская рук Агны, и не ослабляя захват, Зофт долго смотрел на нее сверху вниз.
— Я провожу вас до дома, Агна. Вы ведь сейчас направляетесь от вашей клиентки, фрау Заубер, домой?
— Да.
Руки Зофта отпустили ее, и Агна, с облегчением вздохнув, раскрыла сумочку и достала платок. Промокнув кожу на висках и высоких скулах, она остановила на лице Зофта долгий, прямолинейный взгляд. Заметив его, он снова, не без удивления, пояснил:
— Женщина не может так смотреть на мужчину, фрау Кельнер. Вам об этом говорили?
— Нет, — медленно, не отводя взгляд от Зофта, ответила Агна. — Неужели вы думаете, что я могла бы кого-то убить? Вы на это намекаете? И кто этот Элби?! И как это все связано со страховкой за дом? Я ничего не понимаю!
Агна закрыла лицо руками, внимательно прислушиваясь к любому звуку со стороны Зофта, и наблюдая за ним сквозь неплотно сомкнутые на лице пальцы. После неубедительного покашливания раздался его, как показалось Агне, несколько смущенный голос. Будто сам страховой агент говорил вовсе не то, что хотел или должен был сказать.
— Простите, фрау Кельнер. Давайте я отвезу вас домой.
Агна покачала головой.
— Нет, герр Зофт.
— Вы отказываете мне? — ошеломленно, словно такого и вовсе не могло быть, уточнил страховой агент.
— Нет, — все тем же тоном ответила Агна. — Но мне еще нужно заехать в ателье, и я не желаю злоупотреблять вашим временем.
— Я отвезу вас в ателье, а затем к вашему дому, фрау Кельнер. Садитесь.
Зофт резким жестом указал на «Фольксваген».
Пожав плечом, Агна посмотрела на него, и пошла к автомобилю с таким безразличным и отвлеченным видом, что впервые за долгое время страховой агент растерялся.
— Остановите, пожалуйста, здесь, — сказала Агна, внимательно рассматривая входные двери модного дома, и не глядя на Зофта. — Мне необходимо проверить, сколько осталось ткани, нужной для одного из полученных за эти дни заказов.
— Для чего вы так подробно говорите мне обо всем, фрау Кельнер? Я ни о чем не спрашиваю вас.
— Мне казалось, вы хотите знать обо всем.
Сказав это, девушка вышла из машины, аккуратно закрыв за собою дверь. Перебежав дорогу, она оказалась у высоких дверей модного дома, расписанных искусным рисунком, покрытым позолотой. Неуместный среди бедных домов, соседствовавших с ним раньше, сейчас модный дом выглядел еще более нелепо: беспорядки, конечно, не затронули его, и тем разительнее сейчас выглядело и это прошлое соседство откровенной нищеты и показной роскоши, и то, что в угаре прошедших беспорядков модный дом уцелел, ничуть не пострадав.
Оглянувшись по сторонам, Агна достала ключ от двери, и быстро открыла замок. Зеленая створка, блестя золотом рисунка, легко поддалась ее движению, пропуская Агну в святилище немецкой моды, с которым, правда, сейчас не знали что делать: после Хрустальной ночи неожиданно выяснилось, что мода рейха, несмотря на высоту и ширину поставленных перед нею задач, может не так много без большого ассортимента тканей, представленного ранее в еврейских магазинах.
Это противоречие обнаружилось только после недавних уличных беспорядков, и потому модный дом, — от растерянности, — был временно закрыт: даже фрау Гиббельс, несмотря на все свое влияние в самых высоких кругах великого рейха, пока не знала, что ей делать с подобным неприглядным обстоятельством, и потому взяла паузу, на время переведя своих сотрудниц на надомный тип работы, при котором они, не занятые весь день в ателье, были обязаны посещать на дому своих прежних клиентов, — преимущественно, конечно, клиенток, — и, как прежде, готовить для них новую, модную одежду, возводя своим ежедневным трудом германскую моду на невиданный ею до этого великий пьедестал.
Зайдя в модный дом, Агна задержалась только у выключателя, включила свет, быстро прошла через холодный, молчаливый холл, и спустилась на цокольный этаж, где в одном из помещений хранились ткани для заказов. За узкой дверью небольшой комнаты, сплошь набитой свертками с разноцветными тканями, воздух оказался пыльным и душным, и девушка закашлялась на первом вдохе.
Сглотнув, Агна выпрямилась, вытянулась на носках сапожек с небольшим каблуком, и принялась рассматривать верхние полки с рулонами темных, — зеленых и синих, — тканей.
Отыскав взглядом нужный рулон тяжелой парчи малахитового оттенка, она поднялась на стремянку, чтобы проверить количество оставшейся ткани.
— Хватит, — шепотом заключила Агна, неуютно чувствуя себя в пустом здании, и торопясь вернуться к автомобилю.
За всеми эмоциями последних часов, за вынужденностью аккуратно разыгрывать перед Зофтом определенную роль, — и надеясь на то, что ее игра обманет его, — Агна остро различала одно: свое огромное желание поскорее вернуться домой, где нет прослушки, и ненадолго, — шепотом двух близких голосов, — стать Элис и обнять Эдварда.
Фрау Кельнер нашла все, что ей было нужно для нового заказа, но, готовясь выйти из модного дома, еще раз напомнила себе, что сейчас, после того, как она закроет дверь на ключ, Агна пойдет к ожидавшему ее «Фольксвагену» медленно и неторопливо. Никакой спешки, никакого следа настоящего, жгучего желания, — сбежать отсюда скорее, и скорее увидеть Эдварда.
…Она заметила Кайлу в последнюю возможную секунду, которая еще позволила Агне Кельнер сделать вид, что она, вернувшись к зданию модного дома, поправляет неожиданно расстегнувшийся ремешок на бархатных, изящных сапожках. Коснувшись руки Кайлы, но глядя вниз, под ноги, Агна быстро и четко прошептала:
— Завтра, в пять утра. У нашего первого дома.
Кайла, узнавшая Агну только в эту секунду, хотела вскрикнуть, — ее рот раскрылся, но не издал никакого ясного звука, — но из горла вышел только прерывистый хрип, и огромные, черные глаза, не верящие тому, что видят перед собой фрау Кельнер, взглянули на Агну.
Если бы девушка могла сделать это незаметно для наблюдавшего за ней Зофта, она бы улыбнулась, чтобы хоть как-то подбодрить бледную, измученную Кайлу.
Но она не могла. И потому только мимолетно сжала пальцы женщины, стараясь взглядом придать больше уверенности. И себе, и Кайле.
По взгляду, который Кайла успела бросить на Агну, фрау Кельнер поняла: они договорились.
Завтра.
Пять утра.
Херберштрассе, 10.
* * *
Рабочий день старины Хайде закончился точно по расписанию. Проводив взглядом его круглую, широкую спину, и выдержав для верности еще полчаса, Эдвард, прикрытый плотной темнотой уходящего ноябрьского дня, зашел в неприметное, одноэтажное здание, где, несмотря на серость обстановки, располагалась одна самых важных страждущих служб рейха, — контрразведка. Правда, здесь, в этих одинаковых кабинетах, закрытых одинаковыми дверями, располагалась контрразведка не всего рейха, а только концерна «Фарбен». Тихо пройдя по темному коридору, Милн огляделся: всего семь дверей. И семь сотрудников? Впрочем, их и не может быть много.
Кабинет Эриха фон дер Хайде располагался в конце коридора. Если не знать наверняка, что за этой серой дверью находится кабинет старины Эриха, старшего сотрудника отдела контрразведки, то можно легко пройти мимо.
Аккуратно вскрывая замок отмычкой, Эдвард усмехнулся при мелькнувшей в его голове мысли: разведчики и контрразведчики очень похожи друг на друга. А если бы не эта «контр»-часть, то, может быть, Харри Кельнер и Эрих фон дер Хайде могли бы быть друзьями? Пили бы пиво на выходных или после тяжелого рабочего дня жаловались бы друг другу на тяжесть службы, и с нетерпением ждали нового, свято веря Груберу и всему, что он делает. От этой нелепой, невозможной при любом раскладе мысли, Милн беззвучно засмеялся, и сам себя одернул, почувствовав, как дверь, поддавшись его манипуляциям, плавно отходит в сторону.
Кабинет Хайде был открыт перед ним: стандартный, обычный, самый банальный. Глядя на все, что окружало старину Эриха на рабочем месте, даже подумать было неловко, что здесь может быть что-то кроме официальной и такой важной деятельности старшего сотрудника отдела контрразведки крупнейшего промышленного концерна Германии.
Это первое впечатление оказалось верным: поиски чего-либо подозрительного или неучтенного ничего не дали. Кабинет был безмолвным, бесцветным и скучным.
Эдвард перервал поиски, складывая бумаги на письменном столе в первоначальную, не слишком аккуратную стопку, и остановился. Расправив плечи и высоко подняв светлую голову, он замер, похожий на следопыта, читающего воздух по малейшему движению и мельчайшей детали. Ощущение того, что Харри Кельнер теряет время, тогда как того, что он ищет, здесь нет, не покидало его.
Наоборот, — с каждой минутой, проведенной в этом немом для него кабинете, это чувство становилось все сильнее, цепляя его натянутые нервы. Милн снова огляделся по сторонам острым взглядом, думая о том, что еще нужно осмотреть? Из явного в кабинете не осталось ничего, что он бы не заметил, а тайного — ниш, или скрытых ящиков, — здесь не было.
«Слишком хорошо, слишком стерильно», — подумал Эдвард, проверяя заднюю стенку деревянного шкафа для документов, и не отпуская эту мысль и чувство недосказанности.
Не может быть, чтобы у старшего сотрудника отдела контрразведки не было тайников. Не может быть. Иначе он — плохой сотрудник. В конце концов, именно на владении скрытой от большинства глаз информации, — чаще всего скабрезной, стыдной и неудобной, — построено очень многое в полу-царстве Грубера. Сам он не брезгует никакими методами и средствами, так отчего же это делать тем, кто гораздо меньше его? Ханна Томас права: здесь информация, как оружие, нужна всем. У тебя может не быть огнестрела, но если у тебя нет нужной информации, ты, — Милн отстучал рукой в черной перчатке ритм по столешнице письменного стола Хайде, — покойник.
Эдвард перевел задумчивый взгляд во тьму, густеющую за окном, и зацепился взглядом за низкую, железную дверь, ломаной, едва заметной аркой торчавшей в кабинете старины Эриха.
К удивлению Милна, эта дверь оказалась не заперта. Странная в этом кабинете, она легко открылась перед Эдвардом, с готовностью выбалтывая ему все, что стоит и не стоит выбалтывать девчонке, застывшей в изумлении перед красивым парнем: и абсолютную темноту, и тепло-влажный запах подвала, и несколько крутых ступеней, ведущих вниз, и скол на одной из них, не зная о котором можно было легко слететь по ступеням вниз, и, пересчитав их головой поштучно, вполне возможно, отлететь в мир иной. Ну, или, по крайней мере, в больничную палату.
Но в иной мир Милну было слишком рано. А в больнице он отметился совсем недавно. Во всяком случае, дверь слетела бы с петель от горя, узнай она, что по ее вине с ним что-то случилось. Поэтому она, показав блондину все, что нужно, замерла на месте без единого, — вообще-то, очень обычного для нее, невероятно бесившего Хайде, скрипа, — и принялась, в любопытстве, ждать того, что же будет дальше. А дальше Милн, все еще удивляясь своей находке и легкой удаче, открыл дверь чуть шире, наклонился вперед, пытаясь понять, что может ждать его там, внизу.
Теплый и затхлый воздух, обступив со всех сторон, звал его взглянуть на подвал.
Встряхнув фонарик в правой руке, Эдвард переключил его, быстро осветил дверь и верхние ступени небольшой лестницы слепящим лучом, ставшим еще светлее в обступающей, жаждущей Милна, темноте, и начал спускаться вниз. Перешагнув через сколотую ступень, он скоро оказался внизу: в большом, гулком пространстве, отдающим эхо от любого движения.
И остановился.
Среди железного, черного стола, в котором не было ни одного ящика, — но зато по краю столешницы, как застывшее кружево, бежал удививший Эдварда ажурный, не лишенный изящества, узор, — и выкованного тоже из железа, трона. Подойдя ближе к нему, Эдвард почувствовал, как за грудной клеткой собирается отрезвляющий, ледяной мрак.
«Трон» оказался обыкновенным, множество раз запущенным по назначению, электрическим стулом, все составляющие которого были на месте: и железные обручи для рук и ног, в которые заковывали человека, и провода, бегущие вниз от вершины, — стороной от обруча для удержания головы. Теряясь в темноте, они уходили вниз, и, как успел заметить Милн, были подключены к настенному электрическому щитку.
Пол вокруг был бурым и скорузлым, похожим на взбухшую, кровавую корку гигантского нарыва. О запахе, — вернее, обо всех окруживших его запахах, — Эдвард предпочитал не думать.
Отсюда точно следовало убраться поскорее, и Милн с помощью луча от фонарика спешно оглядел подвал. Никаких ящиков, шкафов или стеллажей, — ничего, где можно было бы что-то хранить или прятать. Эдвард остановился за спинкой стула, придвинутого к письменному столу, и сдвинул его. Раздался отвратительный скрежет, но кроме этого — ничего. В нарастающем раздражении Милн сел за стол. Так, как, должно быть, сидел Хайде или кто-нибудь другой, работающий здесь вечерами и ночами. Расставив руки по краям стола, и уперевшись в столешницу, Эдвард принялся снова и снова, по кругу, разглядывать все, что окружало его. В этот момент что-то пробежало по его ноге, и он интуитивно дернул ею в сторону, ударяя о железную створку стола.
Раздался приглушенный звук.
И Милн замер.
Соскочив со стула, он сдвинул его в сторону, и встал на колени, просвечивая фонарем нижние створки стола. Правая отозвалась на стук тем же глухим звуком, который и привлек его внимание. У края створки, едва заметная, была расположена ниша. Спрятать в ней можно было, пожалуй, лишь документы, и то, в небольшом количестве, но…
Когда Эдвард, вытянув из железной створки какие-то бумаги, раскрыл тоненькую папку, рука его задрожала. Пробегая взглядом от одного отпечатанного на машинке листа к другому, он понял, что нашел именно то, что искал. Разглядывать находку подробно не было времени, и Милн, разложив папку прямо на полу, достал из кармана черных брюк ручку. Ничем не отличаясь от обычной внешне, она была, на самом деле, миниатюрным фотоаппаратом. Сфотографировав все найденные документы, Эдвард сложил их в прежнем порядке, и вернул папку на место, в нишу письменного стола. Затем поднялся на ноги, осмотрел подвал, и убедившись, что не оставил после себя никаких следов, поспешил наверх.
* * *
Агна и Зофт подходили к дому Кельнеров, когда наперерез, не замечая их, стремительно шел, почти бежал, Харри.
— Герр Кельнер? Как вы вовремя! — повысив голос, чтобы его было слышно, прокричал страховой агент.
Харри резко остановился, немного закачавшись от внезапной остановки, и удивленно посмотрел на Герхарда Зофта и Агну. Лицо его, с резкими чертами, переменилось не сразу, и в самое первое мгновение, — до того, как оно стало выглядеть сообразно новым обстоятельствам, — можно было еще успеть и заметить в нем следы глубоких, сосредоточенных, и, как показалось Агне, страстных размышлений. Словно разогревшийся в полную силу огонь внезапно притушили, вынуждая смиряться с границами, и гореть в пределах лампы.
— Не ожидали? — с улыбкой, внимательно глядя на Кельнера, уточнил Зофт, словно продолжая недавно прерванный разговор, который был настолько хорошо известен ему и Кельнеру, что не было никакой необходимости напоминать о нем.
Сменив траекторию, Харри повернул в направлении Агны и Зофта. Подходя к ним так, чтобы поравняться с Эл быстрее, чем со страховым агентом, Эдвард успел посмотреть на Элис, но по ее встревоженному лицу мало что сумел разобрать.
«По ситуации», — сказал себе Эд, готовясь вскинуть руку для приветствия, но Зофт, продолжая рассматривать его с прежней улыбкой, неожиданно вытянул руку вперед для обычного рукопожатия.
— Что-то случилось, герр Зофт? Нам отказано в страховке?
Кельнер крепко пожал руку страхового агента, и вытянул угол тонких губ в подобие улыбки.
— Документы по вашему случаю рассматриваются, герр Кельнер. Все идет не так быстро, как мне хотелось бы, но для беспокойства нет причин. Думаю, в скором времени я принесу вам благую весть.
— Рад слышать, герр Зофт. И благодарю вас за «Фольксваген».
— Не стоит, — страховой агент оглянулся на молчаливую Агну. — Ваша супруга тоже меня благодарила, но это пустяк. Хотя я выследил фрау Агну как раз для того, чтобы сообщить, что, к сожалению, вынужден забрать автомобиль.
Слух Кельнера зацепился за фразу «я выследил», и Харри, беспечно улыбнувшись, слегка нахмурился, уводя брови вверх.
— Выследили? — с улыбкой спросил Харри, не сводя с Зофта пристального взгляда.
— Да. Впрочем, я пошутил, герр Кельнер!
Зофт рассмеялся, но смех, против его ожиданий, вышел ненатуральным, и страховой агент, резко убрав с лица всякое подобие улыбки, ответил Харри таким же пристальным, внимательным взглядом. Возникла пауза. Красноречивая и долгая, она становилась все больше, когда Агна сказала:
— Спасибо, что проводили, герр Зофт. Может быть, хотите чаю?
В первую секунду после прозвучавшего вопроса агент прошелся по Агне жестким взглядом, но тут же изменил выражение своего лица на любезное.
— Благодарю, фрау Кельнер, но мне нужно идти.
Вытянув из кармана руку, Зофт разжал кулак, и долгим взглядом уставился на свою ладонь, в которой поблескивал ключ от «Фольксвагена».
— Что ж… до свидания, — задумчиво протянул он, не глядя на Харри и Агну.
Сжав ключ в руке, он торопливо пошел прочь.
В хрупкой тишине раннего утра все звуки казались острее. Поэтому Харри заметил Кайлу сразу же, как она появилась в его поле зрения, — перед сгоревшим домом Кельнеров. Она шагала громко и медленно, положив правую руку на живот, и с трудом перебираясь через развалы бывшего особняка. Выпустив сигаретный дым в сторону, Кельнер, отмечая про себя каждое движение Кайлы, быстро затушил сигарету, и быстрым, широким шагом пошел ей навстречу. Кайла шла, опустив голову вниз, с осторожностью переступая через выбитые взрывом плиты и очень яркий, раскрошенный кирпич, сухо и звонко хрустящий под ее усталым, тяжелым шагом. Харри был уверен, что она тоже его слышит, но когда он, остановившись перед ней, вытянул руку вперед, чтобы помочь ей перебраться через очередную преграду, Кайла сильно вздрогнула.
— Это вы!
Она остановилась, подняла голову выше, и, осмотрев беглым взглядом то, что осталось от дома с синей крышей на Херберштрассе, 10, задрожала мелкой дрожью.
— Что слу… — голос Кайлы прервался, сходя на хрип. — Что случилось, герр Кельнер?
Черные глаза, блеснув слезами, со страхом посмотрели на Харри.
— Дом сгорел в ночь погромов.
Кельнер помолчал, разглядывая худое, тревожное лицо Кайлы, и, придерживая ее под руку, тихо сказал:
— Держитесь за меня.
Кайла обвела горьким взглядом то, что осталось от дома, и заплакала.
— Как… как… как же так, герр Кельнер? Как все случилось? А вы? Фрау Агна?
— Она ждет в доме. Нам надо спешить.
— Да?
Кайла посмотрела вокруг невидящим взглядом, и закрыла глаза.
— Простите, я…
Она растерянно огляделась, и провела дрожащей рукой по животу. Широко разведя пальцы правой руки, Кайла накрыла живот ладонью.
— Дану пропал. Может быть, он мертвый? Как вы думаете?
Харри крепче сжал левую руку Кайлы. Наклонившись к ней, он дождался, когда она немного успокоится, и твердо произнес:
— Этого я не знаю. И вы тоже. Но вы, Кайла, здесь. И мы хотим помочь вам. Поэтому нужно спешить.
— Да, простите меня.
Спрыгнув с высокой плиты, Харри повернулся к Кайле, и помог ей сойти вниз. Крепко удерживая ее за локоть, Кельнер провел ее к бывшему дому.
— Кайла!
Агна радостно улыбнулась и обняла женщину.
— Как я рада!
— Здравствуйте, фрау Агна, — глухо проговорила Кайла, пробуя улыбнуться.
Агна вопросительно взглянула на Харри.
— Дану пропал, нужно найти его.
— Но… — растерянно протянула Агна, — где он…
— Они убили, убили его! — закричала Кайла, хватаясь за голову и падая на землю.
Агна подошла к ней и крепко обняла.
— Кайла, нет, не говори так!
Упав на колени, Кайла закрыла лицо руками. Из ее груди вырвался сдавленный плач, больше похожий на вой.
— Тише, тише! — шепотом приговаривала Агна, обнимая Кайлу, и со страхом глядя перед собой.
От звучащих далеким эхо, — в разбитом, пустом здании, — рыданий, было не по себе. Агна, как могла, успокаивала Кайлу, судорожно обнявшую ее, и, продолжая тепло шептать что-то убаюкивающее, закрыла глаза, уже не понимая, кого именно она старается успокоить: Кайлу или саму себя. Следовало торопиться, следовало сделать так много! Но когда Харри услышал плач Кайлы, он замер на месте.
Это повторилось.
Снова.
Эта немота.
Эта отчаянная, страшная боль. «Так вот, как она звучит… — подумал Эд, невидящим взглядом уставившись в ребро своей ладони. — Вот как она звучит, если ее произносить вслух…» — медленно, с долгими остановками думал он, все больше выпадая из настоящего момента в свое прошлое.
Похожая боль была с ним очень давно. Только он никогда не произносил ее вслух, как Кайла. Боль запечатала ему уста. А может, он сам решил замолчать? Хотя теперь это уже не важно, — он давно немой. Немеющий перед болью. Именно в такие моменты, как этот: когда требуется поддержать и утешить, все, что может он — это цепенеть на месте, чувствуя, как все внутри замирает холодом и пустотой. А если постараться быть нормальным, быть как все? Тогда слова не находятся, и все, что он делает, кажется пустым и никчемным, и остается прежним: Эдвард Милн не умеет говорить о боли, не умеет утешать от нее.
Может, он бы и хотел сказать о ней, сделать ее легче, но вместо слов у него выходит только тишина и жуткое, заикающееся мычание, которое все равно никто не захочет слушать, а все попытки произнести что-то членораздельное будут такими долгими, что измотают последнее терпение. И его, и того, кто, может быть, мог бы его услышать.
И пусть Эдвард никогда так, как Кайла, не выражал свою боль вслух, он сразу ее узнал. И сейчас, здесь, он был странно и жутко рад за Кайлу в том, что она не хранит эту горечь в себе. Она плачет, она выпускает боль. И значит, — он очень надеялся на это, — она сможет с ней справиться.
— Тише, тише, вот так… — до Эдварда долетел мягкий шепот Элис.
Он повернул голову, посмотрел на нее, — кажется, такую маленькую в сравнении с развалами огромного дома, — и был очень рад, что она здесь.
Она здесь, она рядом, она умеет преодолевать боль, умеет делать все эти необходимые вещи: она обнимает, утешает, терпеливо ждет. Эл не бежит, не прячется от боли.
«Она не боится боли?» — вопрос изумленно вспыхнул в мыслях Милна, и исчез, не давая ему возможности найти ответ, и оставляя его один на один с этой новой, неизвестной ему территорией. Глубоко вздохнув, он постепенно возвращается в настоящее. Как хорошо, что Эл здесь. Кайле сейчас нужна помощь. И вряд ли он, застывший столбом на одном месте, и абсолютно беззвучный в своей жуткой задумчивости, мог поддержать ее так, как нужно. Так, как люди обычно поддерживают людей, когда это необходимо. Он так не умеет, но Эл — да. И это очень хорошо.
Сделав глубокий вдох и выдох, — Кайла уже почти успокоилась, — Эдвард подошел к ней и Элис. Помолчав еще немного, он произнес, как надеялся, твердо:
— Агна права. Не нужно так говорить. Я постараюсь найти Дану.
Кайла прерывисто вздохнула, и подняла голову вверх, глядя на Кельнера.
— Спасибо! — горячо прошептала она, и кивнула Агне, давая понять, что ей уже лучше.
Оглянувшись, Харри отыскал взглядом разбитую тумбочку. Пустая, с раскрытой дверцей, она лежала на земле, занесенная пеплом, со следами стаявшего снега. От изящества, с которым она была выполнена, не осталось никакого следа. Но этого и не требовалось. Убедившись, что с Агной и Кайлой все в порядке, Кельнер отошел от них, и вернулся, неся в руках свою странную находку.
— Вот. Садитесь. — глухо сказал он Кайле, прежде расчистив руками тумбочку от грязи.
Вместе с Агной он помог ей сесть, и, выждав еще немного, набрал в грудь побольше воздуха и быстро заговорил.
— Кайла, сейчас мы отвезем вас в наш новый дом. Вы останетесь у нас, пока не решится вопрос с вашим отъездом из Германии, и пока я не найду Дану.
— Нет, нельзя, герр Кельнер! — не дослушав, возразила Кайла, смотря в его сосредоточенное лицо. — Вы… вы не знаете, что они делали с нами, я… не хочу, чтобы из-за меня вы…
— Посмотрите на себя! — не выдержал Харри. — Вы беременны, вашего дома больше нет, Дану пропал! Куда вы пойдете? Что вы будете есть? У вас есть хорошая еда для вас и вашего ребенка? Куда вы пойдете, Кайла?!
Кайла всхлипнула и опустила голову вниз. Снова обняв ее, Агна оглянулась на Харри, взглядом говоря ему, чтобы он был помягче, и успела заметить в его лице такую боль, какой прежде она никогда не видела. Не находя слов, и стараясь справиться с волнением, Кельнер замолчал. И когда страх немного отступил, он подошел к Кайле, присел перед ней, и тихо произнес:
— Я не хочу вас пугать, вы и так все знаете. Но поймите, что сейчас не время для этикета и страха причинить друг другу беспокойство. Наш дом сожгли, забросив в окна бутылки с зажигательной смесью. Мы могли погибнуть, но нам удалось сбежать. Мы тоже узнали, что такое погром. Пусть и не так, как вы и Дану.
Снизив голос еще больше, Харри прошептал:
— Где вы были после погромов, после того, как ваш дом сожгли?
— Они… они зашли к нам ночью, вытащили во двор. Разрешили взять с собой только верхнюю одежду, эту…
Кайла кивнула, указывая взглядом на черное, разорванное пальто, в которое была одета.
— Во дворе уже горели дома, было так шумно! Дети плакали, моя соседка кричала полицейскому, чтобы он не трогал ее детей… Нас ударили прикладами, приказали молчать. Но когда Дану попробовал вырваться, и ударил в ответ, его избили, и он долго не мог подняться. Долго лежал на земле и стонал от боли, а они смеялись и кричали мне, чтобы я смотрела внимательно. Муж той соседки побежал, и ему выстрелили в спину. Так много раз! Пять или семь, а может… Нас подняли, собрали в группу и привели в синагогу. Ту, что рядом с домом. Там уже было много людей. И снова шум, плач, дети, и почти полная темнота. Если бы не огонь от подожженных домов, была бы темнота…
Кайла нервно вздохнула, и продолжила, сжимая в руке носовой платок, протянутый Агной.
— Нас заперли, приказали не выходить. Сказали, что «сейчас будет весело!». Помню, как один мальчик позвал маму, и его ударили. Знаете, такой страшный звук от удара…
Кайла зажала уши ладонями, и стала говорить еще тише.
— Он плакал, а они смеялись. Потом двери закрыли, и через несколько минут мы уже горели. Мы… горели! Они жгли нас!
Кайла обняла себя руками и стала раскачиваться из стороны в сторону.
Выругавшись, Кельнер наклонился ближе, и, поймав ее взгляд, четко спросил:
— Дану был с вами? В синагоге?
— Я… я не знаю… там было так страшно, так шумно. Мы были вместе, когда нас вели, а там, внутри… уже не помню.
— Как же вы выбрались?
— Я хотела вылезти через окно, но там были все, столько людей! Мне стало плохо, не хватало воздуха. Окно было совсем рядом, я думала, что успею вылезти, но тех, кто был передо мной стали расстреливать, и они падали назад, в проемы, прямо на нас. На меня кто-то упал, и я… Наверное, не смогла выбраться, не хватило сил… А когда очнулась, то оказалось, что лежу под телами этих людей, они были уже мертвые. И вокруг — много воздуха. Холодного воздуха. Я начала дышать, закашлялась, и какая-то женщина вытянула меня наверх. Оказалось, что синагога сгорела не полностью, и нас выжило пять… да, пять человек. Но Дану среди них нет.
— Значит, надо его искать. Шанс есть, — уклончиво, не вдаваясь в подробности того, что Дану, как и тысячи мужчин-евреев мог сейчас находиться в одном из лагерей, — заключил Кельнер.
— Кайла, где ты жила эти дни, после…? — осторожно спросила Агна, переводя взгляд с нее на Харри.
— Мы все жили в одном доме, все пятеро. Эта женщина привела нас туда. Но вчера утром полицейский сказал, что мы, как евреи, должны заплатить штраф за ущерб, который нанесли рейху, а если не заплатим…
— Кайла… — начала Агна, и вдруг остановилась.
Она хотела сказать, что Харри прав, и ей нужно остаться у них, но внезапная мысль перебила ее, и Агна, следуя за смутным предчувствием, произнесла другое:
— …Среди вас не было мальчика? Десяти-одиннадцати лет на вид. Может быть, меньше? Мариус? Высокий, худой мальчик, с карими глазами?
Кайла повернулась к Агне, и, посмотрев на нее усталым взглядом, прошептала:
— Я не помню Мариуса, фрау Агна. Простите.
Девушка медленно кивнула, и, сжав руку Кайлы, посмотрела на Кельнера. Он ответил ей взглядом, значение которого Агна не смогла разобрать, и, придерживая Кайлу под руку, помог ей подняться.
Вытащив из кармана Харри ключ от «Хорьха», Агна осторожно, и как можно быстрее, пошла впереди. Харри и Кайла следовали за ней. Когда они подошли к машине, Агна уже ждала их, открыв заднюю дверь.
— Я сяду рядом с ней, — негромко сказала Агна, и обошла автомобиль, помогая Кайле устроиться на сидении.
Харри кивнул, продолжая все делать молча: устроив Кайлу, он закрыл за ней дверь «Хорьха», сел за руль, и поехал к дому Кельнеров.
Еще около часа у него и Агны ушло на то, чтобы снова успокоить Кайлу, и уговорить ее остаться в доме. Агна хотела побыть с ней, но и она, и Харри знали, что это невозможно: фрау Кельнер должна была сегодня утром навестить клиенток модного дома Магды Гиббельс, и принять у них заказы на новые платья или шляпки. А Харри Кельнер должен был, — уже два часа назад, — быть на своем рабочем месте в «Фарбен», которое он и без сегодняшних утренних забот не посещал более недели, восстанавливаясь после огнестрельного ранения.
* * *
— Софи, принесите всю входящую корреспонденцию и периодику, которые накопились за время моего отсутствия.
Кельнер опустил телефонную трубку на аппарат, и принялся ждать, обводя сосредоточенным взглядом кабинет, в котором за то время, что его здесь не было, ничего не изменилось. Судя по времени исполнения поручения, секретарша решила собрать для него целый ворох бумаг.
Отбив по черной столешнице письменного стола ритм, в котором можно было без труда узнать забавный фрагмент из мелодии Вивальди, Харри позволил себе погрузиться в обдумывание того, что поразило его сегодня утром.
Это касалось Эдварда Милна. И было настолько личным, что сам он боялся об этом думать. Но, по вечной иронии, чем больше он старался отогнать от себя навязчивый зрительный образ, тем настойчивее и чаще он возникал в его памяти, требуя внимания.
Все это казалось Милну лишним еще и потому, что не относилось ни к работе, ни к разведке, ни к Великобритании, ни к Германии, ни к какой другой точке мира. Это относилось только к нему, к его прошлому, а возвращаться туда он не хотел.
Поморщившись то ли от нытья заживающей раны, то ли от настырных мыслей, Кельнер нехотя откинулся на спинку высокого кресла, и, наконец, подпустил к себе застрявшую в памяти картинку. Вот Кайла, выкрикнув, что Дану убили, упала на землю, — этот момент он помнил очень четко. Помнил и то, как Эл, присев рядом с Кайлой, стала ее утешать: крепко обняла, словно закрывая ее собой от всего мира, и давая Кайле время собраться. Потом, говоря что-то тихое и мягкое, Эл по-прежнему не отпускала Кайлу, — словно момент для этого еще не наступил, и она точно знала, когда это можно будет сделать.
Элис.
Ее лицо.
В нем ни капли отторжения, отвращения, пустоты или ужаса перед внезапно открывшейся болью Кайлы.
Наоборот.
Оно полно сочувствия и сожаления, желания помочь и утешить. Немного растерянное, оно еще несколько мгновений хранит на себе следы острых переживаний. И вместе с тем, несмотря на все это, Эл не прячется. Именно поэтому, должно быть, Милна и уколола та внезапная догадка, прозвучавшая в его мыслях: Элис не боится боли? И умеет с ней справляться?
О себе Эдвард думал, что он этого не может. Заталкивать боль глубже и молчать о ней, сохраняя, как страшный секрет, — да. А говорить о ней, — даже Эл, — или утешить того, кому нужна поддержка — нет. И до того, как он увидел такую Элис, он был уверен, что никому и никогда не скажет о своей горечи. Просто будет и дальше хранить ее в глубине своего сердца, стараясь, чтобы она не выплеснулась, не поднялась наверх, как громадная волна. Но теперь, после того, как он увидел Эл такой…
Эдвард уже не был так уверен в своем однозначном решении, и чувствовал, как его прочность подтачивает все та же дурманная, непреодолимо притягательная мысль:
«Разреши Эл узнать. Открой ей свое сердце. Ты давно знаешь, и видел сегодня снова, — она сможет. Она сама столько раз тебе это говорила! Это правда. Она сможет выдержать, разделить твою боль. Она любит тебя, и хочет помочь. Ну, чего ты так боишься? Она же так просила тебя рассказать ей. Ей — можно…».
— Герр Кельнер, ваша корреспонденция!
При звуке звонкого, и, как показалось ему, слишком резкого голоса, Харри заметно вздрогнул, мгновенно выныривая из своих мыслей на обезвоженный берег ожидающей его канцелярской работы. Софи с трудом опустила на стол внушительную стопку документов. Подшитые в папки со скользкими обложками, они расползлись по столу в разные стороны, похожие на блестящие, длинные щупальца.
— Ой! Простите!
Девушка попыталась собрать папки, но от этого они только больше поплыли по письменному столу Харри Кельнера.
— Оставьте, не нужно.
Софи отдернула руки от папок, и отошла назад. Улыбка, не сдержавшись, показалась на ее кукольно-красивом лице.
— Я очень рада вас видеть, герр Кельнер! Если вы здесь, то с вами все в порядке. И я должна сказать, что ужасно за вас волновалась.
— Спасибо, не стоило.
— Но как же? Эти дикие погромы, эти люди, вещи на улицах! Все разбросано, и такие крики! А вас ранили, и вы попали в больницу. Конечно, я волновалась!
Кельнер поднял голову, впервые прямо взглянув на секретаршу, и вежливо, — с толикой иронии, затаившейся в углу губ, — улыбнулся.
— Для волнения нет никаких причин, Софи. Со мной была моя жена и лучшие врачи рейха. Совместными усилиями они вернули меня к жизни.
— «Вернули к жизни»? Все было настолько серьезно или вы шутите надо мной?
Не дождавшись ответа, Софи, сердито посмотрев на Кельнера, и назидательно добавила:
— Замечу, герр Кельнер, что сегодня вы очень сильно опоздали. Более, чем на два часа. А опоздания здесь, вам должно быть это известно, не допускаются.
— Как и подобные нравоучения от подчиненных в адрес их прямых руководителей, Софи.
— Но я хотела…
— Вас не касаются ни мои дела, ни мои опоздания. Все, что вы должны делать — это прилежно и быстро исполнять мои приказы. А я просил вас принести мне, кроме корреспонденции, периодику за то время, что меня здесь не было. Где она?
— Я… я… не сохраняю газеты, герр Кельнер! — сбиваясь и краснея под взглядом Харри, добавила Софи.
— И как же мне узнать о том, что произошло за эти дни?
Бровь Кельнера поднялась вверх, иллюстрируя знак вопроса, которым завершалась эта фраза.
— Я не знаю… я поищу…
— Не нужно. Но впредь, с завтрашнего дня, вы будете приносить мне вместе с документами свежие газеты.
— Хорошо, герр Кельнер, я поняла.
— И еще. Мне нужен список всех новых заключенных, поступивших в ближайшие к Берлину лагеря после погромов.
— Но… зачем?
Встретившись взглядом с Кельнером, Софи окончательно сбилась, и ответила:
— Я подготовлю список как можно скорее.
* * *
— Как вы добрались, моя милая? — Фрау Эйхен сжала руки Агны своими холодными, крючковатыми пальцами, и посмотрела на девушку. — Вы, должно быть, устали с дороги, проходите!
Подав знак служанке, чтобы она перенесла папку и сумку фрау Кельнер в гостиную, старуха медленно пошла в комнату, припадая на правую ногу.
Агна молча шла за ней, рассматривая ее кривую спину, с явным усилием затянутую в старомодное длинное платье светло-голубого оттенка, который Эйхен совсем не шел, и только сильнее подчеркивал ее старость.
Разложив папку, принесенную Агной, на низком овальном столике, служанка подбежала к тяжелым портьерам, торопливо раздвигая их в стороны. В луче солнечного света, который первым пробился в мрачную, темную гостиную, заполненную искусственными цветами и десятками фотографий, безмолвно смотревших на живых множеством давно угасших глаз, поплыл, поднявшись в воздух, ворох невесомой пыли. Оглянувшись по сторонам, Агна обнаружила, что фрау Эйхен внимательно следит за каждым ее движением. Вежливо улыбнувшись ей, девушка обвела взглядом комнату.
— Мне еще не приходилось бывать в таком старинном доме, фрау Эйхен.
— Прочь, прочь! — старуха замахала руками в сторону служанки в форменном платье. — Совсем распустилась!
Снова остановив на Агне взгляд своих выцветших глаз, она капризно потребовала:
— А вы садитесь, садитесь! Бывать на улице теперь такое утомление. Такой шум, такой шум! А эти дни, вообразите только, — мертвые лежат! Прямо на улице, под моими окнами, среди дня! Ну, скажите, что это? Такой беспорядок!
Эйхен замолчала, глядя в мутное, высокое окно, и Агна, воспользовавшись возникшей паузой, напомнила, что она хотела заказать в ателье фрау Гиббельс пару новых платьев.
— Ах, да! Но вообразите, разве можно сделать красивое платье посреди всего этого беспорядка? Безобразие! Платье будет некрасивым!
Продолжая картинный каприз, фрау Эйхен топнула ногой.
— Уверяю вас, я постараюсь, чтобы платья получились красивыми. Я принесла альбом с эскизами. Хотите взглянуть?
— Нет, — складывая руки на груди и качая головой, отказалась старуха. — Платья подождут. Вы такая хорошенькая, я хочу вам рассказать что-нибудь интересное и забавное, чтобы приободрить вас. Вы такая бледная!
— Неужели, фрау Эйхен?
— Конечно! Ну, выпейте воды, а я сейчас вам все расскажу!
Зная по опыту предыдущих встреч, что с этой клиенткой лучше не спорить, Агна отпила воды из высокого стакана, поставленного перед ней на столик.
— Ну вот, — старуха хлопнула в ладоши. — Что же я хотела вам сказать?
Эйхен опустила глаза на темный ковер в тяжелых, огромных пионах, и задумалась.
— А-а-а! — мелко посмеиваясь, протянула она. — Вы же знаете, милая, что недавно в Берлине было шумно?
— Вы имеете ввиду погромы? — осторожно уточнила Агна, внимательно наблюдая за старой фрау.
— Ну да! И знаете, кто устроил весь этот шум? Национал-социалисты! — не давая ответить девушке, заторопилась Эйхен. — У меня есть связи в министерстве иностранных дел, я много знаю. Знаю, что страховщики, которых хотели обязать выплатить немцам деньги за понесенный ущерб, сказали Гирингу, что не смогут этого сделать. Потому что в таком случае они разоряться! И что взамен выбитого нужно очень много нового стекла. А это можно купить только за валюту, моя дорогая, а ее в Германии мало!
И вы бы знали, как раскричался Херманн! Ну конечно, — он же отвечает первым за нашу экономику! Подумав, он сказал, что, в таком случае, весь ущерб выплатят евреи. И что если бы он знал, что на новое стекло потребуется валюта, он бы поступил иначе. «Лучше бы вы убили больше евреев, чем разбили столько стекол!» — ну, не забавно ли? И так умно!
Старуха разулыбалась, проверяя по лицу Агны эффект от рассказа.
— Именно так и сказал? — удивленно спросила девушка.
— Говорю вам, точно так! А после стало еще интереснее, потому что рейхсмаршалу сказали, что во время погромов и так было убито тридцать шесть тысяч человек.
Эйхен наклонилась к Агне вплотную, и жарко выдохнула:
— А сильно ранено еще столько же! И представьте, все они — только евреи!
— Вы уверены?
— Да перестаньте вы меня об этом спрашивать! — взвилась Эйхен. — Да, я во всем уверена! Я знаю! Понятно вам? У меня связи в министерстве!
— Извините, я не хотела вас обидеть, фрау Эйхен.
Старуха помолчала, и, недовольно хмыкнув, объявила:
— Уходите. Марта вас проводит. У меня нет настроения выбирать платья или смотреть эскизы. Приходите потом.
— Хорошо, фрау Эйхен. До свидания.
Махнув рукой, старуха отвернулась от Агны, давая понять, что фрау Кельнер для нее больше не существует. И это оказалось очень кстати, — как и весь короткий, незадавшийся визит Агны к фрау Эйхен. Потому что стоило девушке выйти на улицу из старого, душного дома, как она почувствовала, что тошнота подступает к горлу.
Оставив папку на крыльце, Агна, шатаясь, едва успела завернуть за угол и отойти в переулок, как ее вырвало. Смотря измученным взглядом в землю, вытаскивая дрожащими руками платок из сумочки, и слушая, как слишком звонко на ней щелкает замок, Эл снова и снова шла по кругу навязчивой мысли, скрипящей в мозгу голосом Эйхен: «Лучше бы вы убили больше евреев, чем разбили столько стекол! Лучше бы вы убили, чем разбили… лучше вы-ы-ы…». А следом за этой мыслью яростно прыгала другая, — как запущенный сильной рукой мячик: «Тридцать шесть! Тридцать шесть! Тридцать и еще шесть! Тысяч!». Потом повсюду гремел хохот, и Эл, держась за стену дома, казалось, что это слова, выпрыгнув из ее мыслей, скачут вокруг нее огромными, громкими, разноцветными мячами.
Постепенно ей стало легче. Прислонившись спиной к зданию и закрыв глаза, Элис глубоко дышала, чувствуя, как медленно проясняется сознание, и она уже точно слышит, как негромко, вокруг нее веет и свистит ветер. Подождав еще немного, она осторожно отошла от стены, и повернула назад, к дому фрау Эйхен, на крыльце которого Агна Кельнер оставила папку с эскизами.
* * *
Поправив ворот халата, Элис присела на край письменного стола, и посмотрела на Эдварда. Он уснул, положив голову на скрещенные руки, под которыми, как это было здесь, в Берлине, почти всегда, — лежали сегодняшние газеты: «Штурмовик», «Фолькишер беобахтер», «Рейхсгезецблатт». Название последней наполовину спряталось под рукой Милна, на которой, — в неярком свете настольной лампы с зеленым абажуром, — можно было различить контуры проступающих вен.
Взгляд Эл скользнул по газетным страницам и остановился на Эдварде. Нежная улыбка легла на ее губы, когда она не спеша разглядывала его, — эти давно знакомые, любимые черты: едва заметную горбинку на носу, стрелы светлых, длинных ресниц, окончание которых терялось где-то в воздухе, две перекрестные линии на переносице, проявлявшиеся четко тогда, когда он хмурился.
В последнее время они стали заметнее, и появлялись все чаще.
Помедлив несколько минут, Элис положила руку на сгиб локтя Милна, и тихо позвала его по имени Кельнера. Он вздрогнул, и голубые глаза, еще туманные сном, непонимающе оглядели часть кабинета. Но вот в полутьме Эдвард заметил Элис, и за искрой удивления в обычно строгом взгляде показалось начало улыбки.
— Я уснул… — словно удивляясь себе, медленно проговорил он, растирая лицо ладонями. Быстро осмотрев стол, он вернулся взглядом к Элис. — Как ты, renardeau? Скажешь, что я был слишком груб с Кайлой?
Не отвечая, Эл положила руку на плечо Милна, села к нему на колени и крепко обняла. Ее тяжелый вздох Эдвард почувствовал так отчетливо, словно он был его собственным. В молчании прошло много минут, прежде чем Эл, проведя пальцами по спине Милна, выпрямилась, и посмотрела на него.
— Нет, не скажу, — прошептала она. — Потому что я видела тебя. И твое лицо, когда ты говорил с Кайлой.
— И что было с моим лицом? — насмешливо, с ухмылкой, спросил Милн, выставляя ее вперед, прежде всякой явной угрозы, — как защиту.
Элис отвела взгляд в сторону, и, помолчав, тихо сказала:
— Тебе очень больно.
Она посмотрела ему в глаза.
— О чем ты? — напрягаясь, спросил Эдвард. — Мне не больно, рука почти в норме.
Пожав плечом, Элис с сожалением ответила:
— Я не стану выпрашивать у тебя ответ. Но если захочешь сказать, — я рядом.
Милн замер, удивленно разглядывая Эл, и чувствуя, как от ее слов, — на самом деле таких желанных им, — его сердце грохнуло в груди гулкими, глухими ударами.
— А как ты? — продолжила Элис, переводя тему разговора.
— С каждым днем я становлюсь все целее, — прошептал Милн, неуверенно улыбаясь. — Не беспокойся.
Поцеловав Эл в плечо, он поднялся из-за стола, и громко включил музыкальный проигрыватель. Несколько секунд иголка, выставленная на черную пластинку, шипела, а потом выпустила в воздух легкую, красивую мелодию Шопена. Эдвард вернулся к Эл, как прежде, усаживая ее к себе на колени. Сжимая его теплую ладонь, она быстро зашептала:
— Фрау Эйхен хвасталась мне сегодня информацией из министерства… — голос Эл сорвался, остановился, и после паузы с трудом зазвучал вновь. — Из того, что погромы устроили сами нацисты, похоже, не делают никакой тайны. А на совещании с директорами страховых компаний, когда ему доложили, что огромное количество стекла, разбитого в погромах, придется покупать за границей, и платить при этом валютой, которой у Германии и так немного, Гиринг сказал: «Лучше бы вы убили больше евреев, чем разбили столько стекол!»
Эл прерывисто вздохнула, и с усилием договорила:
— Тридцать шесть тысяч человек убили, Эдвард. Столько же, — тяжело ранили…
Она прижалась к Милну, положила голову ему на плечо, и затихла.
— И все они евреи, — продолжил Милн, словно он тоже сегодня утром был в доме Эйхен, и слышал ее слова. — Еще двадцать тысяч мужчин арестованы и направлены в лагеря, а случаи изнасилования считаются более тяжким преступлением, чем убийство, потому что так нарушаются расовые нюрнбергские законы тридцать пятого года.
Эдвард договорил, и тоже замолчал, сильнее обнимая Элис, и устало закрывая глаза.
— А Кайла? — после долгой тишины уточнила Эл.
— Спит наверху, в дальней комнате. Смотри, что у меня есть.
Повернувшись к столу, Элис увидела небольшие фотографии, судя по всему, только что или недавно проявленные. Поблескивая в луче настольной лампы, они, как оказалось, сообщали то же, о чем она говорила сейчас. На одном из снимков, где был заснят белый лист, исписанный от руки, значилось:
«11 ноября 1938.
Результаты разрушенных еврейских магазинов и домов пока сложно выразить в точных цифрах.
815 — разрушенных магазинов;
171 — сожженные или разрушенные дома;
119 — сожженные синагоги, 76 разрушено полностью;
20000 евреев арестовано.
По донесениям, 36000 человек убито, столько же серьезно ранено, все убитые и раненые — евреи».
— Что это? — глухо прошептала Эл, не касаясь фотографий, и только рассматривая их сосредоточенным, тревожным взглядом.
— Фотографии того, что Хайде нашел на Кельнеров. Но конкретно этот снимок — фото с листа, записи на котором сделаны самим Гейдрихом. Что-то вроде первого, краткого доклада об успехах погромов, проведенных в ночь с девятого на десятое ноября.
Эдвард вздохнул.
— Обрати внимание на дату. Одиннадцатое ноября. То есть…
— Это самая первая информация, — договорила шепотом Элис.
— Да.
— И не окончательная: «результаты пока сложно выразить в точных цифрах».
Милн кивнул.
— А это, — обняв Эл за талию, он наклонился над столом и пододвинул ближе следующий снимок, — другие записи. Думаю, они принадлежат уже старине Эриху. Впрочем, это несложно проверить, достаточно увидеть его почерк.
— «Осень 1938. От запада на восток… штаб сух. войск не хочет участвовать в европейской войне… герм. войска не могут вести войну на два фронта», — прочитала Эл тихо.
Помолчав, она уточнила:
— Два фронта?
Ее голос дрогнул.
— Думаю, речь о Франции и Англии. Они обладают наибольшей военной силой в сравнении с другими странами, и могут оказать реальное сопротивление Германии, если Грубер пойдет на них. Одна французская линия Мажино…
Эдвард говорил так же тихо, как Элис. И, может быть, сам не верил собственным словам: они были произнесены шепотом, и оттого казались меньше и незначительнее тех, что звучат в полный голос. Или он тоже боялся в это верить? До прихода Эл Милн сидел над проявленными фотографиями уже больше часа, старательно вытаскивая из снимков с документами и записями Хайде всю возможную информацию. Но — война с Англией и Францией? Насколько это, в действительности, возможно?
Центр запрашивает у них информацию по Польше, о которой, к слову, Хайде тоже, — как и другие его источники, — явно ничего не говорит. Но война с Парижем и Лондоном — это не Варшава, это… «Невероятно…» — снова пронеслось в мыслях Эдварда.
— А что значит «осень 1938, от запада на восток»? — Эл повернулась к Милну.
— Не знаю. Пока не могу понять. Но надо разобраться в этом прежде, чем мы отправим сообщение.
— Думаешь, это — правда? Война с Францией? Англия?
Эл засыпала Милна вопросами, боясь услышать то, что, — предчувствие подсказывало ей, — уже было ответом.
— Вряд ли Хайде стал бы писать то, что не важно, и то, в чем он не уверен. Эти записи могли попасть к кому-нибудь другому, и если они станут известны гестапо…
Эл вздрогнула.
— А что будем делать с Кайлой?
— Завтра я уточню все возможные детали о программе «Киндертранспорт».
— Ты рассчитываешь, что официальные власти Германии просто так ее отпустят?! И других? — Эл изумленно взглянула на Эдварда, будто то, о чем она спросила, было за гранью не только реальности, но и фантастики.
— Я считаю, что пора идти спать, Эл. Слишком поздно, и слишком много всего: много информации, много того, что следует обдумать, и очень много вопросов, на которые у нас с тобой нет ответа.
— Но время… — горячо возразила Элис.
— Времени тоже мало, это правда. Но мы не имеем права спешить. Это слишком опасно.
«Вопрос жизни и смерти» — подумала Элис, наблюдая за тем, как Эдвард, посадив ее на свое место, подошел к проигрывателю, и выключил музыку.
Выходя, вслед за Милном из кабинета, и направляясь в спальню, Эл не переставая размышляла об их разговоре. «Кто бы мог подумать, что когда-то эта фраза перестанет быть невероятной, и станет прямым отражением реальности…» — тревожно кружилось в сонных мыслях Элис.
«Из сообщенных вами сведений о последствиях погромов, 36 тысяч убитых и 36 тысяч раненых евреев кажутся нам явным преувеличением. Даже если бы мы могли принять данную информацию для серьезного рассмотрения, недавние беспорядки в Германии представляются нам более внутренним делом рейха, чем тем, которое требует нашего или, — тем более, — международного внимания. В то же время, в ваших новых сообщениях нет информации по Польше. Настоятельно просим сосредоточиться на этих данных, а не на личных делах Берлина.
Центр».
Эдвард помнил, как расшифровав сообщение из Форрин-офис, он и Эл молча застыли над листом с дешифровкой. Раньше, когда Эл злилась, наблюдая за тем, как многое из того, что они передавали в Лондон, намеренно игнорируется, он ее успокаивал, убеждая, что «так бывает». Но сейчас… Сейчас не тридцать третий и даже не тридцать пятый год! Лондон не может не осознавать, что «умиротворение» Грубера, проведенное Великобританией совместно с Францией и Италией, итогом которого стал раздел, — фактически уничтожение Чехословакии, — не сработало, а наоборот привело к прямо противоположному результату, — разжиганию аппетита нацистов, их желанию получить все новые и новые территории, которое пока по-прежнему прикрывается сказками Гиббельса об «агрессии» в отношении священной Германии со стороны других стран.
Успокаивая скачущий пульс, Милн сделал глубокий вдох и предельно медленный выдох.
«Спокойно… так было уже много раз» — повторял он себе, рассматривая пристальным, хмурым взглядом утренний Берлин через автомобильное стекло. «Личные дела Берлина! Внутренние дела Германии! — не успокаиваясь, кричал голос в его голове. — А потом, когда это коснется их, коснется всех… Что они скажут? «У нас не было такой информации, наша разведка — дерьмо, и ничего нам не сообщила!»? Так?! «Личные дела Берлина!» — Милн врезал ладонью по рулевому колесу «Хорьха».
«Черт бы вас побрал! Тридцать шесть тысяч! А сколько ранено, свезено в лагеря?! Сколько женщин и девушек изнасиловано? Сколько сожжено… После погромов прошло уже почти три недели, а Кайла до сих пор не может прийти в себя. То смеется и кричит по ночам, во сне, то плачет, закрывшись в комнате… И эти погромы — только один случай из всего, что нацисты успели устроить за все свое время у власти…».
Эдвард сжал руку в кулак, и силой вернул себя к другим мыслям: «Генеральный штаб — против войны? Или это уловка? А если нет, то насколько вероятно, что несогласие с планами Грубера изменит эти планы?.. 1938 год в записях Хайде. И пометка «запад-восток». «Запад» — это, в самом деле, Франция и Англия? А «восток»? Что здесь «восток»?» — размышлял он, наблюдая за тем, как Агна, выйдя из машины, все больше удаляется от «Хорьха», останавливается, смотрит по сторонам, переходит дорогу и идет к дому очередной клиентки, желающей заказать платье.
Повернув ключ зажигания, Кельнер тронулся с места, медленно проезжая вдоль фасадов домов, залитых ранним, холодным солнцем. Мысли снова вернулись к недавнему выводу, сделанному им после скрупулезного изучения фотографий с записями старины Эриха: в бумагах Хайде оказалось много интересного о происходящем, но на Кельнеров у него ничего нет: ни на Харри, ни на Агну. Да, в листах, снятых Харри на пленку, встречаются их имена — имя Агны реже, имя Кельнера — гораздо чаще. Но во всем, что записано о них Эрихом, нет ничего, что представляло бы опасность. По крайней мере, пока — это только сухая констатация перемещений Кельнеров по Берлину: «вышел из здания в 15.30», «забыла перчатки на витрине, вернулась в магазин», — и прочая подобная мелочь. «Но, — напомнил себе Эдвард, — нельзя сбрасывать это со счетов: Хайде продолжает слежку. Пока в его наблюдениях нет ничего интересного или важного, но нужно приглядывать за ним». И пока Милн решал, что за неугомонным сотрудником контрразведки «Фарбениндустри» стоит по-прежнему присматривать, фрау Томас наблюдала за его женой.
Он заметил Ханну сразу же, что было совсем не удивительно: не изменяя себе и своему вкусу, блондинка была одета в ярко-красное платье и длинное, белое пальто. Тихо сдав назад, Кельнер отъехал в пасмурный, бессолнечный проулок, вышел из «Хорьха», и пошел дворами. «Перейти дорогу, подойти к Ханне со спины, пока она продолжает выслеживать Агну», — твердил Кельнер, ускоряя шаг. Этот нехитрый план не потребовал от Харри каких-либо усилий. Должно быть, увлеченная происходящим, Ханна продолжала стоять у левого края высокой арки, — где Харри и заметил ее впервые, — и наблюдать за Агной Кельнер, которая в эту минуту почти сравнялась со злачным зданием гестапо на улице Принца Альбрехта. Дом, где жила сегодняшняя клиентка Агны, был следующим после главного места обитания тайной полиции рейха, и кто-то расторопный, — и очень услужливый, — наподобие механика из мастерской, в которую не так давно Кельнер отдавал «Хорьх» для ремонта, — наверняка оценил бы подобное, чрезвычайное удобное и выгодное, местоположение.
Остановившись, как и планировал, за спиной Ханны, Харри повторил ее позу, — прислонился спиной к плавному склону арки, чувствуя, как по позвоночнику дрожью стекает вниз волна холода от серого, крупного камня, которым он был выложен. Несмотря на летящее эхо, которое поднималось в этом переходе от любого движения, Ханна не услышала Кельнера. И в почти абсолютной тишине с далекой трелью утренних птиц, прозвучавшей где-то над крышами, прошло чуть меньше минуты.
Затем фрау Томас, видимо, решив, что для завершения ее плана настал самый подходящий момент, вытянулась в сторону, выглядывая из-за угла. Еще мгновение, и она выскользнула бы из своего весьма сомнительного укрытия, но Кельнер уже крепко держал ее за руку.
— Что?! — вскрикнула она, резко оборачиваясь и испуганно глядя на Харри. — Ты?!
— Доброе утро, фрау Томас, — произнес Харри насмешливым тоном, после которого на губах Кельнера, не усидевшего в рамках серьезности, засветилась широкая улыбка, и послышался легкий смешок. — Как твои дела?
— Пусти! — Ханна рванулась в сторону, и, к удивлению Харри, его левая рука, недавно словившая пулю, выпустила блондинку.
Возникла пауза. Харри, не ожидавший такого поворота событий, мгновение молча смотрел на свою руку, — онемевшую, дрожащую мелкой, нервной дрожью. Согнув пальцы, он почувствовал, как ладонь прошивает судорогой, и вздрогнул.
Ханна, неожиданно получившая свободу, успела сделать пару шагов и выглянуть из арки, когда Кельнер снова ее остановил. Посмотрев влево, он убедился, что Агна благополучно миновала здание гестапо, и взглянул на Томас. Теперь он стоял прямо напротив нее, удерживая бывшую фройляйн Ланг здоровой, правой, рукой.
— Что ты хотела сделать? — Кельнер встряхнул Ханну.
— Не твое дело!
— Хотела пойти за моей женой и силой увести ее к зданию гестапо? — Харри усмехнулся. — Это твой план?
Их голоса громким эхо разнеслись из арки, выскакивая на центральную Курфюрстендамм отрывками еще звонких, едва приглушенных утренним шумом, фраз.
— Я все знаю, Харри! — выкрикнула Ханна.
— Что ты знаешь?
— Я видела, как твоя жена подменила чемодан! Там, в больнице!
Кельнер молча посмотрел на Ханну, а затем рассмеялся.
— Правда?
Смех Харри рассыпался вокруг них, и жена генерала Томаса, о котором пошептывали, что он довольно часто не поддерживает планов Грубера, — или поддерживает не так, как следует, — со злостью посмотрела на него.
— Да! Я видела не все, но я знаю! Я все скажу!
— Так «все» или «не все»?.. Хорошо, — Кельнер, все еще усмехаясь, согласно кивнул. — Пойдем.
— Куда? — настороженно уточнила блондинка, оглядываясь по сторонам.
— Туда, куда ты, судя по всему, хотела силой увести мою жену. Не думаю, что такое нападение на Агну было бы удачным, но план был такой, верно? — блестя глазами, резко спросил Харри, не спуская с Ханны злого взгляда.
Промолчав, она отвернулась от него, вздергивая голову вверх с таким видом, будто этот разговор и все происходящее ее не касались. Не растрачивая времени зря, Харри взял Ханну за локоть, и повел в направлении громадно-серого здания тайной полиции.
— Отпусти меня! Харри! — зашипела Томас, испугавшись теперь, в свете людной улицы, говорить громко.
— Чтобы ты продолжала преследовать мою жену, и в один прекрасный день добилась своего?
Кельнер ускорил шаг, сильнее сжимая руку Ханны, которой она и без того не могла пошевелить.
— Я туда не пойду! — лихорадочно зашептала она, мотая головой тем сильнее, чем больше они приближались ко входу в здание.
— Пойдешь. Пойдешь и скажешь о своих подозрениях, — не слушая ее, отвечал Харри, подтаскивая Ханну вперед. — Ты же этого хотела?
Высокая входная дверь здания, где располагалось главное отделение гестапо, открылась, и мужской голос, преодолевая шум шагов, голосов и автомобилей, четко спросил:
— Вам нужна помощь?
Позже, вспоминая эту минуту, Эдвард отчетливо видел перед собой обезумевшее от страха лицо Ханны, узнавшей того, кто задал этот вопрос.
— Нет, не нужна! — быстро проговорила фрау Томас.
Она попыталась уйти, рассчитывая на то, что Кельнер или уже потерял бдительность, или что он не станет удерживать ее силой на улице, в окружении посторонних людей.
Стал. Посмотрев на Ханну, и продолжая держать ее, Харри ответил:
— Доброе утро, герр Зофт.
Он улыбнулся именно так как нужно: легко, вежливо и чуть-чуть.
— Теперь и я могу сказать, что не ожидал вас здесь увидеть.
Герхард Зофт, которого Кельнер знал как страхового агента, улыбнулся, оценив фразу, которую он сам часто произносил при встрече с Харри или Агной, и, не обращая никакого внимания на перепуганную блондинку.
— Доброе утро, герр Кельнер. У вас дело?
Агент отвел плечо назад, указывая на вход в здание.
— У фрау Томас, — уточнил Харри, чувствуя как рука Ханны в его захвате обмякла: блондинка больше не вырывалась, и не делала попыток уйти, должно быть, расценив происходящее, — судя по ее внешнему виду, полному ужаса и онемения, — не иначе, как свой смертный приговор.
По-прежнему не глядя на женщину, Зофт спокойно уточнил:
— Какого свойства это дело?
Набрав в грудь воздуха, и щурясь на ярком солнце, Кельнер объяснил:
— Фрау Томас сама вам расскажет, я не совсем понял суть ее вопроса.
Ярко-голубые глаза Кельнера и темно-серые — Зофта обратились к красивому и бледному лицу Ханны.
— Я… я сказала…
Кельнер почувствовал, как судорожно Ханна сжала его руку, из хватки которой совсем недавно пыталась освободиться.
— …Я говорила герру Кельнеру, что хотела бы отыскать одного человека.
— И все? — насмешливо спросил Зофт, как и прежде, обращая внимание только на Харри, и игнорируя Томас.
— Я подумала, что… — хриплым от волнения голосом пояснила Ханна, произнося слова так медленно, что Харри готов был поклясться, что видит, как судорожно работает мысль в ее голове, — здесь мне смогут помочь.
Зофт, снова усмехнувшись, взглянул на Ханну, и произнес сквозь зубы:
— Какая чушь! Гестапо занимается совсем иными вопросами. Здесь не справочное бюро.
Томас промолчала, ближе продвинувшись к Кельнеру, и выдохнула только тогда, когда мужчины, закончив разговор, попрощались друг с другом.
Повернувшись, Зофт пошел в сторону арки, под прикрытием которой Ханна вела свое наблюдение за Агной, а Харри провожал агента взглядом до тех пор, пока он не исчез из виду.
Собравшись с силами, Ханна проговорила:
— Ты — сумасшедший! Что было бы, если бы мы попали в гестапо?! Неужели ты не знаешь, кто такой Зофт?!
— Страховой агент, только и всего, — разыгрывая перед Ханной давнюю карту, беспечно ответил Кельнер.
— Нет! Он в ведомстве Гейдриха! Он не страховой агент!
Ханна с испугом взглянула на Харри.
— Но вы, кажется, неплохо общаетесь?
Кельнер промолчал, не опровергая ее догадку, которая, к слову, была очень выгодна.
— Ты даже не представляешь, во что ввязываешься! — горячо продолжала Томас, напуганная его молчанием, которое она расценила как абсолютное равнодушие к происходящему. — Будь осторожен!
Смерив Ханну взглядом, Кельнер развернулся, и широким шагом пошел к пешеходному переходу.
— Что ты делаешь?! Харри! — кричала Ханна ему в спину, не обращая внимания на прохожих, оглядывающих ее испуганными взглядами.
А когда она поняла, что не дождется от него никакого ответа, прошептала, оглушенная всем, что только что с ней произошло:
— Ты сдашь меня гестапо?…
* * *
«Он в ведомстве Гейдриха, он не страховой агент!». Харри уже проезжал по Вильгельмштрассе, к британскому консульству в Берлине, а слова Ханны продолжали стучать в его мыслях с тем же испугом, с каким были произнесены. Все это было хорошо: и ее искренний страх, быстро перешедший в панику, и то, что Кельнер вовремя заметил Ханну, и то, что Харри теперь знал о Зофте. Размышляя о случившемся, Кельнер немало удивился поведению Ханны, уверенный, что ее, — с учетом прежнего, и тем более нынешнего положения, — рука гестапо не коснулась. Но, судя по реакции фрау Томас на одно лишь словесное упоминание тайной полиции, Харри ошибся.
Что касается Зофта, то зацепка, неожиданно полученная от Ханны, давала не так мало, как могло показаться на первый взгляд.
Сам Рейнхард Гейдрих — глава общеимперской полиции безопасности, объединившей гестапо — тайную полицию — и полицию уголовную, а кроме того, глава службы разведки, — по сути, единолично контролировал два важнейших направления в политике рейха: сбор информации и шантаж. А если вспомнить, что несколько лет назад, после того, как Гиринг напав на Агну, попытался ее изнасиловать, Харри, совершенно обезумев, безбашенно заявился в его дом, и пригрозил ему, — если он еще только посмеет тронуть фрау Кельнер, — показался пьяному Херманну тем самым Гейдрихом, вызвавшим даже у Гиринга что-то вроде страха, то… реакция Ханны становилась более, чем понятной.
Кроме того, Кельнер знал, что Гейдрих был одним из организаторов и «Ночи длинных ножей», и, скорее всего, недавней «Хрустальной ночи». Именно он лично распоряжался арестами евреев после погромов. По слухам же, Рейнхард, — внешне безукоризненный ариец, отличный спортсмен и замечательный скрипач, — был страшно, безгранично жесток.
Настолько, что его боялись «свои», на которых он тоже не забыл собрать прелюбопытные досье. А давний скандал, в котором упоминалась девушка, и по вине которого подающий блестящие надежды Гейдрих с позором был уволен из флота, имел далеко идущий след, перекидывая вполне однозначный мост к борделям особого устройства, в которых расслабленные, ничего не подозревающие мужчины легко выкладывали все, что знали: как оказалось, не только дамам полусвета и вполне конкретного рода занятий, но и агентам гестапо, которые подслушивали их и записывали за ними все, что те рассказывали.
Потому, не вдаваясь в подробности, можно было подвести простой итог: даже среди своих сослуживцев Гейдрих снискал славу одного из самых жестоких и развращенных, не признающим никаких границ, человеком. Но все это, уже известное Кельнеру, по-прежнему не давало ответа на очень важный вопрос: что Зофту, подчиненному Гейдриха, нужно от Харри и Агны?
Харри припарковал автомобиль недалеко от входа в консульство Великобритании в Берлине, и уставился сосредоточенным взглядом в серое, массивное здание. Сверившись с круглым циферблатом наручных золотых часов, Кельнер понял, что еще слишком рано: посольство было закрыто. «Хорошо…. — подумал Харри без тени оптимизма, — есть время, чтобы повторить план». Суть его была очень простой: Харри было известно, что с пятнадцатого ноября, всего через несколько дней после погромов, при официальной договоренности между Берлином и Лондоном, начала действовать программа «Киндертранспорт», целью которой было спасение еврейских детей от нацистов. Дети — возрастом от младенцев до семнадцати лет, — выезжали из Германии, Австрии и бывшей Чехословакии в Великобританию без сопровождения родителей.
На первый взгляд все казалось простым и понятным, но и эта программа, — из того, что знал Харри, — предполагала массу нюансов. И Кельнер опасался одного: негласных условий для отъезда из Германии согласно этой программе могло быть гораздо больше, чем то было заявлено в печати. «Это первое…— подумал Харри, крепче сжимая руль, — а второе? Второе — официально Кайла не может выехать из страны этим путем… а неофициально? Возможно? Как это устроить? И Мариус. И Дану… мы по-прежнему не знаем, где они». Может быть, найди они Мариуса, все было бы проще, и они бы представили Кайлу как его мать. «Стоп! — остановил себя Харри, — а мама Мариуса? Агна сказала о ней совсем немного... Надо постараться вывезти и ее». Но где, где они все? Мариус? Дану? Нужна хотя бы какая-то зацепка, которая поможет их найти. А пока нужно узнать как можно больше об этой программе «Киндертранспорт», и о том, кто ее курирует в посольстве Великобритании».
* * *
— Герр Кельнер?
Невысокий брюнет, застегнутый в плотный костюм-тройку, остановился напротив Харри, и вопросительно посмотрел на него.
— Да.
Блондин кивнул, и быстро поднялся со стула.
— Пройдемте в мой кабинет.
Сотрудник консульства посмотрел на Кельнера и негромко прочистил горло, тем самым выражая свое удивление ростом Харри, которому он доставал только до плеча. Оказавшись в просторном кабинете, Харри, зная, что за ним наблюдают — он чувствовал на себе внимательный, изучающий взгляд, — быстро, едва уловимо осмотрелся по сторонам.
«Фрэнк Фоули, сотрудник паспортного стола консульства Великобритании» — гласила темно-золотая, тяжелая табличка, установленная по центру большого письменного стола с множеством бумаг и папок.
— Доброе утро, мистер Фоули, — забирая инициативу, первым произнес Кельнер, по опыту зная, что эта, как и подобные ей другие мелочи, выигрывают для него время.
А вместе с ним — и возможность как можно более подготовленного, в случае удачного разговора, ответа.
— Доброе, — серьезно ответил Фоули, обходя Кельнера по траектории дальнего круга, и рассматривая его все также внимательно.
Зайдя за письменный стол, Фрэнк остался стоять, уперев руки в темно-красную столешницу.
— Какое у вас ко мне дело? — чеканно и серьезно уточнил он.
— Я хочу знать о программе «Киндертранспорт» все подробности.
Фоули, уже успевший довольно подробно изучить внешность посетителя, посмотрел на светлые волосы Харри, и опустил взгляд, с иронично-сочувствующей улыбкой глядя в его голубые глаза.
— Не думаю, что эта программа имеет к вам отношение.
— Вы ошибаетесь, — все еще очень сдержанно, но уже чувствуя, как внутри по капле, — от ненужного промедления, — собирается раздражение, ответил Харри.
— Вы — ариец, герр Кельнер. И у вас соответствующая здешним правилам внешность: высокий блондин атлетического сложения с голубыми глазами, вы… — Фоули опять улыбнулся и быстро посмотрел на настенные часы в траурно-черном циферблате, — …я уверен, не являетесь отцом еврейского ребенка. Если, конечно, ваша жена…
Хозяин кабинета кивнул, указывая взглядом усталых глаз на обручальное кольцо Харри.
— Моя жена не еврейка.
— Как я и думал, — продолжал Фоули. — Поэтому вы держитесь так уверенно, герр Кельнер. Ни вам, ни вашим близким не угрожает никакой опасности или риска преследования. Если бы ваша супруга была еврейкой, вы бы выглядели и вели себя совершенно иначе. Поверьте мне, я знаю.
Отойдя от стола на шаг, Фрэнк Фоули оглянулся на кресло, и неторопливо сел в него.
— И по этой же причине, герр Кельнер, ваши дети, — если они у вас есть, — конечно, не евреи. А мы, в рамках программы «Киндертранспорт», предоставляем временное убежище в Великобритании только детям евреев. И только тем из них, кто не слишком похож на евреев.
— Что? — переспросил Харри. — «Не слишком похож»? Как это?
— Вам эта информация ни к чему, вы в любом случае не можете участвовать в данной программе, поэтому понимайте, как хотите.
— Послушайте, — начал Кельнер, — к чему эта грубость? Почему вы отказываете мне даже в справочной информации о программе?
— Потому что ни вы, ни ваши дети не подходите под ее требования. И потому, — Фоули покрутил шеей в удушающем воротничке белой рубашки, ослабляя галстук, — что мне кажутся странными ваши вопросы. Кроме того, вы — взрослый. Мы же увозим из Германии, Остмарк и бывшей Чехословакии только детей. Харри посмотрел на сотрудника, пытаясь понять причины его поведения, но Фоули прервал ход его мыслей, напомнив о том, что он очень занят, а время приема для Харри Кельнера уже истекло.
— Как ты себя чувствуешь? — тихо спросила Агна, поддерживая Кайлу под руку.
Было поздно, Харри задерживался, и на прогулку с Кайлой она пошла одна. Обходя новый дом Кельнеров кругами, они все больше молчали. А если говорили, то очень осторожно.
— Уже лучше.
Кайла помолчала, не сразу решаясь сказать следующую фразу.
— Те дни в церкви, и потом, до встречи с вами… Я почти не ела, было нечего…— ее голос дрогнул, стих и закончил почти бесшумным шепотом, — а теперь я ем досыта… Спасибо вам!
Женщина остановилась, справляясь со слезами. Агна улыбнулась ей, надеясь, что улыбка вышла достаточно ободряющей, а если, все-таки, нет, то в темноте Кайла не заметит этого. Сжав руку Кайлы, Агна задумчиво прошептала:
— Странно говорить в подобных обстоятельствах «пожалуйста»… — она растерянно улыбнулась. — Я очень рада, что мы можем тебе помочь.
— А почему вы помогаете мне? Вы так и не сказали, — уточнила Кайла, и поморщилась, положив руку на живот. Резко остановившись, она закрыла глаза и прерывисто задышала. Агна остановилась рядом с ней, и посмотрела по сторонам, не зная, что ей делать, и может ли она как-то помочь.
— Сейчас… пройдет… — успокоила ее Кайла.
Взяв руку Агны, Кайла приложила ее к своему животу.
— Вот здесь… толкается, — прошептала она, счастливо улыбаясь, и посмотрела на девушку.
— Да-а… — дрожащим шепотом отозвалась Агна, и отдернула руку, чувствуя, как щеки заливает густой жар, а к горлу подкатывает плотная, душная волна. — Извини, Кайла, я… Думаю, нам стоит вернуться.
Кайла удивленно посмотрела на нее, и запоздало вспомнила.
— Простите, я глупая! Я…
— Нет, Кайла, ничего!.. Пойдем, становится холодно.
Придерживая женщину под руку, Агна быстрее зашагала к дому. В прихожей, скинув пальто, и нетерпеливо выслушав слова Кайлы о том, что стол к ужину будет накрыт через десять минут, — она отказалась принимать помощь Кельнеров даром, и, не слушая их возражений, сказала, что будет, как и раньше, следить за домом, — Агна кивнула и торопливо поднялась наверх.
Плотно закрыв за собою дверь, она села на кровать, и, придвинувшись к самой спинке, обхватила колени руками. И стоило ей только замолчать и подпустить к себе воспоминания и тревогу, как они волной хлынули на нее, накрывая с головой.
Эл думала, что боль от потери ребенка, отходя по времени все дальше, стала меньше. Но вот сейчас, всего несколько минут назад, она сама убедилась в том, что это не так. «Надо быть осторожнее…» — шептала Эл беззвучно, одними губами, смотря прямо перед собой. Кажется, это была самая частая фраза, которую она себе повторяла. И часто ей казалось, что эта осторожность, здесь, в Берлине, ставшая, в прямом смысле слова жизненной необходимостью, пропитала ее насквозь, стала ее вторым «я».
«Если бы это было так, ты бы не вздрогнула сейчас, не отдернула бы руку! — горячо отчитывала Эл саму себя, и нервно повела плечом, словно скидывая с него чью-то невидимую, тяжелую руку. — У тебя нет права так явно показывать свои эмоции! — продолжала она, волнуясь все больше и больше. — А если бы перед тобой была не Кайла, а кто-то другой?.. Я думала, что уже давно научилась сдерживать себя!» — горько пронеслось в мыслях Элис.
За этой мыслью и невеселым открытием того, что прежняя боль никуда не ушла, последовал тяжелый вздох. Что с этим делать? А если это повторится снова, и она выдаст себя в присутствии того, кто не должен видеть у Агны Кельнер подобных эмоций?
Отстучав в мыслях Эл тревожным набатом, слова затихли и постепенно смолкли. Разум уступил место сердцу, которое исходило острой болью.
Переполненное страхами, — давними и новыми, — оно, казалось, не находило во всем окружающем мире даже малейшей точки опоры. Элис было очень страшно в начале, когда они только приехали в Берлин. В первое время она, кажется, вообще не понимала, как именно ей следует себя вести и что именно надлежит делать. Одному небу известно, как она все-таки смогла не провалить весь их общий план. Эл и сейчас была уверена в том, что если бы не Эдвард, его терпение и выдержка, то… Крепче обняв колени руками, она стала еще больше похожа на сжатую пружину.
«Но тогда еще не было так страшно, как сейчас» — думала Эл, глядя прямо перед собой. И в этой мысли было много истины. Элис помнила страх, — почти как отдельную, очень явно ощутимую субстанцию, — едва ли не все время, что она и Эд были в Германии. Но страх из того, тридцать третьего года, который во многом был ее личным и внутренним, многократно отличался от страха нынешнего, тридцать восьмого, года. Тот страх был связан с ее абсолютной неуверенностью в том, что она справится с ролью, на которую согласилась. С ролью Агны Кельнер, требовавшей от нее полной самоотдачи, умения учитывать и выдерживать огромное количество все новых и новых нюансов, абсолютного внимания и сосредоточенности, и способности достоверно играть Агну тогда, когда обстоятельства меняются. «А менялись они постоянно» — напомнила себе Элис.
Сегодняшний страх был иным, гораздо более сильным, если не сказать «всеобщим».
Иногда, проходя по улице, Эл казалось, что он — повсюду: страх пропитал собою все вокруг, — стены домов, бульвары и мостовые, деревья и парки. Сам воздух часто казался ей отравленным человеческим испугом.
Людей все чаще хватали на улице, среди дня, и они ничего не могли сделать для своей защиты. Страх был разлит невидимой рекой по всему Берлину. «Или мне это кажется?» — тяжело и устало прозвучало в мыслях Элис.
Ко всему прочему, сны о Стиве вернулись к ней. Оставив Эл на какое-то время, они пришли обратно, неторопливо выпивая из нее силы, и тот запас уверенности, который она старательно оберегала от окружающих событий. Сны эти были страшными и жуткими, как всегда. Они попадали прямо в цель, сразу же выбивая десять из десяти. И чем дольше они снились, тем больше сопротивление Эл им было похоже на отчаянную схватку: за разум, чистоту мысли, саму жизнь. Стив далеко не всегда выходил победителем, — его сестра никогда не была робкого десятка, — но он знал ее слабые места, и порой ему удавалось очень умело этим пользоваться, вонзая острые иглы в разум и сердце Эл все глубже и глубже.
Так незаметно Элис иногда менялась местами с Милном: и теперь уже она, просыпаясь среди ночи, громко вскрикивала, в первые мгновения не понимая, где находится. Точкой возврата в такие минуты для нее был Эд. Зная не понаслышке о прелестях долгих и мучительных ночных кошмаров, и очень явственного бреда, он всегда был рядом, и неизменно, терпеливо успокаивая Эл, помогал ей вернуться обратно: пусть в тоже страшную, но реальность.
Его присутствие, сила и крепкие объятия, — с той самой первой ночи в Берлине, когда Элис пришла в его спальню, и, дрожа от страха, спросила, действительно ли «они убьют нас?» — каждый раз выводили ее из мрака. Но иногда, — как сейчас, — Эл казалось, что тьма сильнее света. А если так, то она проглотит ее… и весь мир?
Вернувшись домой, Харри так и нашел Агну: застывшую в той же, уже давно неудобной, позе, от которой все ее тело наверняка затекло. Несколько раз позвав жену по имени, и не получив ответ, он присел перед ней, и заглянул в лицо. Она смотрела куда-то вдаль, положив голову на руки. Погладив Агну по волосам, Харри нежно поцеловал ее в висок, и сел рядом.
Она перевела на него задумчивый, не узнающий взгляд, и в первое мгновение, — словно вспоминая, где находится, — с тревогой посмотрела на Кельнера.
— Я пропустила ужин… — медленно прошептала она. — Кайла накрывала на стол.
— Я встретил ее внизу. Кайла сказала, что звала тебя, но ты не вышла из комнаты, и она не решилась тебя тревожить. Что случилось?
— Все хорошо…— еще не до конца очнувшись от своих мыслей, сказала Эл, смутно, — словно это было очень давно, — вспоминая вечернюю прогулку возле дома, и то, как Агна отдернула руку от живота Кайлы. — Все хорошо.
Для большей убедительности Элис растянула губы в улыбке, стараясь перебить подступающие слезы.
— А как твой день?
Потянувшись в сторону, она включила ночник, и спустила ноги с кровати, придвигаясь ближе к Эдварду, чтобы осмотреть его руку. Посмотрев на Эл задумчивым взглядом, Милн устало улыбнулся, и скупо, не желая вдаваться в подробности, сказал:
— Рука плохо действует. Дрожит. И захват плохой.
— «Захват»? — уточнила Элис, расстегивая рубашку Милна.
Осекаясь, и понимая, что уже проговорился, он объяснил:
— Ханна. Я схватил ее за руку. Сегодня утром она следила за тобой, когда ты вышла из машины и шла, мимо здания гестапо, к дому фрау…
— Фон Ширер, — отозвалась Эл, хотя имя клиентки не имело никакого значения.
Ее руки замерли у обнаженного плеча Милна, еще не успев коснуться повязки. Опустив голову вниз, Эл крепко сжала покрывало, очень внимательно слушая Эдварда.
— Она, конечно, не сказала мне, что именно хотела сделать, но я почти уверен, что Ханна планировала увести тебя насильно к зданию гестапо и сдать.
— Вот как?.. — прошептала Элис, не отводя напряженного взгляда от своих ладоней.
Помолчав, она взглянула на Эдварда, отмечая про себя следы злости и сожаления, которые еще были видны в его лице и в выражении глаз, и уточнила:
— Что она сказала?
— Ничего разумного. Кроме того, что Зофт, с которым мы столкнулись перед зданием гестапо, по ее словам, служит в ведомстве Гейдриха.
— И что дальше? — продолжала монотонно спрашивать Эл, слушая свой голос на каком-то странном отдалении, и пугаясь скользящего в нем, как ей казалось, равнодушия. Тяжело вздохнув, она встала и заходила по комнате беспокойным маятником, скрестив руки на груди. Мысленно Элис уже напомнила себе, что «злиться — глупо!», но это не помогло, и раздражение напополам со страхом, занявшись в груди, становилось только сильнее.
— Если это действительно так, с Зофтом нужно быть еще аккуратнее, чем обычно, — заключил Эдвард, наблюдая за Эл.
— Чепуха, мы и так предельно осторожны! — отмахнулась она, переходя на быстрый шаг.
— Эл, — тихо позвал Эдвард, безошибочно догадываясь, о чем она думает.
Элис не ответила, продолжая вышагивать комнату из угла в угол, как тесную, душную клетку, и раздражаясь все сильнее от того, что внутри снова, спустя очень долгое время, возникло это омерзительное, тягостное и щекочущее чувство, которое впервые появилось после того, как она узнала об измене Милна: ей некуда бежать, негде скрыться. Она должна оставаться, и играть роль Агны до конца, даже если все здесь ей противно.
«Ты снова предал меня? — с глухой болью, от которой сердце, не дожидаясь ответа, уже сорвалось и падало вниз, думала она. — Да?».
— Странно, что она не предложила тебе спать с ней в обмен на информацию, — усмехнулась Эл, оглядываясь на Эдварда ровно в тот момент, когда на его лице еще можно было заметить сильное удивление от прозвучавших слов. — Или…
Резко остановившись, Элис посмотрела себе под ноги, и снова подняла взгляд на Милна. — Ты согласился?
Не растрачивая времени и сил на слова, которые сейчас все равно не смогли бы помочь, Эдвард молча подошел к ней, и положил руки на плечи Элис. Заглянув в ее чудесные глаза, он увидел в них страх и смирение, — и всю отчаянную готовность принять новую боль. В полумраке комнаты взгляд Эл переливался блеском, и она, не отводя глаз от лица Эдварда, безмолвно, взглядом, просила только об одном: «Если это правда, то режь быстрее!». Наклонившись еще ближе к Эл, он бережно взял ее лицо в свои ладони, и, глядя в самую глубину ее глаз, прошептал четко и твердо:
— Нет. Нет, Эл.
Она отрицательно покачала головой, отбросила его руки от своего лица, и попыталась уйти, но Милн, опередив, встал у нее на пути, и крепко, несмотря на сопротивление, обнял Эл, терпеливо дожидаясь, пока ее гнев стихнет, и она перестанет вырываться из его рук. Нежно поцеловав Элис в волосы, он терпеливо пережидал ее бессловесную борьбу с его грудной клеткой и руками, которая сопровождалась только прерывистым, жарким дыханием Эл. Вернее, только с его одной, правой, рукой: помня об огнестрельном ранении в левое предплечье, Элис, не желая причинять Эдварду еще больше боли, боролась только с правой. Да и то, не сильно, — переживания многих и долгих дней, как это чаще всего с ней случалось, забирали у нее значительную часть физической силы. «Да и вряд ли, — горько и радостно улыбаясь, подумал Милн, продолжая обнимать Элис, — ты стала бы драться со мною всерьез».
Выбившись из сил, Эл надолго стихла, и в напряженной тишине ночной комнаты долго слышалось только ее шумное, тяжелое дыхание. Успокоившись, она продолжала стоять на месте, опустив руки вдоль тела. Сделав глубокий вдох, Элис вдруг остро почувствовала всю свою громадную усталость. Она была такой огромной и казалась такой бесконечно-темной, что Эл подумала: усталость ее раздавит. Но присутствие Эдварда, его тепло и объятия успокаивали, возвращая землю под ногами. И снова, как и бесчисленное множество раз до этого, укачивали ее на волнах его уверенности и силы.
Потеревшись носом о грудь Эдварда, Эл подняла голову выше, и вытянулась на носках, доставая горячими губами до ямочки на шее Милна, где в острой излучине соединялись крылья ключицы.
— Послушай, Эл, — путаясь от ее ласки и зная, что говорит ерунду, и уже не понимая, зачем он это говорит, шептал Эдвард. — Сегодня я пытался поговорить с Фрэнком Фоули, сотрудником паспортного стола в английском консульстве, о программе «Киндертранспорт». Но он…
— Что? — шепнула Эл, продолжая целовать Милна.
— Не… захотел мне ничего говорить…Эл…
— Я тоже не хочу говорить с тобой, Харри Кельнер. Ни о чем не хочу говорить… все — потом… — Элис подняла на Эдварда серьезный взгляд, и голос ее дрогнул от волнения. — Поцелуй меня, пожалуйста… Я очень по тебе скучаю.
* * *
Устроившись поудобнее на плече Милна, Элис неторопливо рассматривала его резкий профиль. Между ними возникло то самое уютное молчание, которое, бывая дороже многих слов, не хочется нарушать. И они молчали, думая каждый о своем, а может быть, и о чем-то общем, но не испытывали желания говорить об этом вслух.
Эл очень нравились такие минуты близости, а Эдвард больше всего ценил в них, и во всей их причудливой семейной жизни то, что, будучи мужем и женой, между ними по какому-то негласному соглашению, — о котором, к слову, они никогда не говорили, а только знали, что оно есть, — со временем установилась молчаливая, доверительная свобода: они были вместе, любили друг друга, но при этом оставались, — каждый,— таким, какой он есть.
И эти берега свободы, легкие и акварельные, возникшие далеко не сразу, где дышать было очень легко, они очень ценили. И пусть берега эти выросли из бурных вод первого, взаимного непонимания, недоверия, обмана и сомнений, — в том тоже теперь была заключена их особая ценность, — Эдварду нравилось, что с ним Эл была собой, такой, какая она есть.
Осознание существующего между ними доверия, которым он очень дорожил, и ценность которого Милн научился ценить постепенно, согревало его сердце теплом. Он любил. И он был любим. И для него это было самое восхитительное, самое уютное и самое незнакомое до встречи с Эл, чувство.
Даже сейчас, когда они могли ссориться и не понимать друг друга, он не хотел, чтобы она притворялась, менялась в угоду ему или кому-то другому, или… была другой.
Он любил в ней все: все ее черты, перемены, страстный характер, легкость и страхи, сомнения и ум… А Элис? Она любила его, любила наблюдать за Эдвардом, узнавать его, размышлять о том, каким он был, и замечать в его характере новые, ранее неизвестные ей черты, о которых сам он мог и не подозревать.
А еще она наконец-то привыкала к той мысли, что, может быть, навсегда останется между ними то, о чем Эдвард ей не скажет: о детстве и юности, о родителях и войне, и о том, как он рос и взрослел. О том, что сделало его таким, каким он был. «О том, что тебя ранило…» — мысленно поправила себя Эл.
Постепенно она привыкла к этому неизвестному ей острову, и научилась уважать его границы, больше не требуя от Эдварда рассказать то, что ей так отчаянно хотелось знать раньше. Они были вместе. Они были счастливы. Что могло быть больше этого?
— Я знаю, что делать дальше, — тихо сказала Эл, рисуя пальцем на груди Милна плавные, нежные линии. Эдвард повернул голову в ее сторону, и она продолжила:
— Кайла обещала познакомить меня с той женщиной, что укрывала ее в своем доме, в первые дни после погромов. Думаю, она может помочь нам.
Элис пошевелилась, опуская подбородок на грудь Милна.
— Может быть, с ее помощью мы найдем Мариуса и Дану? Как ты думаешь?
— Я думаю о том, что ты не хотела ни о чем таком говорить, — медленно, с ленивой улыбкой, отозвался Эдвард.
— Хорошо, — прошептала Эл. — Тогда не будем говорить. Будем делать. Снова.
Хитро улыбнувшись, она посмотрела на Эдварда, и рассмеялась.
— Эл, — хрипло прошептал Милн, вдруг становясь очень серьезным, и неотрывно наблюдая за ней.
— Да, герр Кельнер?
— Спасибо, что любишь меня, — глухо сказал он, и замолчал, желая, но не отводя потерянного взгляда от удивленного взгляда Эл.
Поцеловав Элис в левый висок, в тот след, что остался от пули Стива, он задержал губы на ее коже.
— Это очень спорный момент, — медленно растягивая чувственные губы в лукавой и задорной улыбке, заметила Эл, и прошептала за мгновение до того, как сбитый с толку Милн задал бы вопрос. — Главным образом потому, что еще не ясно, кто и кого здесь должен благодарить.
Фраза, полностью дойдя до Милна, сначала вызвала у него несколько секунд молчания, а затем — такой раскат смеха, которого Эл, кажется, никогда до этого не слышала. Тьма, о которой они никогда не забывали, на время отступила.
Утро того дня началось для Герхарда Зофта с сюрпризов. А он их не любил. Вернее, ненавидел. Потому, когда внезапно выяснилось, что Харри Кельнер приехал на обед домой, — Зофт наблюдал теперь за ним из своей машины, неплохо для липового страхового агента затаившись недалеко от особняка Кельнеров, — он очень неприятно удивился. В сегодняшних расчетах Зофта Харри Кельнера не было. Но в них была Агна Кельнер. И только за ней он планировал следить.
Впрочем, от недовольства Герхарда Харри не только не исчез, — Зофт едва заметно наклонился вперед, прищуривая темно-серые, мутные глаза, и сводя их в единственно интересовавшей его сейчас точке, — на спине Кельнера, — но и в настоящую минуту неторопливо шел от «Хорьха» ко входной двери своего нового дома.
Вытянув угол узкого рта в сторону, Зофт усмехнулся: судя по спокойной походке, Кельнер его не заметил.
«Тем лучше, — подумал сотрудник тайной полиции, — эффект будет больше».
В этом он был прав. Ибо за время своей славной истории, гестапо не только выработала, но и уделила много внимания моменту внезапности при проведении тех или иных операций. Именно по этой причине погромы, обыски, аресты и, конечно, допросы проводились, преимущественно, ночью.
С человеческой природой, несмотря на ярое желание фюрера вывести породу «сверхчеловека», все еще, несмотря на большие старания партии, ничего не получалось сделать. Фриц Габер и группа ученых под его руководством уже разработали «Циклон-Б», правда, пока не для умерщвления людей, а лишь для промышленного применения, и до испытания этого адсорбента на людях, — первая их «партия» состояла из 600 советских военнопленных и 250 «других» узников Освенцима, убитых в 1941 году, — оставалось еще слишком много времени.
Пока же тайной полиции приходилось действовать старыми, проверенными временем, методами, которые свидетельствовали о том, что в ночное время суток человек, поднятый из теплой постели, напуганный внезапным вторжением, которое сопровождалось шумом, криками и резкими командами гестаповцев, был неизменно дезориентирован не только во времени, но часто и в пространстве.
А значит, он становился добычей гестапо легче и быстрее, чем, скажем, днем.
Злой взгляд Зофта вернулся к Кельнеру, уже почти исчезнувшему за границей входной двери с позолоченным молотком в виде круглого, массивного кольца. «Насколько велика вероятность того, что вот этот, образцовый внешне ариец, — шпион и предатель?» — продолжал спрашивать себя Зофт, не уверенный до конца в своих подозрениях, в пользу которых говорило только его смутное предчувствие.
Интуиция.
Пока это все, что у него было. Хотя, — это знают все древнегерманские боги, — он очень старался подкрепить ее хотя бы какими-то доказательствами, которые позволили бы ему дотянуть свои подозрения до уровня гестапо.
К немалой досаде Зофта, в случае с Кельнером действовать приходилось именно так: если не совсем официально, то полуофициально, соблюдая, какие-никакие внешние формальности потому, что Харри не был ни коммунистом, ни евреем, и никем иным из тех категорий, попав в которые люди автоматически, без каких-либо доказательств, оказывались, при всемерной помощи тайной полиции, за бортом привычной жизни, якорь которой отныне приставал к концентрационным лагерям.
Кельнер, к неудовольствию Зофта, желавшему поскорее разобраться со своими подозрениями, да и со всем этим делом, не попадал в указанные категории, и потому «закрыть» его в лагере без внешних последствий для самого Герхарда было нельзя.
«Да, — размышлял Герх наедине с собой, — должность у него не то, чтобы большая и значительная, но это все-таки «Байер», она входит в крупнейший промышленный конгломерат рейха, «Фарбен». Кроме того, — и эта причина, усиливая тревогу Герхарда, перекрывала первую, — Кельнер, по твердому убеждению Зофта, неизвестно какими путями, но оказался в Берлине благодаря не кому-нибудь, а Гирингу. И Герх, славившийся в кругах сослуживцев мертвой хваткой да быстротой решений, вынужден был здесь остановиться.
Это бесило Зофта больше всего: все его рвение, весь его ум, энтузиазм и энергия уходили, тратились впустую! И что он мог? Только медленно следить за Кельнерами, сидя тут, в затхлой, душной машине?! Неужели это действительно дело, достойное его? Если бы он только мог все ускорить! Раздражения Герху добавлял и тот неприятный факт, что прослушка, установленная в «Фольксвагене», в котором сейчас сидел он, и который он намеренно, под благовидным предлогом, одолжил Кельнерам после того, как их первый дом и другое имущество были сожжены и украдены, не принесла нужного ему результата.
Часть записей содержала ничего не значащие, пустые разговоры, ко всему прочему заглушенные шумом от движения автомобиля, а другая часть была записана в таком скверном качестве, что разобрать записанное на пленку Герх так и не смог. Обращаться к специалистам он не стал, опасаясь, что в таком случае, дело Харри и Агны, которое Зофт жаждал раскрыть единолично, уведет у него кто-то другой.
«Ну почему, почему в такие исключительные моменты всегда возникает эта тема внешних приличий и необходимости представить доказательства? Почему именно сейчас? Кельнера надо брать! Брать без слов! А все, что нужно, он скажет сам, в гестапо!» — так, мучительно изнывая в замкнутом пространстве тесного «Фольксвагена», думал Зофт.
Время, золотое время Герха уходило впустую! Сначала потому, что он проверял всю возможную информацию о Кельнерах, а затем потому, что выяснил: Харри и Агна действительно были приглашены на закрытый вечер, проходивший несколько лет назад в доме министра просвещения и пропаганды, самим Херманном Гирингом.
Когда давние слухи подтвердились, Зофт вынужден был сглотнуть и этот горящий факел: будучи сотрудником Гейдриха, он владел широкими полномочиями, — к тому же, шеф всегда шел ему навстречу в служебных делах, — но полномочия эти, простираясь,
в том числе, в темноту ночных допросов, были, все же, не настолько обширными, чтобы затронуть тех, кто находился под протекцией Гиринга.
Так, из-за ошибочного убеждения Зофта, которое ничего не ведающим Кельнерам было только на руку, сложилась весьма забавная и любопытная ситуация, своеобразный, — правда, не очень светлый, но как раз в нынешних тонах Берлина, — юмор которой Харри Кельнер, — знай он сейчас о намерениях Герха побольше, — сумел бы, как никто другой, оценить по достоинству: Гиринг боялся Гейдриха, а Герх, его сотрудник, ничуть не меньше страшился «дяди Херманна» в сияющем белоснежностью и золотыми позументами парадном мундире. Но, несмотря на все возникшие трудности, — и большое количество времени, которое потребовалось для их решения, и которое, — в иных обстоятельствах, — Зофт давно бы и с пользой употребил на личные допросы Кельнеров, выяснить ему кое-что, все-таки, удалось. Например, то, что имена Агны и Харри, по слухам, сопровождались, как минимум, двумя интересными смертями.
Первая из них была за Рудольфом Биттрихом, молодым и откровенно глупым, по мнению Герхарда, эсесовцем, а вторая — за неким Стивеном Эшби, который, будучи в окружении Освальда Мосли, представлял для профессионального чутья Зофта куда больший интерес, чем болван Биттрих, о котором он, начав распутывать по своей личной инициативе эти прелюбопытные слухи, подумал, что нисколько не удивится, если окажется, что этот «Руди» застрелил себя сам. «Без дисциплины и выдержки в нашем деле нельзя», — самодовольно и тихо повторил Зофт, продолжая наблюдение за домом Кельнеров, и улыбаясь неестественно оттого, что улыбка слишком редко появлялась на его узком, холодном лице, и потому выглядела деревянной: как если бы маньяк, решив сойти за нормального человека, старательно имитировал поведение других людей, абсолютно ему не подходящее и чужеродное.
Улыбка не смирила жесткий взгляд Зофта, привыкший гораздо более наблюдать страдания и боль людей, нежели что-то иное, а только до жути исказила и без того не слишком привлекательное, — хотя и абсолютно «правильное» по чертам, — лицо Герха.
Упиваясь собственными размышлениями, Зофт отвел взгляд в сторону, и, спохватившись, снова уставился во входную дверь дома Кельнеров, опять принимаясь ждать. Его спина затекла, и «Фольксваген», из которого он вел наблюдение, осточертел ему за весь этот долгий, нудный и пасмурный день. Но в том-то и была сила сначала внушенной ему, а теперь проповедуемой им самим, личной дисциплины, что, презирая всяческие неудобства каждый раз, как они возникали на его пути, он приближал себя к цели, становясь идеалом истинного германского воина, а, может быть, и — как знать? — тем самым «сверхчеловеком», о котором так мечтал их великий фюрер. Мысли Зофта, насладившись этими измышлениями, снова вернулись к объектам наблюдения.
Сегодня он планировал отследить только Агну Кельнер. И даже несмотря на то, что настоящая слежка за ней еще не началась, — она до сих пор не выходила из дома, — Герх был уверен, что это не окажется сложным: он видел девушку, говорил с ней, даже спрашивал ее об этом Стивене Эшби, и в целом остался весьма доволен собой, потому что его, Зофта, не покидала твердая уверенность: во время того разговора он сумел неплохо напугать Агну Кельнер, а страх в глазах жертвы ему всегда помогал. К тому же, что она может ему противопоставить? Ничего. «Значит, — повторил себе Герх, — следить за ней станет очень просто». Он не был окончательно уверен в своих подозрениях относительно реакции Агны на имя Эшби, но это ведь несложно и уточнить. Достаточно чуть больше физического воздействия, и она все ему скажет. «А если нет? Если она на самом деле ничего не знает об Эшби?» — пытал себя Зофт, продолжая буравить вход в дом Кельнеров тяжелым взглядом. Впрочем, пока эта мысль тревожила его не так сильно: не столь важно, связывает ли что-то Эшби и жену Кельнера. Главное — получше проверить реакцию Агны на имя Стивена Эшби, а вот итог этой проверки — уже иной вопрос, который, как правило, решает не столько Герх Зофт, а другие сотрудники гестапо, в обязанности которых входит весьма специфический род деятельности.
Зофт оскалился, чувствуя, как в груди занимается давно знакомое, жаркое волнение, которое он очень любил. Он и сам, конечно, не откажется от того, чтобы допросить жену Харри. «Не всякий день выпадает такое развлечение…» — с удовольствием подумал Герх, растирая холодные руки.
* * *
— Агна! Где ты? — крикнул Кельнер, закрывая за собой дверь. — Агна!
Заглянув в гостиную, обставленную, как и другие комнаты дома, все еще не до конца, Харри, перешагивая через ступени, быстро взбежал по лестнице вверх.
— Что случилось? — раздался с первого этажа приглушенный голос девушки, и Кельнер, обернувшись вокруг своей оси, побежал вниз.
Агна, сжав в руках отрез темно-бордовой, бархатной ткани, стояла у лестницы, удивленно глядя на Харри.
— Собирайся, ты и Кайла. Едем, сейчас.
— Но…
— Нет времени, renardeau, поедем сейчас, в обеденное время.
— Хорошо, — Агна кивнула, не задавая ненужных вопросов, и зная, что, не будь на то причин, Харри не стал бы торопиться и менять планы. Вытянувшись на носочках, Агна чмокнула Харри в щеку, и, быстро улыбнувшись ему, побежала наверх, чтобы переодеться, на ходу развязывая пояс на домашнем платье.
Заглянув в дальнюю комнату на втором этаже, где теперь была спальня Кайлы, Агна сообщила ей, что они едут к Кете, которая помогла Кайле в ночь погромов, прямо сейчас.
— Мы ждем тебя внизу, через пять минут! — по-прежнему улыбаясь, быстро проговорила девушка.
«Если Эд решил ехать сейчас, а не вечером, значит, так лучше» — думала Агна, забегая в спальню. Сбросив домашнее платье на кресло с высокой спинкой, обитой бежевым, блестящим шелком, Элис огляделась, немного растерянная скоростью внезапных сборов.
Выхватив из шкафа платье для выхода, черное, с высоким воротом, — вряд ли Эл отдавала себе в том отчет, но после нескольких случаев неудавшихся, по счастью для нее, изнасилований со стороны Гиббельса, Гиринга и того, кто вместе с другими тремя, напал на них в ночь с девятого на десятое ноября, она, и без того тщательно выбиравшая для себя одежду здесь, в Берлине, после всех этих случаев стала одеваться еще внимательнее, автоматически отвергая платья с излишне глубоким, как ей казалось, декольте, или те, которые, по ее мнению, были слишком короткими, слишком яркими или вульгарными, — Эл, покрутив плечики с платьем в руках, бросила их на кровать. На самом деле, решись когда-нибудь Элис подумать о неудавшихся изнасилованиях подробно, без спешки или желания избежать этой темы, — что делать она опасалась, — она бы поняла, как сильно, без всяких преувеличений, они ранили ее.
Всегда держась обособленно, после этих случаев она стала еще более закрытой, не переносящей прикосновений посторонних людей. Исключением был только Эдвард.
Все было так, как тогда, после случая с пьяным Гирингом: только в ту ночь, после очередного праздничного вечера, проведенного в самых верхах рейха, она, стоя на загородном автомобильном шоссе в длинном вечернем платье, крикнула Милну, чтобы он ее не трогал. А теперь Эд был единственным исключением из этого замкнутого круга. Прикосновения всех иных людей Элис переносила с большим трудом. Даже на приеме у врача, когда они были неизбежными и необходимыми, она, напрягаясь, буквально сжималась в комок, мысленно уговаривая себя расслабиться и не привлекать ненужного внимания.
Со временем напряжение утихало, но все еще было очень большим. Что же касается прикосновений посторонних мужчин, которым Агна Кельнер могла нравиться… Эл избегала об этом думать, потому что от одной только подобной мысли к горлу поднималась тошнота, а внутри, за грудной клеткой, мгновенно росла паника, тем более сильная, что она была бессловесной, и молчаливая, билась дикими волнами страха в бешеном пульсе Агны Кельнер, да во взгляде ее больших, темно-зеленых, глаз.
Элис придирчиво осмотрела платье, и решила, что оно подходит. Черное, с высоким воротником-стойкой, обшитым по верхней кромке мелкими, молочно-белыми, мерцающими матовым блеском, жемчужинами, и средней длины, оно было элегантным и строгим. На сборы у самой Эл ушло всего несколько минут.
Зажав маленькую, тоже черную, сумочку в руке, девушка быстро и тихо, в легком шелесте платья, спустилась вниз.
Увидев ее, Эдвард улыбнулся, и снял с вешалки пальто Элис. Надев сапожки, она повернулась к нему спиной, чувствуя, как он укрывает ее плечи. Не убирая рук, Милн обнял Эл, останавливаясь на пару беззвучных секунд. Прижавшись к нему, Элис закрыла глаза, и погладила его по руке, продолжая улыбаться.
— У тебя с лица не сходит загадочная улыбка, renardeau, — хрипло прошептал Милн ей на ухо, задерживая губы на нежной коже. — Что такое?
— Ты сам сегодня много улыбаешься. Это совсем не похоже на Харри Кельнера, — шутливо уточнила Элис, и добавила, — у меня есть причина.
— Какая?
Повернувшись к Милну, Эл посмотрела в его глаза.
— У меня точно такая же, — с дрогнувшей от волнения улыбкой, сказал Эдвард, не сводя глаз с Элис.
Эту тишину, особенную, прорезанную только медовым лучом солнца, проходящим через высокое окно первого этажа, нарушил негромкий голос Кайлы.
— Я готова.
Агна и Харри посмотрели на нее одновременно, возвращаясь в реальность.
Отпустив Агну, Кельнер оглянулся на входную дверь, проводил взглядом длинный солнечный луч, растянувшийся у его ног, и высоко поднял голову, словно прислушиваясь к чему-то. Он слышал, как Кайла надевает пальто и перчатки, слышал, как негромко Агна и Кайла говорят между собой, обмениваясь парой уточняющих фраз, в тоне которых скользило волнение, слышал… Резко повернувшись к двери, Харри замер.
— Агна, ждите меня здесь, — строго сказал он, не глядя на жену. — Не выходите.
Не оглядываясь, он быстро вышел за дверь.
Остановившись на том же месте, где только что стоял Харри, Агна с немой тревогой наблюдала через плотное витражное стекло за тем, как Кельнер, сделав несколько быстрых, широких шагов, остановился во дворе дома. Агне показалось, что в следующие несколько мгновений ничего не происходило, но в ее мыслях пробежала фраза «нет, всегда что-то происходит…», сделавшая ее еще внимательнее. Она смотрела на Харри со спины, не упуская ни единого его движения: ни легкого, кажется, ничего не значащего, поворота головы налево, ни такого же поворота головы направо… Вытянув руку из кармана теплого и длинного, светло-серого пальто, Кельнер вывел ее вперед.
Пара секунд, и серебряный, гладкий квадрат зажигалки скользнул обратно, в карман.
Агне даже показалось, что она видит, как на худом лице Харри, от глубокого сигаретного вдоха, резко очерчиваются скулы. Но если это и было так, то видеть этого она не могла. И все, что действительно было доступно ее взгляду, заключалось в высокой, недвижной фигуре Кельнера, на которую она смотрела со спины. Так прошло еще около минуты, может, чуть больше. Докурив сигарету, Харри посмотрел на окурок, зажатый между его длинными пальцами, и чему-то усмехнулся. Покрутив остаток сигареты, он ненадолго перевел взгляд в высокое, ясное небо, и посмотрел себе под ноги.
Еще одно мгновение, — и Агна увидела, как, затушив сигарету, Харри бросил окурок в урну, выставленную у края идеально чистой, вылизанной недавним дождем, дороги.
— Кайла, вы останетесь дома, — заявил Харри, вернувшись.
Посмотрев на Кайлу, он успел заметить во взгляде ее темных глаз испуг и непонимание, и пояснил:
— Я думаю, так будет лучше. Адрес Кете мы знаем, и как она выглядит, по вашим словам, — тоже. Оставайтесь здесь, отдыхайте. Только не выходите из дома. Еду только я и Агна.
Фразы были произнесены Кельнером вполне дружелюбно, но за этим первым впечатлением и Агна, и Кайла верно распознали уже принятое решение, обсуждать которое Харри был не намерен. Кайла кивнула, и, вежливо улыбнувшись, начала развязывать пояс пальто. Агна же, внимательно наблюдая за Кельнером, не сказала вообще ничего, только мимолетно улыбнулась Кайле, давая понять, что все в порядке, и для беспокойства нет причин. На самом деле, — думала Агна, выходя из дома вслед за мужем, — она этого не знает. И совсем в том не уверена. Что-то пошло не так сегодня днем, из-за чего Харри и приехал домой во время обеда, изменив их план, который они обсудили накануне. И что-то изменилось прямо сейчас, здесь, возле дома.
«Ладно, — вздохнув, подвела итог Агна, — может быть, Кайле действительно лучше остаться дома… Но как пройдет разговор с Кете?».
Женщину, о встрече с которой у Кельнеров и Кайлы было столько разговоров и тревог, звали Кете Розенхайм. Именно она, по описанию Кайлы, — невысокая брюнетка с ярко-голубыми глазами, — помогла ей и многим другим людям во время и после погромов, спасая их из-под завалов синагоги, и уводя в «безопасное место», которое, по предположению Кайлы, было собственным домом Кете.
Дорога к нему, как оказалось, была хорошо знакома Агне: напротив здания закрытого ныне ателье фрау Гиббельс, недалеко от тех домов, где уже очень давно она тайно виделась с Мариусом.
— За нами следят, — спокойно и тихо сказал Харри, когда, сев в автомобиль, он и Агна пристегивали ремни безопасности. — Не смотри назад, renardeu, — улыбаясь, шепотом сказал он. — Пусть наш наблюдатель будет уверен, что его планы безупречны.
— Кто он? — взволнованно спросила Агна, для которой наружная слежка, в отличие от куражного Кельнера, была все еще в новинку, и вызывала большое напряжение.
— Липовый страховой агент, Герхард Зофт, — улыбаясь краем губ, и смотря в зеркало заднего вида, ответил Харри, сдавая на «Хорьхе» назад.
— Как, он не… — пораженно прошептала Агна, но ее шепот перебила довольная фраза Харри:
— Наконец-то! Все встало на свои места!
Рассмеявшись, Кельнер посмотрел на Агну блестящими, веселыми глазами, и шепнул:
— Только не бойся. Все будет хорошо.
— Но что мы будем теперь делать?
— Поедем знакомиться с Кете, как и планировали.
Видя, что Агна его не понимает, Харри, жалея времени на объяснения, как мог, терпеливо, сказал:
— Все под контролем, фрау Кельнер. Доверься мне.
Он улыбнулся, и, смешно изогнув бровь, отчего его лицо стало непривычно-напыщенным, спросил:
— Вас учили уходить от преследования на автомобиле, Агна Кельнер?
— Тео… теоретически… — сбиваясь от подступившего волнения и внезапного, острого веселья при виде лица Харри, отозвалась Агна. — На практику не хватило времени.
— Считайте практикой эту погоню. Зачет принимаю я.
Подмигнув Агне, Харри азартно рассмеялся, словно это он был преследователем, а не добычей, и словно именно ему сейчас посчастливилось выйти на верный след своей жертвы.
* * *
Агна уже давно не смотрела по сторонам. И потому, что в этом не было никакого смысла, — размытый Берлин проносился мимо них, в окнах «Хорьха», на громадной скорости: через бульвар Унтер-ден-Линден, через Тиргартен, Фридрихштрассе, мимо старинной станции метро Штадтмитте, по Александрплатц, названную так в честь посещения Берлина российским императором Александром I…
В своей головокружительной поездке по «столице мира», среди визжащих на скорости шин и шума окружающих клаксонов, они даже зацепили угол Красной ратуши. Нет, не в прямом смысле, — Эдвард Милн филигранно проводил «Хорьх» через все перипетии городской автомобильной погони, четко и надежно управляя автомобилем, — но, к счастью, только образно.
Когда ратуша, показавшаяся в поле их зрения на долю секунды, мгновенно исчезла из него растянутой цветной кляксой без фокуса, Эл, уже немного привыкшая к невероятной скорости черного «Хорьха», — от которой в начале ей казалось, что ее вестибулярный аппарат, как и вся грудная клетка, вылетят к чертям на землю, — посмотрела на Эдварда.
Сосредоточенный, собранный, не отводящий пристального взгляда от дороги, Эдвард, казалось, вгрызался в каждый сантиметр пути не только взглядом невероятно ярких в эту минуту, горящих голубых глаз, но и всем своим существом. То улыбаясь, то снова становясь серьезным, он, как казалось Элис, завороженно рассматривающей его со стороны, стал единым целым с автомобилем, лавируя среди соседних машин так плавно и четко, что, несмотря на огромный страх, и сердце, бьющее набат где-то на уровне горла, она не могла отвести от него взгляда. «Никогда таким тебя не видела…» — снова и снова, в окружающем их шуме и скорости думала она, не заканчивая фразу. Это было правдой. Никогда, до этой минуты, она не видела Милна таким. Казалось, от его энергии, собранной в единственно значимой сейчас цели, — уйти от погони и запутать Зофта, еще не отставшего от них, могла расступиться сама земля.
Перехватив поудобнее поручень на двери, Элис крепче сжала его в руке, и отклонилась назад, плотнее вжимаясь в спинку удобного, высокого сиденья. С начала гонки, несмотря на то, что Зофт не сразу распознал, что его слежка раскрыта, состояние Эл сильно изменилось, переходя от абсолютной паники и страха к уверенности, что они смогут оторваться от своего преследователя. Идея, конечно, была безумной. Уходя от Зофта, они автоматически навлекали на себя, как минимум, подозрения. Но необходимость встречи с Кете была гораздо больше, чем последствия этой гонки, пока не известные им.
Лихо вывернув руль, Милн развернул автомобиль, и рванул назад, уходя, как оказалось несколько минут спустя, по узкой дороге, идущей параллельно главной, мимо Музейного острова, и той фразы на латинском, которую Эл, убегая несколько лет назад из ресторана, — после того, как узнала от Ханны об измене Милна, — так и не смогла прочесть. Еще пара минут пути, и «Хорьх», съехав с дороги, удачно припарковался, сливаясь с окружающими домами.
— Получилось… ушли, — хрипло прошептал Милн, оглядываясь по сторонам, и оседая от бьющего по венам адреналина и внезапно сковавшей его усталости, на руль. Прошло еще несколько секунд, и он откинулся назад, на спинку сидения. Милн дышал тяжело и шумно, приходя в себя. А Элис, отстегнув ремень безопасности, и все еще чувствуя слабость в ногах, молча придвинулась к нему, осторожно опуская руку на плечо Эдварда, и заглядывая в его сильно изменившееся лицо. Худое, оно показалось ей изможденным и предельно уставшим, выражающим все на свете, и, одновременно с тем, абсолютно пустым, медленно разглядывающим что-то в невидимой стороне реальности. Элис поспешно вышла из «Хорьха», обошла автомобиль, и открыла дверь с водительской стороны. Глядя на нее туманными глазами, Милн расплылся в широкой, закрытой улыбке.
— Он отстал от нас перед мостом, потерял из виду и не успел перестроиться… Ты заметила?
Лицо Эдварда снова изменилось, стало серьезным.
— Как ты? Идем, нам нужно к Кете!
— Подожди немного, — тихо ответила Элис, проводя рукой по виску Эда, покрытому сбегающими вниз строчками пота и все новыми, мелкими, бесцветными каплями.
Она с тревогой и нежностью смотрела в его глаза, в которых еще не осевший в крови адреналин бушевал волнами и блеском. Опустив взгляд, Эл с силой сжала левую руку Милна, дрожащую по всей длине. Их пальцы переплелись, и постепенно раненая рука Эдварда, вздрагивающая так, словно по ней пускали электрический ток, найдя в теплой ладони Эл опору, перестала дрожать.
* * *
— Повторяю вам: я не знаю никакой Кете! Я не знаю, кого вы здесь ищете!
Невысокая брюнетка с голубыми глазами, чья внешность абсолютно совпадала с описанием фройляйн Розенхайм, данным Кайлой, враждебно посмотрела сначала на высокого блондина, а затем на рыжую девушку, заявившихся сюда несколько минут назад, и уверенных, что она и есть та самая Кете Розенхайм, которую они ищут.
Уходить незнакомцы не спешили, и женщина, подпустив в свой едва заметно дрожащий голос больше громкости и резкости, снова пояснила:
— Я не знаю ничего из того, о чем вы говорите! Я никого не спасала, не помогала никаким людям, тем более во время погромов!
Брюнетка спряталась за дверь, пытаясь ее закрыть.
— Уходите, мне нечего вам сказать!
Входная дверь неприметного, серого дома, не встретив никакого сопротивления, хлопнула слишком громко, разнося по пасмурному двору далекое эхо.
Агна и Харри переглянулись, раздумывая над тем, как в оставшиеся несколько минут, — Харри Кельнеру нужно было успеть вернуться на работу до окончания обеденного перерыва, — уговорить Кете спокойно поговорить с ними.
Выступив вперед, Агна подошла к двери с только что осыпавшимся, — от сильного удара, — стеклом.
— Стекло в двери разбито. Кете, послушайте… Мы не причиним вам зла. Мы только хотели найти вас, и поблагодарить за помощь Кайле… Кайле Кац. Она работает у нас, ведет хозяйство…
Не встречая никакой реакции со стороны женщины, которую они приняли за Кете, Агна в растерянности оглянулась на Кельнера.
— Мы хотели приехать вместе с ней, но Кайле пришлось остаться дома, она беременна, и…
— Она в порядке? — тихо, совсем близко к Агне, словно это было сказано ей на ухо, раздался голос Кете.
— Да… уже да, — с робкой улыбкой, в которой еще было много недоверия к собственной удаче, ответила фрау Кельнер.
Женщина открыла дверь и снова внимательно посмотрела сначала на Харри, затем на Агну. Выдержав паузу, и пристально наблюдая за непрошеными гостями, она ответила:
— Хорошо. Я рада.
Агна, снова улыбнувшись, поспешно, будто все могло исчезнуть в любое мгновение, вытянула руку для приветствия.
— Я Агна Кельнер.
— Харри Кельнер, — добавил блондин, подходя к женщине.
Ответив на рукопожатия, она заметила с извиняющейся улыбкой на губах:
— Кете Розенхайм. Впрочем, это вы уже знаете. Чем я могу вам помочь?
— Понимаете, мы… то есть я…
Агна, множество раз представлявшая, как она произнесет следующую фразу, в последний момент разволновалась. Харри пришел ей на помощь.
— Кете, простите, что заявились вот так, без предупреждения. Но вы, может быть, единственный человек, который может нам помочь.
Кельнер откашлялся, и продолжил:
— Мы ищем Дану Кац, мужа Кайлы, Мариуса, мальчика примерно одиннадцати-двенадцати лет, и его маму. Вы были там, в синагоге, и Кайла рассказала, как вы помогли ей, и…
— Вы решили, что я знаю остальных? — договорила за Кельнера Кете.
— Да.
Женщина опять замолчала, размышляя о чем-то, и задумчиво произнесла:
— Дану Кац наверняка в лагере. Только в каком — не могу знать. Очень многих свезли в Дахау, он один из ближайших к Берлину… а этот мальчик? Как его имя?
— Мариус! Он Мариус! — горячо повторила Агна, с нетерпением ожидая ответа Кете.
— Как он выглядит?
— Я давно его не видела, сейчас он наверняка вытянулся, вырос, но… волосы темные, почти черные. И темно-карие глаза. Худой. Глаза от этого кажутся еще больше.
Агна замолчала, неотрывно смотря на Кете. Фройляйн Розенхайм отрицательно покачала головой, и с сожалением посмотрела на девушку.
— Боюсь, я не знаю такого мальчика, фрау Кельнер. Мне очень жаль. Нужны какие-нибудь особенности, отличительные приметы. Без них ваше описание слишком общее. Таких мальчиков может быть…
— Да! — Агна взмахнула рукой. — Справа, над ухом, у Мариуса прядь белых, седых волос, а… — девушка подняла глаза вверх, словно рассматривала что-то в высоте ясного неба. — …правое ухо, вершина, повреждена. Не знаю, что случилось, оно срезано или…
— Как именно «срезано», фрау Кельнер? — в голосе Розенхайм Харри расслышал волнение, чего Агна, поглощенная воспоминанием, уловить не могла.
— Почти по прямой, — смотря на Кете, — и буквально чувствуя, как что-то невероятное приближается к ней, прошептала Агна, проведя рукой по воздуху. — Но правый уголок рваный, неровный.
Кете Розенхайм шумно выдохнула.
— Да! — радостно сказала она. — Это наверняка он.
— Он жив?! Мариус жив?
Агна посмотрела на Харри, перевела взгляд на Кете, и снова вернулась взглядом к Кельнеру.
— Жив?
Кете молча кивнула, и, стараясь быстрее унять волнение, торопливо пояснила:
— Сейчас у меня уже мало времени. Но вы приходите завтра. Сюда. Вечером, в половине одиннадцатого. Я приведу сюда Мариуса.
— Приведете? Но где он? Можно его увидеть сейчас? Пожалуйста!
Кете с сожалением улыбнулась.
— Сегодня нет, фрау Кельнер. Но завтра... вам нужно подождать до завтра. Придете?
Кете вопросительно взглянула на Харри, и он молча кивнул, беря Агну за руку.
— Агна, нам тоже нужно идти.
— Да, сейчас! — девушка погладила Кельнера по руке, и обратилась к Кете:
— Вы уверены, что это именно Мариус?
— Почти абсолютно, — кивнула женщина, взволнованно улыбаясь.
* * *
Весь следующий день Элис была сама не своя. Работая дома, без необходимости ездить по домам клиенток, она то и дело отвлекалась от эскизов и выкроек. А когда, одергивая себя, снова вынужденно возвращалась к работе, и, стоя у безголового манекена, имитирующего женскую фигуру, закрепляла на нем готовый лиф черного, вечернего платья, толку от этого было немного: Эл была настолько сильно поглощена мыслями о встрече с Кете и о том, что сегодня она, наконец-то, увидит Мариуса, что все сыпалось из ее тонких, беспокойных рук. Возвращение в окружающую реальность помогало слабо, и, по давней привычке, Элис находила странное отрезвление тогда, когда красная нить, которой она перематывала ладонь, глубоко резала ее светлую кожу, перекрывая доступ крови к онемевшим пальцам Эл, и громким биением пульса сигналила ей о том, что пора очнуться, прийти в себя. Вечер, как и день, прошел для Элис как в тумане.
Милн, наблюдая за ней в таком пограничном волнении, хотел отвлечь ее шутками и легкими разговорами, но скоро понял, что это не помогает. И когда закончился ужин, и они, поднявшись в спальню, остались одни, Эд просто подошел к Эл, и крепко обнял девушку, медленно и успокаивающе проводя рукой по ее спине, и помня о том, как это всегда помогало ей в прошлом.
Немного успокоившись, Элис с сожалением взглянула на Милна.
— Прости, я…
— Все хорошо, Эл. Совсем скоро ты увидишь Мариуса.
Элис кивнула, крепче обнимая Милна. Земля, весь сегодняшний день уходившая у нее из-под ног, наконец-то, перестала плыть. Эл стало так тепло и уютно, что все остальное, — за пределом рук Эдварда, — показалось ей несуществующим. Улыбнувшись, она поцеловала его в шею, и положила голову на грудь.
— Поверить не могу, что увижу его! Прошло столько времени, он вырос… он уже не тот маленький мальчик, каким я помню. Ему сейчас примерно двенадцать лет…
Эдвард глубоко вздохнул, уводя взгляд вверх, за край высокой оконной рамы. В его мыслях мелькнул нескладный, высокий мальчишка, выросший вдруг, за одно лето. То самое лето, которое все в нем перевернуло.
Перед мысленным взором Эда показалась разбитая в автомобильной аварии машина его родителей, и он резко дернул плечом, желая отвязаться от мучительных образов. Но мысли того времени снова возникли в его памяти. Опять они, почувствовав, как его оборона ослабла, набросились на него с теми же вопросами: остались бы родители в живых, если бы они ехали в закрытой машине, а не в кабриолете?
Почему в ту поездку они отправились на кабриолете, которым пользовались реже, чем основной машиной отца? Им было очень больно? Воспоминания, прорвавшись, поглотили его. Он снова был там, на месте аварии. Над Мадлен Милн, которая уже перестала дышать, склонился врач и медсестра. Эдвард видел, как сестра, проверив пульс на запястье его мамы, посмотрела вверх, на врача, и покачала головой.
Эда оттеснили в сторону, и он, который все время, — с того момента, как оказался здесь, — просидел возле мамы, вдруг с ужасом понял, что до сих пор не видел отца.
Элтон Милн, в отличие от жены, от сильного удара не вылетел из автомобиля. Он остался в кабриолете, на своем водительском сиденье. Глядя на него, можно было подумать, что он только спит, но, приглядевшись сквозь слезы к фигуре отца, Эдвард сразу понял, что это — обман, пустая надежда сердца и мозга, отказывающихся верить в то, что уже произошло. Тело старшего Милна съехало в сторону, и именно его разбитая голова, упираясь в борт автомобильной, блестящей на жарком солнце, дверцы, создавала эту первую, обманчивую иллюзию сна.
Эдвард долго смотрел на отца. Он знал, что прежде, чем подойти к маме, врач и медсестра были здесь, и констатировали его смерть. Вытянувшись вперед, Эдвард сжал безвольную, теплую, руку отца. В голове пронеслась нелепая, — как и все, что случилось с его родителями, — мысль о том, что рука Элтона Милна может быть теплой не сама по себе, а только лишь потому, что она согрета солнцем.
— Согрета солнцем, согрета солнцем…. — невнятно бормотал Эд, удерживая руку отца.
Действительно еще теплая, она с глухим, едва уловимым стуком упала вниз, на сидение, как только мальчишка ее отпустил.
Погладив руку отца, Эд поправил ее, положив так, чтобы она выглядела естественно. Зацепившись за борт автомобильной дверцы, он застыл на месте, как оловянный солдатик. Только, в отличие от того, сказочного, у него было две ноги, и он не падал из окна.
Он просто выпал.
В эту страшную, совершенно новую для него реальность, где отныне всегда он будет остро чувствовать дыру в груди, — все свое дикое, стервенелое, непроходящее одиночество. С этой минуты оно станет его постоянным, глухим спутником, и будет становиться тише только тогда, когда в его личную, тщательно спрятанную от чужих глаз, одичалую пустыню оловянного солдатика сможет, со временем, проникнуть Эл.
— Ты здесь? Эд?
Элис погладила его по щеке, вглядываясь в отрешенный взгляд Милна, который, — все еще пребывая по ту сторону реальности, — помнил о том, как долго он, стоя на месте, вглядывался в лицо отца, стараясь его запомнить.
— Что? Да… здесь.
Взгляд Эдварда вернулся к лицу Эл, перешел на циферблат наручных часов, и голос Милна хрипло напомнил:
— Пора.
За этим словом последовали быстрые, молчаливые сборы, и совсем скоро две фигуры, выйдя из дома в Груневальде, сели в черный, блестящий в свете вечерних фонарей, «Хорьх», и уехали.
* * *
Все страхи и волнения долгого дня оказались напрасными. Это был Мариус. Эл поняла это сразу, как только увидела перед собой вытянутого вверх, худого и тонкого, еще неуклюжего в своих движениях, подростка. Рукава старой, поношенной куртки были коротки для его рук, а глаза, осматриваясь вокруг, оставались вражбедными и настороженными. В первые минуты, глядя на этого незнакомца, в фигуре и повадках которого уже ничего не напоминало того мальчика, который врезался в Гиринга на велосипеде, и сбил его с ног, Элис испытала робость. Но время, которого у всех, кто оказался на этой встрече, было мало, бежало вперед, требуя от Кете Розенхайм, Агны и Харри Кельнер, и Мариуса быстрых и четких действий. И потому, отогнав робость в сторону, и выходя вперед, Агна шагнула к Мариусу, и назвала его по имени.
Блестящие глаза мальчишки острым взглядом врезались в лицо Агны, требуя ответа на главный вопрос. Не узнавая девушки, он грубо сказал:
— Я вас не знаю.
Посмотрев в сторону Кете, он спросил:
— Мы можем уйти? Здесь опасно.
Заметив немой вопрос во взглядах Кельнеров, Кете, вздохнув, тихо объяснила:
— Мама Мариуса погибла.
На этих словах мальчик дернулся в сторону, сделал шаг на длинных ногах, и, не оборачиваясь к присутствующим, осадил тихий шепот Кете резким криком:
— Она не «погибла»! Ее убили!
— Мариус, тише! Пожалуйста! — зашептала Кете. — Нас могут услышать!
— Могут, — с издевкой согласился парень. — И пусть слышат! Пусть слышат! Слышат все, и те, и эти!
Мариус обвел яростным взглядом Кельнеров.
— Может быть, такие как эти, ее убили? Или вы ее убили? — заложив руки в карманы брюк, и наклоняясь вперед, уточнил мальчишка.
После этих слов высокий блондин, пришедший вместе с девушкой, которая заявила, что знает его, Мариуса, быстро вышел, схватил парня за руку, и, не обращая внимания на его сопротивление, протащил на несколько шагов вперед.
— Все сказал? — резко уточнил Кельнер, зная, что Агна и Кете наблюдают за ними, стараясь услышать их разговор. — Все?!
— Да… — теряясь от напора Харри, глухо подтвердил Мариус.
— Теперь слушай меня. Я — Харри Кельнер, девушка, которая сказала, что знает тебя — моя жена Агна. Она говорит, что несколько лет назад, когда тебе было около семи, ты спас ее, врезавшись на велосипеде в одного мужчину. С тех пор, как я знаю со слов Агны, вы иногда виделись. Она давала тебе деньги и сладости, но…
— Фея… — едва слышно шепнул Мариус, выглядывая Агну за плечом Кельнера.
Не услышав Мариуса, Харри быстро продолжал:
— Поверь, мне очень жаль, что твоя мама погибла. Жаль, что ты оказался во всей этой… — Кельнер замолчал, не зная, как закончить фразу. — … Но мы, я и Агна, хотим помочь тебе. У тебя есть возможность уехать в Великобританию.
— Я никуда не поеду! Я буду бить этих тварей! — громко заявил парень, обходя Харри, и широким шагом направляясь к Агне.
Но прежде, чем он успел к ней подойти, Харри его остановил.
— И умрешь до того, как сумеешь отомстить кому-то из них.
Харри посмотрел в глаза мальчишки пристальным, блестящим сочувствием и болью, взглядом.
Молчание прервал сорвавшийся от слез голос Мариуса.
— Они убили мою маму!
Всхлипнув, он опустил голову вниз.
— Я знаю, Мариус. Мне очень жаль… — прошептал Кельнер, обнимая его за острые, худые плечи.
Мучаясь от неизвестности, и не понимая, что происходит, Агна подбежала к Харри и Мариусу. Услышав шаги, мальчик повернул голову в ее сторону, и глядя на нее сквозь слезы, прошептал:
— Вы ведь фея, правда?
Слезы крупными каплями потекли по его щекам, и когда Агна, с болью глядя на него, улыбнулась, из груди Мариуса вырвался глухой стон. Закрыв рот ладонью, он, смущаясь, освободился от рук Харри, и, ни на кого не глядя, пошёл вперёд.
— Мариус, подожди!
Агна догнала его, и остановилась, не зная, что сказать. Помолчав, она мягко напомнила:
— Мы хотим помочь тебе. Ты можешь уехать, ты должен! Должен жить!
Мариус поднял на неё чёрные, блестящие глаза, и, преодолевая спазмы, которые ещё душили его, проговорил:
— Я поеду только если вы этого хотите!
Агна кивнула.
— Я хочу, чтобы ты уехал, хочу, чтобы ты жил.
— Хорошо. Я сделаю это ради вас.
— Сделай это ради себя, Мариус.
Мальчик, думая о чем-то, наклонил голову в согласии, и спросил о том, что не давало ему покоя:
— Вы — фея? Та девушка…
— «Фея»? — Агна удивленно посмотрела на него.
— Это же были вы, правда? Вы дали мне шоколад, плитку! И золотые монеты. У вас еще было белое платье, летнее… — вспомнив что-то, Мариус горячо прошептал, — это вы плакали? Я помню! Вы плакали!
Агна отвела глаза в сторону, и прошептала:
— Ты поедешь?
Мариус кивнул, и увидел, как на губах феи расцветает улыбка.
С Мариусом и Кете Агна и Харри встретились снова через неделю. Но не на прежнем месте, которое Кете считала крайне небезопасным, а у нее дома, в районе Тиргартен.
Здесь, в доме, расположенном на окраине, в числе последних зданий, и жила Кете Розенхайм. Квартира, небольшая и уютная, была обставлена скромно, но со вкусом. Единственную комнату, одновременно служившую спальней, гостиной и рабочим кабинетом, по-прежнему занимала сама Кете.
А небольшой чулан, расположенный рядом с кухней, она, как могла, переделала в комнату для Мариуса, и теперь здесь, в этой аскетичной мальчишеской спальне, кроме узкой кровати да небольшого круглого окна, расположенного под самым потолком, и закрытого снаружи красивой витой решеткой из черных прутьев, был только деревянный стул с высокой спинкой. Поставленный рядом с кроватью, он служил Мариусу столом, и на нем мальчик оставлял несколько книг да огарок небольшой желтой свечи в белом подсвечнике с медной ручкой. В полу комнаты, под небольшим ковром, брошенным на пол именно для этой цели, был скрыт люк, ведущий в погреб.
И если облава тайной полиции, которой постоянно опасалась Кете, и о которой ни она, ни Мариус не смели забывать, пойдет не по плану, то в кухне, — за деревянной белой дверью, похожей на дверь шкафа для посуды, — очень удачно был расположен черный ход. Петляя вниз крутыми поворотами и ступенями, он выводил человека на уличный двор, в своеобразный колодец, составленный из домов, пройти или пробежать по которому можно было только человеку, — для автомобиля это пространство было слишком ограниченным.
После первой встречи с Мариусом, в разговорах с Харри, которые они, по давней привычке, сложившейся уже здесь, в Берлине, вели по ночам шепотом или тихими голосами, часто переходя на английский и французский, Агна продолжала настаивать на том, чтобы Мариус теперь жил у них, в новом доме Кельнеров в Груневальде.
Харри был против.
Но не потому, что не хотел помочь мальчику, смотревшему на Агну, — с тех пор, как он узнал, что та «фея», которую он помнил, это именно она, — неотрывно, огромными, черными глазами, в которых горела боль, злость, недоверие и затаенная надежда. А потому, что прятать в одном доме и Кайлу, и Мариуса Кельнеру казалось неоправданным риском. Он пытался убедить Агну, что Мариусу лучше оставаться у Кете, но она, наконец-то дождавшись встречи с мальчиком, к которому, во многом, относилась как к сыну, и который, к ее огромной радости, был цел и невредим, отказывалась слушать Харри.
Разум Эл говорил ей, что Эдвард прав. К тому же, Кете была того же мнения, что и Кельнер, но сердце Элис требовало, чтобы мальчик был рядом, чтобы она могла заботиться о нем и защитить его при необходимости. О том, что Мариусу были уже не те семь лет, — в которых Элис помнила его, — а двенадцать, она постоянно, особенно в первое время, забывала.
Так, на почве споров и неоднократных разговоров о Мариусе, между Агной и Харри начался разлад. Из бурного и многословного, — в первое время, — он постепенно стал молчаливым и глухим. Устав от одних и тех же слов, и не находя взаимопонимания, Агна и Харри, не желая вести пустые разговоры, все чаще молчали о том, что касалось Мариуса.
— С ним все хорошо, — спокойно, с простой констатацией факта, сказал Харри, когда они отъехали от дома Кете.
— Да, — глухо ответила Агна, смотря через окно на засыпанные снегом зимние аллеи Берлина, мелькавшие мимо, в узких проходах домов.
Этот, тридцать восьмой год, как и все предыдущие, тоже плавно подходил к концу. Сразу после случившихся в начале ноября погромов, очень многие шептали в ужасе, что «точка невозврата», — как они называли организованные нацистами массовые беспорядки, — пройдена. «Пути назад нет». Эту фразу повторяла даже Кете, которой еще пять лет назад, по причине того, что она была halbjude, — хотя отец ее, несмотря на «неправильное» происхождение, был замечательным врачом, — вынесли запрет на трудовую деятельность. До него Кете работала ответственным референтом по благотворительности в полицейском управлении Берлина, а после увольнения стала активной участницей «Благотворительного общества евреев в Германии». К тому же, в последнее время все больше сил фройляйн Розенхайм уходило на организацию программы «Киндертранспорт», в рамках которой в Великобританию вывозили детей из Германии, бывшей Австрии, бывшей Чехословакии и вольного города Данциг. Дети, возрастом от младенцев до семнадцати лет, уезжали без родителей. И почти все они, уезжая с вокзала в Берлине, и следуя сначала до города Хук-ван-Холланд (близ Роттердама), а затем морем до английского порта Харвич, и — снова поездом, до лондонской станции «Ливерпуль-стрит», где их распределяли по приемным семьям или интернатам, — видели маму или папу в последний раз.
При расставаниях было много детских и взрослых слез, и обязательное денежное поручение, закрепленное за каждым ребенком. Оно составляло пятьсот фунтов, было призвано гарантировать возвращение детей на родину после скорого, — как было уверено английское правительство, — окончания опасных для их безопасности и жизни событий, и могло обмануть, пожалуй, только самых маленьких малышей, уезжающих в Лондон практически без личных вещей и даже без игрушек (девочкам было запрещено брать с собой куклу).
Остальные невольные пассажиры и провожающие их вряд ли питали какие-то иллюзии о новой встрече. И если один из нескольких детей в семье еще мог быть спасен программой «Киндертранспорт», то его родители, братья и сестры, оставшиеся в Германии, почти наверняка в скором времени попадали в лагерь.
Обо всем этом Харри и Агна узнали от Кете при последующих встречах. Сама же фройляйн Розенхайм, услышав от Кельнера о его прошлом неудачном разговоре с Фрэнком Фоули, — сотрудником английского консульства в Германии, — вызвалась организовать новую встречу с ним: она была знакома с Фрэнком лично, и заверила Кельнеров, что Фоули, узнав подробности «дела Мариуса», не откажется помочь.
Крайне воодушевленная, как и Агна, — которая буквально светилась при разговорах с Кете и Мариусом, — реальной, хотя и чрезвычайно непрочной и опасной возможностью помочь мальчику, Кете была полна решимости и энтузиазма.
— Уверена, что смогу убедить его помочь нам, ведь он сам наверняка занят организацией отъездов детей из Берлина, — заключила Кете.
— Я пойду с вами, — быстро добавила Агна, краснея от волнения и не отвечая на многозначительный взгляд Харри, обращенный к ней. — Нужно узнать, может ли он помочь с отъездом Кайлы. Время идет, ее беременность становится все более заметной, и мы не можем ждать дольше.
— Не думаю, что это удачная идея, Агна. Кете знает Фоули, ее появление в консульстве не вызовет подозрений, — заметил Кельнер.
Агна повернулась, и с вызовом, высоко подняв голову, посмотрела на Харри.
«А мое — вызовет?» — спрашивал Эдварда бесстрашный, требовательный взгляд Эл.
И пусть он, — с учетом высокого роста Харри, и небольшого — самой Агны, — был направлен снизу вверх, силы, горевшей в нем, взгляд ничуть не растерял.
Выдержав вызов, Эдвард ответил Эл не менее твердым, но спокойным взглядом, в котором она верно прочла то, что было известно только им двоим: Элисон Эшби, играющей в Агну Кельнер, идти в британское консульство небезопасно.
— Думаю, так будет даже лучше, — заметила Кете, еще больше подогревая молчаливое противостояние Кельнеров.
Повернувшись к Кете, Агна чудесно улыбнулась, показывая в улыбке белоснежные, ровные зубы, и привлекательную ямочку на левой щеке.
— Он читает «Дон Кихота» и «Квартеронку», — продолжал Харри разговор, увеличивая скорость.
— И Ремарка, — тихо добавила Агна, по-прежнему провожая сосредоточенным взглядом снежные берлинские улицы.
— А вот это уже опасно…что именно?
— Что? — не понимая, спросила девушка, бросая на Кельнера быстрый взгляд.
— Что именно из Ремарка читает Мариус? — с нотой внезапного раздражения, неожиданного для самого себя, отозвался Харри.
— «На западном фронте без перемен».
Кельнер помолчал, а затем озадаченно произнес:
— Я не заметил этой книги в его комнате.
— Она не в комнате. Мариус носит ее с собой, он показал мне это самодельное издание.
Харри усмехнулся.
— Я так и думал. Он действительно влюблен в тебя.
Отводя взгляд от дороги на долю секунды, Кельнер взглянул на Агну, чтобы увидеть ее впечатление от этих слов, но девушка не смотрела на него, занятая то ли однообразно-белым видом за автомобильным окном, то ли своими мыслями. После долгого молчания она перевела взгляд прямо перед собой, и насмешливо сказала:
— Если послушать вас, герр Кельнер, то выходит, что в меня влюбляется едва ли не каждый мужчина. А теперь еще и Мариус? Не кажется ли вам, что это слишком?
Снова возникла пауза, «Хорьх» свернул в переулок, отбрасывая снежную крошку на дорогу, и Агна попросила остановиться: они приехали по нужному адресу.
В двухэтажном доме, напротив которого был установлен закрытый в холодное время года фонтан, жила ее сегодняшняя клиентка. Сжав в руке ремешок темно-коричневой сумочки, девушка нажала на дверную ручку, но остановилась. Оглянувшись на Харри, она спокойно и твердо сообщила:
— Я пойду на встречу с Фоули.
Кельнер сделал глубокий вдох.
— От этой встречи зависит очень многое, Харри. Ты сам это знаешь. Я просто хочу, чтобы ты знал, — я пойду… знал как главный агент.
Последние слова она произнесла трудно и совсем тихо.
— Как «главный агент»? — невесело усмехнувшись, переспросил Харри.
Агна молчала, опустив голову вниз. Сделав глубокий вдох и выдох, Харри сказал то, что, — он был уверен, — ей известно и без его объяснений:
— Как главный агент, я настоятельно прошу тебя хорошо подумать, прежде чем идти на эту встречу. Кете не знает всего, и потому она не может быть против. Но я говорю тебе, что визит фрау Кельнер в консульство Великобритании может вызвать лишнее внимание.
Харри потянулся к Агне, и мягко повернул лицо девушки к себе, чтобы видеть выражение ее глаз, которые всегда сообщали ему гораздо больше, чем говорили ее губы.
— А у нас на хвосте, renardeau, как минимум, двое: Зофт и Хайде. И ни один из них, даже не слишком смышленый старина Эрих, не упустит ни единой возможности подсолить нашу дорогу. А Зофт гораздо опаснее его.
— Здесь все и всегда может вызвать «лишнее внимание». Тем более, Харри Кельнера этот Фоули тоже не стал слушать. Тогда, может быть, стоит попробовать мне? Я буду не в большей опасности, чем ты, когда говорил с ним. К тому же, renardeau умеет быть осторожной, — смутившись к концу фразы страстного взгляда Кельнера, скользнувшего от ее глаз вниз, к полным губам, прошептала Агна.
Вложив руку в белой перчатке в ладонь Эдварда, которой он держал ее за подбородок, Эл сжала его пальцы, опустила их руки вниз, и, отклонившись в сторону, посмотрела на Милна в профиль. Волна прохладного воздуха прошла по его щеке, и он успел заметить только уголок ее чувственных губ, растянутых в закрытой улыбке, с которой она смотрела на него. Эдвард замер. А Эл, во взгляде которой вдруг промелькнула какая-то задорная мысль, нежно провела пальцами по его щеке, и приникла к ней в поцелуе, слишком долго задерживая губы на коже.
— Дразнишь меня, — хрипло уточнил Милн, приподнимая светлую бровь.
— Нисколько, — глядя в глаза Эдварда, заверила Эл. — Просто…
Не отводя взгляда от лица Милна, Элис медленно провела рукой по его груди, скрытой за мелкими пуговицами безупречной, белой рубашки. Ее узкая ладонь с длинными, тонкими пальцами нежно прошла вниз, и сменила траекторию движения влево именно в тот момент, когда во взгляде Эдварда разгорелись искры. Мимолетно проведя рукой по той точке, в которой его сердце билось в гулких ударах, Эл вернулась назад, бережно накрыла ее ладонью, и улыбнулась, задерживая на ней свою теплую руку. И когда Милн, окончательно недвижимый, замер, слушая каждое движение Эл, ее рука вытянула из внутреннего кармана пальто Харри Кельнера белоснежный носовой платок.
Продолжая тихо улыбаться, Элис убрала его мягким, сложенным вдвое углом, след от своей помады со щеки Милна.
— … Словесное сообщение было для старшего агента, а это, — она еще раз коснулась уголком платка щеки Эдварда,— …для мужа.
С этими словами, бросив на Милна поистине лисий взгляд через плечо, она плавно вынырнула из «Хорьха».
* * *
Когда Харри Кельнер, быстро прошагав приемную широкими шагами, зашел в свой рабочий кабинет, там обнаружился Эрих фон дер Хайде. Развалившись в удобном кресле Харри, он отъехал от письменного стола, и теперь сидел, задумчиво глядя в стену. Документы, до этого педантично разложенные Кельнером на столе в аккуратные, ровные стопки, были небрежно сдвинуты в сторону. А в центре стола, поблескивая разноцветными искрами в луче утреннего солнца, стоял пустой хрустальный бокал для виски.
— Как же ты скучно живешь, Кельнер… ни выпивки, ни интересных бумаг, ни черта!…— со злостью и долей флегматичной грусти объявил Хайде, не глядя на Харри.
Уставившись тяжелым взглядом в пустой бокал, Эрих усмехнулся, и поднял на хозяина кабинета темно-синие глаза, разбавленные пунцовыми линиями лопнувших капилляров. Кельнер улыбнулся, — вежливо и ложно, — и прошел в кабинет, плотно закрывая за собою дверь. Остановившись, он посмотрел на Хайде, и, не выразив никаких эмоций, не спеша подошел к столу.
Встав за стулом, предназначенным для посетителей, Кельнер опустил руки на его деревянную спинку, и, слегка наклонившись вперед, внимательно вгляделся в лицо агента контрразведки «Фарбениндустри». Затем блондин, по-прежнему неторопливо, снял черное, зимнее пальто, отошел к высокому шкафу, блестящему лаком по светло-янтарному дереву, и, — должно быть, точно так, до последней мелочи, он складывал нудные документы в не менее нудные стопки, — принялся долго расправлять пальто на широких плечиках. Послышался краткий скрип от закрытой дверцы шкафа, звук пары уверенных шагов и протяжный перестук ножек стула, отодвинутого от стола. Затем наступило молчание, не нарушаемое с обеих сторон.
Хайде, уже давно ожидавший со стороны Кельнера взрыва, и не дождавшийся от него даже немного удивления, закипел первым. Резко и высоко вскинув полу-лысую голову, он посмотрел на Харри. Встретил спокойный, даже приветливый и немного сочувствующий взгляд. И взвился, вскакивая из кресла, еще больше. Не сразу сообразив, что, — кроме «скучной жизни» да отсутствия алкоголя на рабочем месте, — предъявить Кельнеру, к тому же, внимательно, с издевательской, — как казалось воспаленным мозгам Эриха, — улыбкой, следившему за ним, нечего, Хайде в растерянности остановился рядом со стулом, на котором, — с прямой спиной, расправленными плечами и спокойно сложенными руками,— сидел Харри.
От Эриха шла почти осязаемая волна гнева, и он, не зная, что с ней делать, и полностью подчиняясь ей, с яростью смотрел на Кельнера, который, с того момента, как «старина Эрих» оказался рядом с ним, более не разглядывал его лицо, занятый, кажется, только собой и своими мыслями.
Бросая по сторонам яростные взгляды и искрутившись на месте, Хайде дошел до того, что едва не упал. В последний момент он сумел уцепиться скрюченными от злой судороги пальцами за край стола. Эрих выпрямился, пыхтя, и еще некоторые время молчал, очевидно, собираясь с силами. Наконец, отдавая себе нежелательный отчет в том, что Кельнер снова его «обставил», он медленно, с остановками от все еще кипящего внутри негодования, спросил:
— Что… такое… происходит?
Выдержав долгую паузу, которую Хайде, дышавший через громадно расширенные ноздри, снова пережил с трудом, Харри, не глядя на него, тихо сказал:
— Не знаю, Эрих. Ты мне скажи. Что происходит?
«Я обыскал здесь все, что мог, и ни черта не нашел!» — в отчаянии, мысленно, вопил Хайде, хватаясь рукой за остатки волос на большой, блестящей голове. Кивнув, Эрих заходил по кабинету, сцепив руки за спиной.
— Я говорил с твоей секретаршей, Кельнер.
Хайде ткнул подбородком в стену, за которой находилась приемная вместе с фройляйн Кох.
— Ты вышел на работу несколько дней назад, но уже успел сильно опоздать к началу рабочего дня.
— Я вышел на работу пять дней назад, и приехал сюда утром понедельника позже начала рабочего дня потому, что осматривал развалины моего дома, Эрих.
Проговорив имя сотрудника контрразведки, Кельнер пристально посмотрел на него. Он произносил слова не отводя глаз от лица Хайде, по-прежнему уверенно и спокойно, — так, словно вколачивал каждое из них в блестящий испариной лоб «старины Эриха».
— Мой дом взорвали, Эрих. Тебе наверняка это известно. Я едва не умер. Потом оказался в больнице. Неужели все это не находит в твоей душе понимания и сочувствия?
Хайде помотал большой головой, не понимая интонацию Харри, — «он говорит иронично или всерьез?» — поковырял указательным пальцем в ухе, и уставился в лицо Кельнера тусклым взглядом жутких, — в свете кровавых капилляров, — глаз.
— Я слышал про взрыв и поджог, Кельнер. Говорят, у тебя угнали «Мерседес» и «Харлей»? Правда?
В голосе Хайде бурлило неподдельное любопытство.
— Не угнали, Эрих, — Харри нагнулся вперед, словно хотел рассказать близкому другу большой секрет. — А сожгли.
— Ай-яй! — Хайде затряс рукой так, будто ее обварили кипятком. — Правда?
Кельнер отклонился на спинку стула, продолжая следить за неубедительной пантомимой усталого Эриха. В мыслях Харри даже мелькнуло предположение, что сам Хайде к ней не очень готов.
— Так значит, ты ездил на развалины дома утром в понедельник, чтобы поплакать?
— Именно. Я ведь очень сентиментален, Эрих.
Из Эриха после этих слов вырвалось что-то среднее между звуком перебитого дыхания и желанием похохотать во всю глотку.
— Я тебе не верю, Кельнер.
Вытянув из кармана пиджака пачку сигарет двумя длинными пальцами, Харри открыл ее не глядя. Раздался глухой, дробный и едва уловимый стук. Обернувшийся на него Хайде увидел, что Кельнер, отстучав сигарету о лицевую сторону красной пачки Amateur, смотрит прямо на него. Эрих инстинктивно сглотнул. И тут же в мыслях отругал себя за это. Взгляд Харри ему не нравился. Как и то обстоятельство, что блондин, проделывая все эти манипуляции, которые обычно проделывает с сигаретами заядлый курильщик, вовсе, кажется, не был заинтересован в том, чтобы, наконец-то, начать курить.
Хайде вдруг самому до ужаса захотелось курить. Настолько сильно, что при взгляде на сигарету в руке Кельнера у него выделилась слюна. Пожевав губами, Хайде отвернулся к окну. Он решил, что будет держаться. Кельнер же, заметив во взгляде Эриха жажду, подвинул пачку и зажигалку к центру стола, и сделал веерообразный жест рукой, предлагающий Хайде сигарету. Эрих отрицательно покачал головой.
«Нет, меня этим не проймешь!» — радостно думал он. Но, вдохнув запах сигаретного дыма, нервно дернулся от жажды табака.
— Может, ты сам поджег свой дом? Чтобы получить выплаты? — предположил Хайде, быстро проговаривая слова, чтобы отвлечь себя от желания курить.
— Ты же умный, Эрих. И понимаешь, что никакие выплаты не покроют реального ущерба. Хотя я уверен, — у нас лучший страховой агент, и он сделает все возможное, чтобы выплаты были полными. Герхард Зофт. Знаешь его?
— Нет! — раздраженно ответил Хайде. — Не отвлекай меня! Ближе к делу!
— Хорошо. Только к какому?
— Ты издеваешься?
— Нет, герр Хайде. Я действительно все еще не могу понять цель вашего визита.
— Я из контрразведки, мне не нужна причина для того, чтобы прийти сюда! — прокричал Хайде, ударяя кулаком в подоконник.
Харри вдавил в дно пепельницы окурок сигареты.
— Я говорил с твоей секретаршей, — повторил Хайде.
— Софи. Это ты уже сказал.
— Не перебивай меня! — Эрих повернулся к Харри лицом. — Зачем ты дал ей поручение составить список новых заключенных, поступивших в лагеря после погромов?
Эрих вздохнул, должно быть, решив держать паузу, но тут же сдал карты, выбрасывая на стол перед Харри несколько листов с отпечатанным на машинке текстом. Короткие строки, бодро шествуя друг за другом, шли по листам сверху вниз, складываясь в объемный список имен и фамилий. Сколько именно имен было в этом списке, Кельнер не знал: он увидел их только сейчас, с подачи Хайде. Очевидно, Софи подготовила его некоторые время назад, и оставила на столе Харри. Эрих же, страдая неуемным любопытством стареющего контрразведчика, конечно, не сдержался, и присвоил бумаги себе. «Вот только успел ли ты придумать, как можно лучше их использовать?» — мысленно спросил Харри, не глядя на Хайде. Бумажные листы упали на столешницу почти беззвучно, с едва слышным плеском.
— Вот этот список!
Харри посмотрел на подъехавшие к нему по глянцевой поверхности стола листы, и, не притрагиваясь к ним, усмехнулся.
— Оказывается, Софи выполнила поручение… Иногда, — доверительным тоном пояснил Кельнер, замечая вопрос во взгляде Хайде, — она задает слишком много вопросов и не торопится исполнять мои задания.
— Отвечай, Кельнер. Иначе я арестую тебя. Зачем тебе список?
— Этого я не могу сказать, Эрих. Как это? «Тайна следствия»? Вы так говорите в контрразведке?
Хайде подскочил к Кельнеру и схватил его за воротник пиджака.
— «Не можешь сказать»? Посмотрим, что ты ответишь в подвале, на допросе!
Толкнув Харри назад, на спинку деревянного стула, он начал кружить вокруг него тяжелыми шагами. Не останавливаясь, Хайде заломил левую руку Харри. Услышав от Кельнера сдавленный стон, Эрих остановился, послушал хрипы, и выкрутил руку еще больше, до хруста. Затем он довольно улыбнулся.
— Говорят, твоя левая рука дрожит после огнестрела?
Кровавые глазки Хайде с наслаждением следили за переменами в лице Харри. Особенно за тем, как спазмы резкой боли, звук которой Кельнер едва удерживал за сомкнутыми губами, все больше и больше меняли его лицо и выражение глаз. Из светло-голубых они стали темными, почти синими, а взгляд так обострился от боли, что Харри, согнувшийся пополам и уже обнявший свою руку, закрыл глаза, не желая быть объектом наблюдения Хайде.
— И вот тебе уже не смеется, Харри, правда? — почти пропел в лицо блондина Эрих.
У двери раздалась дробь шагов, и Софи, пунцовая то ли от страха перед тем, что без предупреждения зашла в кабинет начальника, то ли от любопытства, просунула голову в дверь.
— Боже! — вскрикнула она, смотря на Кельнера, и неловко протискиваясь в кабинет. — Что вы делаете?!
— Уходите, фройляйн Кох! Иначе вас я тоже заберу на допрос! — закричал Хайде, поворачиваясь к ней.
— Идите, Софи, — вступил в разговор Харри.
Видя, что секретарша застыла на месте, он, как можно утвердительнее кивнул головой. Помявшись на месте, и переступив с ноги на ногу, Софи исчезла за дверью. А Хайде, проводив ее взглядом, облизнул губы и спросил:
— Как это у тебя получается? Эта тоже смотрит на тебя как влюбленная кошка!
— Удачная тема для разговора, Эр…
Придерживая обвисшую левую руку, Кельнер с хрипом выпрямился на стуле.
— И эта, и твоя любовница Ханна Ланг. Я видел вас. А стоило спросить о тебе, как она, — в голосе Эриха зазвучала явная зависть, — заволновалась. Почти так же, как эта Софи.
Хайде помолчал, и философски изрек:
— Бабы все одинаковые.
— Я вижу, тебя эта тема… волнует?
Харри оскалился, с усилием фокусируя взгляд на плывущем перед ним лице Эриха.
— Не отключайся, Кельнер, твой допрос будет не здесь.
Хайде сдержал слово. Допрос Кельнера проходил в подвале. Надев на Харри наручники еще в кабинете, Эрих не смог удержаться от того, чтобы демонстративно провести закованного по рукам Кельнера через приемную.
Софи, увидев их, глухо вскрикнула, закрывая накрашенные губы ладошкой. Посмотрев по сторонам, она схватила телефонную трубку, но рука Хайде с силой вернула ее на рычаг. Указательный палец Эриха предупреждающе помахал перед лицом секретарши, и нажал на кончик носа Софи. Кох залилась краской, а Хайде, очень довольный собой, продолжил конвой Кельнера в подвал.
Они спустились по другой, должно быть, главной лестнице, но Харри не сомневался: «кабинет», в котором он оказался теперь, — был тем же, в котором Кельнер нашел и сфотографировал бумаги Хайде.
* * *
От дома клиентки до консульства Великобритании Агна решила пройти пешком: ей хотелось прогуляться и подышать воздухом после очередной примерки очередного платья, которое она шила для фрау Кнутт, и которое, — с учетом часто меняющихся пожеланий, — требовалось, в очередной раз поправить.
За время примерки Агне с самым невозмутимым видом удалось узнать важную информацию, которая касалась, в том числе, и Польши. Она хорошо помнила весь разговор. Но сейчас, неторопливо шагая к зданию на Фридрихштрассе, ей хотелось думать не об этом. Все, что касалось разведки, Элис любила обсуждать с Эдвардом.
Он, конечно, ничего не говорил о своих прошлых заданиях, но для нее было важно другое: они заняты одним, общим делом. И пусть разведка всегда была опасна, и требовала постоянной бдительности, Эл очень нравилось обсуждать с Эдом все, что касалось того или иного задания. Они были вместе, — именно это стало для нее главным. И вместе они находили выходы из отчаянных, на первый взгляд, происшествий. К тому же, Элис очень многому училась у Милна. И пусть сама она разведчиком себя по-прежнему не считала, продолжая придерживаться того же мнения, которое высказала однажды Баве: «Если бы не Милн, я давно бы провалила все задание», ей нравилось узнавать от Эдварда то, что касалось разведки. Еще больше профессиональных вопросов Эл любила наблюдать за Милном. За тем, как он ведет тот или иной разговор. За тем, как внешне, казалось бы, небрежно и спокойно задает самые простые вопросы, тогда как каждое слово в них прежде выверено им на соответствие той задаче, которую он планирует решить тем или иным вопросом… Занятая подобными мыслями и воспоминаниями, Эл повернула к зданию консульства, возле которого ее должна была ждать Кете.
«Дразнишь меня», — прошептал голос Эдварда в ее мыслях. Элис улыбнулась и едва не рассмеялась от воспоминания, и от того, что в словах Милна не было вопроса. Было только утверждение. Вовремя прикрыв губы тыльной стороной ладони, Агна Кельнер посмотрела по сторонам, и помахала Кете Розенхайм.
— Я ничем не могу вам помочь, — повторил Фоули, глядя на фрау Кельнер. — Я помню вашего мужа, и разговор с ним у нас тоже не сложился.
Фрэнк остановил на ее лице внимательный взгляд, и снова почувствовал, как земля, — до появления Агны Кельнер в его кабинете надежная и твердая, — уплывает из-под ног.
Это впечатление началось при первом взгляде на девушку, и усиливалось при каждом следующем, который Фоули хотел сдержать, но, черт знает почему, не мог. Его это ужасно раздражало. И потому Фрэнк Фоули, серьезный и ответственный сотрудник британского консульства в Берлине, желая скрыть свою внезапную, абсолютно непонятную слабость, вел себя гораздо строже обычного, — в надежде на то, что это поможет, и не выдаст его, взрослого мужчину, пребывающего в том немом изумлении, которое он испытывал от присутствия этой девушки.
Но вот пространство, ставшее безвоздушным, когда он обращался к Агне Кельнер, — ее почему-то не пугал его резкий, почти хамский тон, — было равнодушно и глухо к желанию Фоули сохранить свое лицо, реноме…. Или что там еще беспокоит людей при встрече, которая, случившись, одним своим фактом, переворачивает всего человека и всю его прошлую жизнь? Фрэнк неуютно поерзал в кресле. «Что происходит?» — спрашивал он себя снова и снова, удивленный своим поведением до крайней степени. Ответа не было.
И водоворот, против которого он был бессилен, с легкостью и без тени смущения продолжал поглощать Фрэнка Фоули, одетого этим морозным декабрьским утром в теплый, клетчатый костюм-тройку, а вместе с ним — его сердце и душу. Все это было совершенно непонятно и бесило тем больше, что Фоули был, — таким он сам себя считал, — «натурой совсем не романтического свойства». Он не только сам так думал о себе, он всегда знал себя именно таким! Но Агна Кельнер… Почему она не уходит, не оставляет попыток отправить какого-то мальчишку в Лондон?
Раздраженный нахлынувшей на него жаркой волной, Фоули нетерпеливо помотал головой, полагая, что это от костюма, который оказался слишком теплым.
Сотрудник консульства вернулся взглядом к симпатичному лицу Кете Розенхайм, с которой был знаком задолго до этой встречи. Раньше они довольно часто сталкивались по работе, и Фрэнк знал, что Кете, несмотря на увольнение и запрет трудовой деятельности, не оставляет тайных попыток помочь как можно большему числу евреев бежать из Берлина. В некоторых таких случаях, — они, к счастью, окончились удачно для всех действующих лиц, — Фоули сам помогал Кете. По разговору Агны Кельнер и по тому, что она, весьма предусмотрительно, не высказала вслух, по словам, произнесенным Кете шепотом, — Фрэнк верно понял, что и сейчас фройляйн Розенхайм просит его о той же помощи.
И Фоули, несмотря на полное, идиотское онемение сегодняшнего утра и отвратительное поведение, в котором он сам себя никак не узнавал, был совсем не против помочь. Вот только год был уже не тридцать третий, а тридцать восьмой, и за плечами берлинцев было не только публичное сожжение книг, но, как верно предсказал Гейне — сожжение людей. И пусть сами нацисты евреев за людей не считали, но любой другой человек, не захлебнувшийся в крикливой, хитро выстроенной пропаганде калеки Гиббельса, знал, — от сожжения книг на площадях они уже шагнули к сожжению людей в синагогах. И шаг этот был тем более страшен, что для очень многих он остался незаметным. «Кто знает, где еще они сжигают…» — оцепенело думал Фрэнк, вспоминая, что к еще не отгремевшей «Хрустальной ночи» прибавлялось недавнее, так называемое Збоншинское выдворение, когда тысячи польских евреев, проживавших на территории Германии, были выброшены на границу с Польшей. Ни Польше, ни тем более Германской империи, они не были нужны. А события, последовавшие за этим, нацисты использовали для устройства Хрустальной ночи. Все это Фрэнк Фоули знал по той простой причине, что он был английским разведчиком. А работа в консульстве приносила ему много ценнейшей информации. Он даже предупреждал руководство о скорых массовых погромах в Берлине и по всей Германии.
«Но, — мысленно возвращаясь к просьбе Кете Розенхайм и Агны Кельнер, отметил Фрэнк, — отправить мальчишку в Лондон?». Будь живы его родители или хотя бы кто-то из них, чтобы можно было подтвердить, что этот отъезд подходит под требования программы «Киндертранспорт», Фрэнк наверняка смог бы помочь, но теперь… Риск был слишком велик. К тому же, за мальчиком наверняка велась слежка. Фоули не знал, что ему делать. В таких опасных ситуациях он еще не был, — его прежняя помощь Кете не заключала в себе даже половины нынешнего риска. На самом деле, Фрэнк испугался этой просьбы. И когда фрау Кельнер, наблюдая за ним, поняла, что он не станет им помогать, она перебила Кете, чтобы та не успела сказать Фрэнку больше того, что он уже знал, и что ему и так знать не следовало. Остановив Кете, фрау Кельнер быстро улыбнулась, и сверкнула глазами в сторону Фоули.
А Фрэнк, сбитый с толку и полный сомнений, с одной стороны понимал желание Кете и Агны Кельнер помочь мальчику, тем более сейчас, когда речь шла об эвакуации детей, — а с другой… В начале встречи Кете представила Агну как свою знакомую, которой нужна помощь. После слова «помощь» фройляйн Розенхайм замолчала и посмотрела на Фоули. Так он окончательно утвердился в своих изначальных предположениях о том, что на самом деле привело сюда Кете. Затем Фрэнк перевел взгляд на Агну Кельнер, и… С той секунды все и началось. То, чему он, будучи взрослым, рациональным человеком, не находил ни определения, ни названия, швыряло его из крайности в крайность, и, — что уж было совсем немыслимо! — руководило им.
Поэтому он, искренне желая помочь Кете в ее просьбе, но продолжая уплывать в иное измерение, где при взгляде на Агну Кельнер для него вдруг не оказалось ни земли, ни неба, вел себя как настоящий, отменный кретин.
Сев в кресло, он вдруг закинул ногу на ногу, — надеясь, что это выглядит не менее лихо и элегантно, чем, скажем, у Ретта Батлера, и громко (что опять было неожиданно), едва не переходя в крик, объявил двум дамам, что ничем не может помочь. Хотел бы, но не в силах. «Что я несу? Я ведь могу хотя бы попытаться! Придумать способ, отправить мальчика в Лондон!». Так думал Фрэнк. Но говорил Фрэнк совсем иное.
— Вы, фрау Кельнер, не являетесь ни матерью, ни хотя бы родственницей этого мальчика. Следовательно, я ничем не могу вам помочь. Мы отправляем в Великобританию только настоящих детей…
— Уверяю вас, Мариус вполне настоящий, — серьезно ответила Агна, таким жгучим и пристальным взглядом смотря на Фоули, словно от его дальнейших слов зависела судьба всего мира.
Фрэнк кивнул не глядя на девушку. Но в следующее мгновение он имел неосторожность поднять на фрау Кельнер свой взгляд, и потому совсем пропал.
— …Я имею ввиду, что мы отправляем только кровных, родных детей, родство с которыми вам прежде нужно было бы подтвердить.
В голосе Фоули, как думал он, звучит спокойствие и решимость, но для Агны и Кете его пояснения стали окончательно непонятными и сумбурными. Переглянувшись с Кете, Агна подошла к Фрэнку, и, снизив голос, совсем тихо спросила:
— Значит, вы в действительности ничем не можете помочь?
— Нет, — резко сказал Фоули, чувствуя, как новая лавина жара от близости девушки наступает на него, нанося контрольный в голову.
Фрау Кельнер внимательно посмотрела на Фрэнка, повторяя фразу, которую за это утро она, кажется, произнесла бесконечное количество раз:
— Поймите, это очень важно! Неужели в этой официальной программе, которая, наконец-то, одобрена Германией, ничего не сказано о возможности отъезда сирот?
— Всю возможную информацию, фрау Кельнер, я вам уже сообщил. У меня нет намерения повторять сказанное, — отчеканил Фоули, на самом деле продолжая пребывать в полнейшей прострации от невероятной близости Агны.
— Мама Мариуса погибла совсем недавно, всего несколько дней назад, герр Фоули… А вы сами сказали, что мальчики того возраста, в котором находится Мариус, попадают в лагеря… за ними ведут охоту. Что же ему теперь делать?…
В огромных, зеленых, малахитово-бархатных, глазах фрау Кельнер сверкнули слезы..
— Да. Сказал. Но больше ничем помочь не могу.
Крупные капли побежали по лицу Агны, обостряя ее дерзкую красоту еще больше. У Фрэнка перехватило дыхание. Девушка подняла на него свои невероятные глаза, в которые он боялся и бесконечно жаждал смотреть, и с горечью сказала:
— А по-моему, вы просто не хотите.
Агна резко вытянула руку вперед для прощального рукопожатия, но Фоули, окончательно дезориентированный ею, не ответил на жест. Взгляд девушки, непонимающий и злой, в котором до сих пор блестели слезы, на мгновение задержался на лице Фрэнка, и ушел в сторону, прочь от фигуры Фоули. Когда Агна Кельнер с такой болью посмотрела на него, сердце Фрэнка заныло. А может, вообще сломалось. В конце концов, кто его разберет, это сердце?.. Секунды пошли как будто вспять, медленно и мучительно капая на циферблат часов, и увеличиваясь числом. Прошло несколько минут, Фрэнк ответил на вежливое прощание Кете Розенхайм, и услышал, как за посетительницами закрылась дверь кабинета. Повалившись в кресло, Фоули закрыл лицо руками. Ему хотелось выкрикнуть «Черт! Черт бы тебя побрал, Фрэнк!». Но он сдержался. Только ударил себя пару раз кулаком по ноге. Фрэнк Фоули, сотрудник британского консульства в Берлине и разведчик МI-6, должен был владеть собой. Но в присутствии Агны Кельнер не владел.
* * *
Когда Кете согласилась зайти в дом Кельнеров, чтобы обсудить план дальнейших действий, Агна с облегчением выдохнула. Девушка пропустила гостью вперед, в прихожую, закрыла дверь, повернулась и… застыла на месте. Сумочка с глухим стуком упала на ковер. «Что случилось?!» — хотела крикнуть Агна, но продолжала молчать. Голос застрял где-то в горле. Быстро осмотрев видимую ей часть гостиной, девушка сделала шаг вперед, и, почувствовав, наконец, уверенность, подбежала к Харри. Кельнер сидел боком, положив на стол левую руку. Уже закрытая свежей, фиксирующей повязкой, она выглядела вполне сносно, но Агна, бросив испуганный, быстрый взгляд в сторону Кайлы, собиравшей в лоток медицинские инструменты, успела заметить среди них ватные тампоны со следами крови и пустые ампулы из-под обезболивающего.
Лицо Агны было таким, что Кайла, подняв на нее взгляд, сочувственно улыбнулась, а Харри, не дожидаясь понятного вопроса, объявил первым:
— Все хорошо, Агна! Все хорошо.
Слова встали перед Эл предупреждающей волной, в попытке ее успокоить. Голос Милна звучал немного глухо, но, кажется, ровно. И потому Агна, подойдя к столу, выдохнула только:
— Что?..
Харри улыбнулся. Как всегда. Как он всегда улыбался в подобных обстоятельствах, и взглядом обращаясь к Эл, сказал ей, что об этом он расскажет позже, — не в присутствии Кайлы и Кете, нерешительно остановившейся за спиной фрау Кельнер.
Агна не помнила, что ответила ему. И ответила ли. Она почувствовала только, как снова, — как всегда в таких случаях, которых в последнее время стало слишком много, кровь от страха бьет в голову, лишая ее, в первые секунды, способности рационально мыслить и верно оценивать обстановку.
«Это разведчик тоже должен уметь, Эл: не терять самообладания и выдержки. Именно это нас и спасает. Страшной может быть не столько сама ситуация, в которой оказывается разведчик, сколько его неверная внешняя реакция на нее. За нами следят всегда. Или, как минимум, внимательно наблюдают, если не подозревают, кто мы. Если мы покажем свой страх, волнение или испуг, мы подпишем себе приговор. Тебе говорили такую фразу во время обучения: «Если разведчик применил оружие, он уже проиграл?».
Продолжая пристально смотреть на Эдварда, Эл отрицательно покачала головой: нет, такой фразы ей не говорили. Она узнала ее от Эда. Милн приподнял бровь, молча спрашивая Элис, — что она имеет ввиду? И Элис, на мгновение запутавшись между воспоминанием и реальностью, улыбнулась. Правда, не слишком убедительно и совсем не радостно. Но кровь уже стучала тише, и подступающие слезы отошли назад. Страх отходил. Эл, сделав судорожный, глубокий вдох, подошла к Милну, и посмотрела в его глаза. Ироничные и блестящие, они уже не выражали боли, а наоборот, — старательно подтверждали сказанное Эдвардом: «Все хорошо! Все хорошо…».
Элис нервно вздохнула, и улыбнулась уже убедительнее, чем в первый раз. Она так и не смогла, — и надеялась, что никогда не сможет, — научиться воспринимать частые ранения Эда как нечто неважное, «сопутствующий фактор разведки», — как шутил он. В таких ситуациях, как сейчас, первой ее реакцией всегда был ослепляющий страх. И громадная злость. На того, кто в очередной раз причинил Эдварду боль.
От собственного бессилия и невозможности отомстить или сделать хотя бы что-нибудь, на ладонях Эл все чаще появлялись глубокие порезы от грубых ниток, которыми она в минуты волнения и страха заматывала свои руки. Взрезая кожу, они оставляли на ней жуткие, длинные, тонкие следы. Но, по мнению Элис, — которым с Эдвардом она не делилась, — это было лучше, чем чувствовать постоянную злость, не имеющую права на выход, и иссушающую тебя изнутри.
А Эдвард, осторожно касаясь шрамов, с тревогой смотрел на Эл, желая сделать все, что угодно для того, чтобы эти шрамы, как и тревога Элис, исчезли, и больше не причиняли ей боли. Наклонившись, Агна обняла Харри, коротко поцеловала его в сухие, горячие губы, и снова заглянула в глаза. Ответ их был прежним: «Не бойся, малыш, мне всегда везет». Или что-то подобное, что всегда помогало ему успокоить Эл.
Агна помогла Харри надеть рубашку, а затем повернулась к Кайле.
— Кайла…
— Не надо, фрау Агна. Я рада, что смогла помочь.
— Спасибо! — Агна подошла к женщине, и крепко обняла ее. — Не знаю, что бы я…— Вы бы справились! — возразила Кайла. — Герр Кельнер рассказал мне, как вы спасли его тогда, не стали вытаскивать пулю. Вы все сделали правильно! И это из-за нас вы попали…
Агна резко отвернулась, скрывая взгляд. Судорога и слезы снова подступали к горлу, рискуя вырваться на поверхность. Ей нужно успокоиться.
— Кете, проходи!
Женщина зашла в комнату, кивнула Кельнеру и улыбнулась Кайле.
— Добрый день.
— А я… сделаю чай! Да!.. — сказала Агна громко, и растерянно оглянулась по сторонам, продолжая стоять на месте и словно теряясь в пространстве. — Чай… все будут чай?
Кайла и Кете кивнули одновременно, не спуская тревожных взглядов с Агны.
— Я помогу! — заторопилась Кайла.
Кельнер покачал головой.
— Нет. Располагайтесь, мы скоро придем.
Поднявшись, Харри подошел к Агне, положил руку ей на спину, и увел девушку на кухню. Как только дверь за ними закрылась, Эл ударила рукой по столу, и заплакала навзрыд.
— Ну что ты, что?... — шептал Милн, отводя с ее лица короткие пряди темно-рыжих волос. — Все в порядке, renardeau.
Элис отрицательно покачала головой, и только сильнее заплакала, судорожно обнимая Эда. Ей вдруг вспомнилось все. Все дни, и все, что случилось с ними. Пожар в доме, нападение, огнестрельное ранение Эдварда, ее неловкие попытки помочь ему, и оглушающий страх, что он умрет… Больница, снова дикий страх, шептавший Эл днем и ночью, когда она сидела у больничной кровати Эда: вот сейчас, еще чуть-чуть, и их поймают. У Агны Кельнер ничего не получится. Ее шифровку перехватит гестапо с подручной ей, невидимой тьмой серых осведомителей. Агну и Харри увезут в гестапо, снова будут пытать…«Я выдержу? Сколько я смогу выдержать?» — замирая от страха, думала Элис, сидя ночью в больничной палате без сна.
Лунный свет серебрил ее кожу мерцанием, превращая все дневные заботы и страхи в солнечную, невесомую пыль. Уставшая от постоянного напряжения, она, наконец, засыпала, укрывшись пледом и повернув лицо к окну, к лунному свету. Так, постепенно страх становился меньше, а дыхание Эл — спокойным и ровным… А потом? Ханна, снова ее сплетни. Вопросы о детях, и о том, почему у Агны и Харри их «до сих пор нет». Эл не рассказала и не хотела рассказывать Эдварду об этом. Хватит. Довольно говорить о Ланг.
Элис помнила тот день в ателье, с финальной примеркой свадебного платья Ханны, очень хорошо. И явственнее всего — то, как все присутствующие в зале женщины смотрели на Агну Кельнер. В одном или двух взглядах она заметила что-то вроде сочувствия или смущения, но в глазах всех прочих было превосходство над ней и презрение к Агне, — бесплодной, бесполезной женщине, не выполняющей свое главное предназначение. А еще в их насмешливых глазах светилась гордость за то, что они — другие. У них есть дети, и они уже никогда не окажутся по ту сторону барьеров. «Какой ужас! Просто стыд!» — слышала Агна за своей спиной, пытаясь выглядеть так, будто она заслужила это всеобщее осуждение, и ей очень жаль, «что так вышло». А Ханна? Ее взгляд горел торжеством и ненавистью ярче всех других. А может, Агне только так казалось… А до этого? Хайде избил Эдварда на допросе, их боксерский поединок, Стив… она, Эл, убила собственного брата… Элис сжалась, все больше уходя в темноту и страх. Все прежние тревоги ожили в ее душе с новой силой, почти лишая связи с реальностью. Но Эдвард не позволил тьме забрать ее. Взяв Элис за руку, он крепко обнял девушку.
— Прости, не знаю, что на меня нашло… — виновато прошептала она после долгого молчания. — Мне так страшно за тебя! Они бьют тебя снова и снова! А я ничего не могу сделать!
Милн криво улыбнулся, с нежностью глядя на Элис.
— Обо мне никто никогда так не переживал, renardeau… Спасибо.
— Это я должна тебя успокаивать, а не ты меня, — быстро проговорила Элис, и вернулась к словам Эдварда. — А твои родители?
Эдвард помолчал, отвечая только на первую часть ее фразы.
— Я спокоен, Эл. По-хорошему зол, и спокоен.
Элис с сомнением посмотрела на него, и замолчала. А Эдвард, снова усмехнувшись, высоко поднял голову, глядя на Эл смеющимся, блестящим взглядом.
— Лучше расскажи, что бы ты хотела сделать всем тем, кто бьет Харри Кельнера?
— Я бы ударила их в ответ. И начала бы с Хайде.
Милн громко рассмеялся.
— Я могу передать ему это как привет от тебя. В следующий раз. Хук справа или слева?
Эл помолчала, раздумывая.
— Один удар в пах. Так вернее.
Она произнесла фразу очень серьезно, без тени шутки или улыбки, и Эдварда затряс беззвучный смех. Немного успокоившись, он сказал:
— Бьешь по самому больному, малыш!
* * *
За чаем, который прошел в несколько сдержанной обстановке, Агна, Харри и Кете, — Кайла, взволнованная происшествием с Кельнером и мыслью о том, что на него и Агну в ночь погромов напали тогда, когда они ехали к ним, ушла к себе, чтобы отдохнуть, — говорили о новой неудачной встрече с Фоули и пытались понять, что им делать дальше.
В гостиной, перекрывая голоса красивой мелодией струнных, звучал скрипичный концерт: пластинка, послушно кружилась в граммофоне, позволяя присутствующим говорить более свободно. Черный чай, в чашечки с которым зажженные под высоким потолком люстры отбрасывали шары электрического света, пили из изящного, белого сервиза, раскрашенного нежными, розовыми, акварельными, словно ожившими, цветами.
— Я была уверена, что Фоули нам поможет… — задумчиво сказала Кете, с легким звоном возвращая чашечку на тонкое блюдце с позолоченными краями. — Не знаю, что с ним произошло. Никогда раньше я таким его не видела. Но, — уже громче и увереннее добавила фройляйн Розенхайм, — наш разговор он никому не передаст, я убеждена.
Агна жестоко усмехнулась.
— А я — нет. Он — эгоист. Он испугался. Но даже если о встрече станет известно кому-нибудь еще, мы можем все представить как обычный визит в консульство для уточнения деталей возможного отъезда. В конце концов, именно так все и было.
Кете кивнула, соглашаясь.
— Все же, я не понимаю поведение Фрэнка… Он всегда помогал мне в таких случаях. И первым вызывался помочь, организовывал отъезды…
— Неважно! — все так же раздраженно добавила Агна. — Если он боится, и не желает нам помогать, мы сами найдем выход.
— Агна, и все же… Может быть стоит поговорить с ним еще раз? Я поговорю…
— Агна права, — медленно сказал Кельнер, вступая в разговор.
Все прежнее время он молчал, внимательно слушая рассказ Агны и Кете, а затем их диалог. Покрутив в руке серебряную ложечку, Харри аккуратно, с легким звоном, опустил ее на край блюдца.
— С Фоули было две встречи. И обе — неудачные. Ни мне, ни вам не удалось, — Кельнер, не глядя на Кете, кивнул в ее сторону, — убедить его не только в помощи, но хотя бы в предоставлении полной или той негласной информации о программе, которая могла бы нам помочь. Из первой встречи, и из того, что вы только что рассказали о второй, я делаю вывод, что Фрэнк Фоули действительно не желает участвовать в этой затее. Поэтому, — Харри выпрямился, перенося вес на правую руку, и отставляя в сторону раненую левую, чтобы не задеть ее, — мы все сделаем без его участия.
Харри посмотрел на Агну и Кете.
— Занудно напоминаю, что действовать нужно предельно осторожно. Гестапо ведет охоту за мальчиками-подростками, желающими уехать. Мариус — как раз в этой группе риска. Нам нужно отправить его в Великобританию быстрее, чем его упекут в концлагерь. Кроме того, сирот не выпускают. А Мариус — сирота. Кете, вы сказали, что его документы почти готовы для отъезда. Паспорт в порядке?
— Да.
— А поручительство от мамы Мариуса?
— У нас нет… — глухо выдохнула Агна.
Харри кивнул, задумчиво разглядывая узор белой скатерти.
— С учетом того, что нам нужно вывезти Кайлу, это… — Харри помолчал, и, решившись, быстро, единой фразой, проговорил, — нам на руку. Мы представим Кайлу как маму Мариуса. Но для этого нужно переделать ее паспорт. И написать поручительство.
— Я займусь, у меня есть связи! — с облегчением сказала Кете.
— Только нужно сделать Кайлу чуть старше. Скажем, года на три.
— Тогда ей будет тридцать пять, с учетом возраста Мариуса все сходится! — Агна улыбнулась.
— Да. А теперь нужно понять, сможем ли мы отправить вместе с ними еще и Дану, о котором сейчас нам известно только то, что он, скорее всего, находится в одном из ближайших к Берлину концлагерей. Надо найти мужа Кайлы как можно скорее, и постараться сделать так, чтобы все они — Мариус, Кайла и Дану, — уехали вместе.
— Но как? Мужчин, тем более возраста Дану не выпускают ни под каким предлогом! Да и Кайла… Мы не знаем, получится ли устроить хотя бы ее отъезд. Великобритания принимает только детей, без родителей.
Кельнер снова кивнул и улыбнулся, поднимая блестящий сарказмом взгляд от стола.
— Деньги, только и всего. Сделайте для Кайлы паспорт, Кете, а я займусь поисками Дану.
— А я? — спросила Агна, не отводя от Харри взволнованного взгляда потемневших глаз.
Харри безрадостно усмехнулся одной половиной рта, и с какой-то затаенной, горькой нежностью, посмотрел на жену.
— А тебе, малыш, предстоит, может быть, самое трудное: чаще встречаться с Мариусом, и сделать так, чтобы он больше не бегал со своей горячей кровью и со спрятанным в кармане ножом по Берлину, — в поисках приключений, каждое из которых рискует стать для него последним.
Харри сделал глубокий вдох.
— Поговори с ним, постарайся отвлечь его от…
Кельнер запнулся, и с хрипом перевел дыхание, —… от всего этого: от мыслей о мести, от злости, от боли… Харри снова замолчал, сжимая здоровую руку в кулак, и очень медленно раскрывая пальцы.
— Отвлеки его от мыслей о гибели мамы. Проведи с ним побольше хорошего времени.
Харри взглянул на Агну, и тут же отвел взгляд в сторону, но девушка успела заметить в его неправдоподобно ярких, обостренных болью глазах, показавшиеся слезы.
— И запомни эти минуты, Агна. Они больше никогда не повторятся.
Эл давно и мирно спала. Повернувшись к Эдварду, она свернулась калачиком и крепко обняла его правую руку. Он же, слушая ее мерное, глубокое дыхание, задумчиво улыбнулся в темноте: вспомнил, как засыпая, Элис поцеловала его в плечо, улыбнулась, и уже через минуту забавно засопела рядом. А вот к Милну сон никак не шел. В эту ночь призраки его не тревожили, но он все равно не мог заснуть. Даже несмотря на то, что все было тихо, и убитые им сегодня не приходили. Они не стояли над ним, не смеялись ему в лицо, и даже не шептали Себастьяну Трюдо или Харри Кельнеру своих потусторонних, обвинительных фраз. Эдвард осмотрел спальню не поворачивая головы, — одним кратким и быстрым движением глаз, блестящих в темноте.
Все так и есть: призраки не пришли, остались на своих местах. В том, ином мире.
Даже Стивен Эшби. Милн глубоко вздохнул, отчасти желая его появления, — в этом случае стала бы ясной причина той тяжелой, непроходящей тревоги, что сдавила ему грудь. Но Эшби тоже не было. И не было давно. Это казалось даже странным. Потому что с той поры, как брат Элис перешел на другую сторону бытия, он приходил к Эдварду очень часто. Более того, — Эшби любил приходить. Любил пугать. Шептать всякую дрянь о том, что ни Милну, ни «моей маленькой, милой сестренке Эшби» не скрыться «от нас». Надо ли говорить, что даже сдохнув в этом мире, Стивен считал себя, и своих пока еще живых друзей-нацистов, умнейшими людьми на свете? Эдвард не спорил с этим, даже и не думал: не это было главным. Во-первых, потому, что одним из личных правил Милна было то, которое гласило: врага нельзя недооценивать. А во-вторых, потому, что, чаще всего предчувствуя скорый приход своих призраков, Эдвард был внутренне готов к их появлению.
Готов, и потому собран. Именно это, как полагал Милн, и бесило Стива больше всего: эффект неожиданности при его появлении сводился почти к нулю, а такой Эдвард, — не испытывающий ни страха, ни трепета перед пришедшим к нему призраком «старого друга», был уже мало интересен Эшби.
Но все же было кое-что любопытное в состоянии Эдварда. То, что очень нравилось Эшби, то, за чем он приходил снова и снова, и то, что Стив, отчетливо чувствуя в Милне, выпил бы до дна, — если бы мог, — с великим удовольствием, без единой капли жалости к бывшему, и, на деле, не такому уж и хорошему другу: напряжение. Внутреннее напряжение, с которым Милн отслеживал каждое движение уже потустороннего Эшби. Это напряжение было, и было в Милне всегда, когда к нему по старой дружбе заглядывал на ночной огонек Стивен. И напряжение это было так четко осязаемым, что его не мог скрыть даже такой стреляный разведчик, как Эдвард Милн — Себастьян Трюдо — Харри Кельнер и… Как там его называли в Танжере или Касабланке?.. Ах, да! — засмеявшись, мертвый Эшби поднес указательный палец к подбородку, изображая, будто мучительно вспоминает подставное имя нерадивого друга, и, зная, что Милн-Трюдо-Кельнер не только отлично видит его, но и с пристальным вниманием отслеживает каждое его движение, — Насим Саид.
Точно! В Танжере, Касабланке и Марокко Милн дурил людей своим подставным именем «Насим Саид». И если бы спросили Стивена Эшби, некстати и очень не вовремя, — по его личному мнению, — уже безвременно мертвого, то он с удовольствием бы рассказал живым слушателям, что это имя, как и все другие подставные имена, Эдварду Милну удивительно шло. Приходилось, пусть и нехотя, признать неприятный факт: Милн умел прятаться и меняться.
С тем, как здесь, в Берлине, среди новоявленных «арийцев», он был примером для подражания, образцом внешней чистоты и объектом, пригодным для дальнейшего разведения чистейшей расы, так и там, на том континенте, будучи среди грязных рифов, он поразительно вписывался в раскаленную, жгучую и мертвую панораму бескрайних песков и пустынь. Загорелый и почти медный, он отличался от большинства мелких рифов только своим громадным ростом, редко выходившей на его лицо белозубой улыбкой, — еще более ослепительной от густого загара, — да невероятно яркими, необычными для рифов, небесными глазами.
Впрочем, в моменты глубокой задумчивости или каких-либо непредвиденных обстоятельств, глаза Эдварда меняли свой цвет. Например, темнели, становясь густыми и синими от сильной физической боли. А в то время в жизни Милна, о котором сейчас думал мертвый Эшби, и в которое был погружен сам Эдвард, его глаза становились темно-синими много-много раз. «Нет-нет! — с насмешкой поправился Стив, наслаждаясь тем моментом прошлого, который он и Милн сейчас видели предельно отчетливо, — твои глаза были темно-синими не просто очень часто, Эд! Они были такими темными, что синевы в них почти не оставалось!». Эшби, задрав голову вверх, довольно захохотал. «Они были черными, приятель! Они были уже такими черными! Ты помнишь?! Помнишь?».
Издав безмолвный в земном измерении вопль, Стив уставился на Милна огромными провалами черных глазниц. Боль бывшего друга доставляла мертвому Стивену Эшби громадное наслаждение. И потому он никогда не упускал возможности явиться к Эдварду, и вместе с ним вспомнить славные деньки из жизни и Насима Саида, и Себастьяна Трюдо, и… Стив хотел повспоминать еще кого-нибудь, кого по долгу бравой британской разведки изображал в то или иное время Эдвард Милн, но прочное, глубокое счастье, которым теперь была полна душа и сердце Эда, мешали ему это сделать.
От беспомощности призрак презрительно хмыкнул: вот если бы вернуть его бывшему другу пустоту! Настоящую, глубокую, душевную! Безмерную, самую черную! Тогда бы все удалось, тогда бы Эшби мог мучить Милна как раньше, именно так, как ему нравилось больше всего! Но… — Стив перевел взгляд пустых глазниц на свою сестру, — Элисон лишила своего брата даже этой последней, такой сладкой забавы: ее любовь к Милну стала щитом. Со временем, и, конечно, не сразу, но, — щитом невидимым, и таким прочным, что его не мог обойти даже мертвый Эшби.
«Кто бы мог подумать, что я не смогу подобраться к тебе, как это бывало раньше, из-за какой-то любви! Это абсурд, ее не существует!» — неслышный ни для кого, кроме Милна, вопил Эшби, все больше злясь от того, что Эдвард, который один из всех на этой проклятой земле, кто прекрасно видел и слышал его, совсем не боялся Стива.
И потому все, что оставалось делать Стивену, — пока была жива эта любовь, — приходить к Милну, и, зная, что он видит и слышит его, говорить с ним, задавать вопросы, подтачивать его любовь и уверенность. Снова ударившись о щит, под укрытием которого было, с недавних пор, сердце Эдварда, Эшби издевательски прошептал: «Помнишь?».
Спросил, и — начал таять. Но, все же успел, до своего исчезновения, улыбнуться Милну: потому что знал, — этого достаточно. Достаточно для того, чтобы еще долго после перехода Стивена Эшби в тот мир, где он теперь обитал, душа Эдварда Милна мучилась и страдала, буквально истекая кровью. Против таких, действительных и сильных воспоминаний, даже любовь его сестры была иногда бессильна.
«Ты помнишь?».
Конечно, он помнил. Тогда Эдвард Милн все еще был Себастьяном Трюдо, завязнувшим в войне с рифами. В тот день, снова облив, для большей маскировки, свою форму черным чаем, и выбравшись с блок-поста после только что отгремевшей атаки, Сэб, вытянув свое тощее и длинное тело вверх, и обернув голову белой тканью, — это было лучше и легче кепки с козырьком, которая прилагалась к форме французских легионеров, — вышел из укрытия, и не спеша, все еще пребывая в пыли и в звоне, застрявшем в ушах, потянулся к тем самым горным тропам, зарисовать которые он предлагал еще тогда, в один из первых дней своей службы во французском посольстве.
Для совершения подобного выхода он был обязан сначала доложиться командиру, а затем дождаться своего напарника: после того, как предшественника Сэба рифы поймали и запытали до смерти, одиночные выходы стали запрещены, а горячих голов, подобных той, что была на плечах у Трюдо, — готовой не только высунуться из укрытия после только что стихшей стрельбы противника, но и пойти «зарисовать горные тропы», — осталось наперечет одной руки, да и пальцев той было бы, пожалуй, слишком много.
Но Трюдо пошел один.
То ли потому, что был уже контуженным, — положа руку на сердце, его сослуживцы сказали бы вам, что он и до контузии был Психом, то ли потому, что недавняя атака, от которой еще даже порох не успел осесть на землю, начисто отбила у него, — помимо зачатков инстинкта самосохранения, — и мозги, — неизвестно.
Доподлинно ясно парню, шипевшему в удалявшуюся от него, костлявую, спину Трюдо, было только одно: Псих вышел на охоту за тропами, «опять пошел рисовать». И ладно бы, — с возмущением повторял этот парень, — он шел хотя бы немного быстрее, «даром, что такие длинные ноги даны человеку», но нет: Белый Трюдо двигался неторопливо, словно его, и правда, неслабо огрели по голове. Дальше шли слова о том, что он ушел один, и что капитану это снова не понравится, а… затем возмущенный шепот стих, фигура Сэба уже почти сровнялась с ближайшим подходом к горам, истаивая в знойной, жидкой дымке очередного, жаркого, дня.
Все смолкло.
На первый, не слишком сильный толчок Сэб не обратил внимания, — только махнул рукой, требуя этим жестом не мешать ему и не отвлекать от кропотливых зарисовок горных троп на мелких, уже неаккуратно-мятых листах. Времени на это подобие картографии у него всегда было в обрез, и отвлечься от нанесения линий на бумагу он мог только если… Его сбили с ног одним ловким ударом, подсекая длинные ноги Трюдо как гибкий тростник. И он упал в полный рост, успев перевернуться на спину, и больно врезаясь в острые, холодные камни пещеры. Карманный фонарь — с глухим, неслышным в звуках короткой схватки, закончившейся не в пользу Сэба стуком, — откатился далеко в сторону.
Но не это было важным.
Вернее, это сейчас совсем не было важным. А вот волчьи глаза небольшого, ловкого рифа, закутанного во все белое, и нависшего над ним — да. И нужно быть полнейшим идиотом, чтобы усомниться в значении его взгляда, не упускающего ни одного движения Сэба. На сожаления о том, что он пошел один, и не дождался напарника, теперь не было времени. Хотя, если признаться честно, такая глупая и запоздалая мысль все же мелькнула в мыслях Психа. А потом его мозг начал перебирать варианты выхода из этого, однозначно сложенного не в пользу Трюдо, положения. Итак, он, Сэб, лежал на спине, а риф с волчьими глазами, склонившись над ним, рассматривал его с улыбкой и откровенной жаждой крови. Острое лезвие клинка, зажатого в руке рифа, подошло к горлу Сэба, для начала очень легко, — как пером, — неглубоко надрезая кожу на его горле. Кадык нервно дернулся, — тело Психа, игнорируя все приказы его мозга, отказывалось сдерживаться, и потому выдало свой страх.
Риф, заметив толчок кадыка на шее парня, широко улыбнулся темно-желтыми, крупными зубами. И перенес клинок к новой точке на теле Трюдо. Резать белого он пока не собирался, — в этом удовольствии лично он никогда не торопился, — но Сэб, игнорируя острое лезвие, вдруг на удивление ловко дернулся, и сумел вырвать из-за спины пистолет. Один взмах клинком, и тот, мелькнув в воздухе черной точкой, тоже отлетел в сторону. А рука Психа, к его собственному удивлению, оказалась цела и невредима. Риф снова оскалился: неужели белый думал, что с ним и с его друзьями действительно воюет банда тупиц, какой рифов постоянно выставляла испанская, французская и английская печать? Впрочем, если белый так считает, то это его проблемы.
«Тем хуже для тебя!» — хотел сказать риф на языке белого, но потом передумал и промолчал: он был не достоин того, что с ним говорил риф. Но вот чего был достоин пришелец, и что он вполне, по мнению рифа, заслужил, — так это долгую, мучительную смерть. Против плоти, и той боли, что она испытывала, медленно умирая в муках, не мог выстоять никто. И этот белый, каким бы неробким он ни был, тоже начнет просить о милости сохранить ему жизнь. Но, — хватит слов.
Риф улыбнулся еще раз, глядя прямо в лицо белого. Улыбнулся почти сочувственно, потому что сам он не хотел бы оказаться на месте этого великана. Блестящий клинок сверкнул сталью, и подошел к голове белого, переметнувшись ото лба, на котором пока не было капель пота, к левому виску. Здесь, под кожей, отстукивая свой скрытый ритм, бешено билась вена.
Вскрыть ее не составляло никакого труда. Но риф хотел не этого. Быстрая смерть бывала, по его мнению, возможна только в двух случаях: по глупости или из милости. Он же не желал ни этому белому, ни его собратьям, никакого снисхождения. А для совершения глупости сам риф был сейчас слишком спокоен и хладнокровен. Он знал, что у белых кровь такая же красная, как и у него. Но ее цвет все равно не мог обмануть, — даже будучи красной, она все равно была другой. Чужой. Той, что пришла на их землю. А значит, должна в землю войти. Добиться этого можно только одним путем.
Кончик клинка, в начале кольнув Сэба едва ощутимо и быстро, теперь медленно, с удовольствием, отразившимся на лице рифа, вошел под кожу на виске, как раз туда, где под лезвием билась, нервничая все больше, темная вена. Светлые глаза Трюдо, чей цвет был так непривычен здесь, в пустыне, обратились к лицу противника, прося о помощи. Но так же, как белые были глухи к страданиям рифов, которым они одним ударом сносили головы, так глух остался и этот риф ко взгляду Сэба.
Постояв немного на месте, и войдя еще глубже, клинок неспешно двинулся вниз, прокладывая за собой глубокий, кровавый путь. Белый сначала зашипел, а потом застонал. И с тем, как клинок шел вниз по все более глубокой и красной тропе, этот стон, переходящий в крик, становился все громче и отчетливее. Риф даже закудахтал от наслаждения, — белый так живо реагировал на малейшее движение клинка в ране, что это не могло не радовать. Тонкий, глубокий путь, вскрытый заточенным лезвием, то и дело покрывала кровь. И чем глубже становилась рана, тем сильнее она заплывала кровью, купалась в ней.
После первого, несильного пореза кожа белого пропустила на поверхность только несколько скупых, красных капель, но стоило рифу, завороженному полученным эффектом, сделать рану глубже, как рана белого, расходясь в стороны и в глубину, захлебнулась кровью, — быстрой, теплой, красной и густой. Рассматривая тропы, по которым кровь сбегала на холодную землю, риф улыбался: да, она была настоящей!
И скоро она закончится, — войдет в землю, вернется в небытие. Белый умрет, и это будет хорошо. Взвыв от удовольствия, риф наклонился ближе к белому, провел указательным пальцем по свежей ране, оставленной клинком, и, взяв его крови, слизал ее с пальца кончиком языка. Кровь белого, к удивлению рифа, сначала не отдала ничем, но позже раскрылась на языке все тем же привкусом меди, что и кровь самих рифов. Это показалось противнику Трюдо странным: невозможно, чтобы их кровь, пусть и единая по цвету, — была на вкус такой же, как и у них. «Это невозможно!» — с возмущением подумал риф, расчерчивая образованную лезвием рану на виске Трюдо еще больше, одним быстрым, едва заметным движением, вверх и вниз. Теперь шрам выпускал наружу еще больше крови, заливая лицо белого своим густым, восхитительно-красным цветом, и уходил одним концом в волосы, которые у этого пришельца были под стать его коже, — белыми, а другим доходил почти до края острой скулы. Отклонив лезвие от лица Трюдо, смотревшего на него темным взглядом замученных болью глаз, риф задумался над тем, где бы еще, — на теле белого, — ему было бы интересно испытать свой верный клинок. Толстые губы рифа осветила торжественная улыбка: он решил, что будет резать свою добычу точно вот так, по подобию первого шрама, — медленно и неторопливо. Будет резать, пока ему не надоест. Или пока у белого не закончится кровь.
В том, что кровь даже у белых конечна, риф знал не понаслышке: к этой минуте он уже порезал их так много, что обладал твердым знанием, — их кровь тоже имеет свойство кончаться. И они — тоже смертные. Даже несмотря на все свое оружие, танки и страшные самолеты «Голиаф».
Пожевав губами, риф в задумчивости опустил взгляд вниз. И это была его главная оплошность. Белый, угадав момент, — но черт его знает, на что надеясь с таким острым лезвием, как это, — схватился за клинок голой рукой. Это так поразило рифа, что, смотря на Трюдо широко раскрытыми в удивлении и даже восхищении глазами, он на секунду замер, не нанося белому большей раны, чем тот нанес себе сам.
Кровь теперь лилась не только из виска и головы Трюдо, но и густым потоком неслась вниз, — из правой ладони белого. Риф, признавая, пусть и отчаянную, но все-таки смелость противника, очень удивившую его, улыбнулся и даже не делал попытки резать пришельца дальше. Но потом секунды восхищения прошли, он вспомнил всех своих, жизни которых забрали белые, и снова оскалился в сторону Трюдо, который непонятно почему, но все еще был, пусть в очень шатком, но сознании.
И, судя по сверкающим глазам, уставленным в темное лицо рифа, белый не планировал впадать в беспамятство.
Карие глаза рифа перешли на грудь белого. Там, слева, под формой, теперь черной от остывающей крови, еще билось его сердце. Риф знал легенду о том, что для большей храбрости сердце врага нужно съесть. Но он сомневался, что захочет отведать сердце этого белого. Хотя, — это нужно признать, — его сегодняшняя добыча была смелой, это факт. И даже он, риф, несмотря на всю ненависть к белым, не мог это отрицать.
Можно было бы, конечно, ткнуть в сердце, и убить белого за долю секунды, но план был другим, долгим. Потому, возвращаясь к нему, риф повел вниз, — от основания шеи Трюдо, — через ключицу и ниже, еще один красный, красивый и тонкий шрам, за которым из груди белого следовало уже не шипение, и даже не стон, а какое-то удивительное сочетание булькающих звуков. Риф, увлеченный своим занятием, довольно усмехнулся, и решил даже поговорить с белым. Присев перед поникшим Трюдо на корточки, риф одним ловким взмахом воткнул клинок в землю. Бесшумно войдя в тяжелый песок, кинжал покачался в стороны от упругого, резкого движения, и замер между рифом и белым.
Риф долго думал, что бы такое сказать? И, наконец, решил, что он пойдет против собственных правил, и похвалит белого. За храбрость. Позора в этом не было, — о словах рифа не узнает никто, а Трюдо, даже после похвалы, протянет совсем недолго: вон как хлещет кровь из одной только правой руки, которой он хватался за клинок. И это лишь одна из трех, кровоточащих, ран. Риф придвинулся к белому почти вплотную. Ему хотелось видеть его глаза, но пришелец, похоже, уже шел к своей последней черте, и оттого взгляд его был блуждающим, отведенным к земле. К тому же, у белого начался бред: целой, левой рукой, он шарил по холодному дну пещеры, что-то шептал и чему-то тихо смеялся. Риф наблюдал за ним без капли сочувствия, — только с любопытством и удивлением к тому, что белые, — а конкретно этот белый, — оказался храбрым. Тихо отсмеявшись, и что-то проговорив залитыми кровью губами, Трюдо поднял на рифа свои глаза и захохотал клокочущим кровью смехом. А риф, следуя все тому же любопытству, поднес к глазам белого зажженную спичку, желая еще раз посмотреть в них.
И это было самым последним, что риф сделал в этой своей земной жизни: клинок, сжатый в руке напарника Трюдо, которого тот не пожелал брать с собой, вошел в тело рифа по самую рукоять. И теперь уже глаза рифа, изумленно взглянув на Сэба в последний раз, через мгновение застыли недвижно, а через несколько и вовсе остекленели.
Еще секунда или две прошли в полном молчании. А потом над уплывающим в обморок Себастьяном Трюдо раздался недовольный, отдающий эхом пешеры,
оглушительно громкий голос:
— Ну, ты и псих, Сэб! Ну, ты и псих!
Эдвард вынырнул из воспоминаний, сделал глубокий вдох, и, осторожно сняв со своего плеча руку Эл, поднялся с кровати. Мысли все еще неясно блуждали в том прошлом, о котором он только что вспомнил, и Милн, глядя прямо перед собой, машинально провел пальцами по двум шрамам, оставленным ему тем рифом на долгую память: шрам у левого виска — и рука идет вверх, шрам у шеи, переходящий ключицу, — и рука идет вниз. Проведя по второму шраму еще раз, Эд нахмурился, чувствуя воспаление. Иногда такое случалось. И если бы Эдвард был старым, то мог бы смело адресоваться к легкому морозу да снегу, сыпавшему за окном крупными, уютными хлопьями. Но Милну было пока тридцать два, Кельнеру — тридцать пять, и значит, удобная ссылка на старость и ноющую боль в ранах как реакцию на погоду, отменялась. Растерев шею рукой, Эд оглянулся на Эл, и снова улыбнулся, задерживая взгляд на ее красивом лице с россыпью забавных веснушек. Не глядя стянув с прикроватной тумбочки пачку сигарет и зажигалку, он вышел из спальни. Снег валил на немые улицы Груневальда как из рога изобилия, заново заметая расчищенные дорожки, ведущие к окружающим домам. Рассыпчатый и нежный, он вполне мог быть принят за рождественский, но сейчас была только середина декабря, а значит… Дернув голым плечом, Милн поглубже накинул пальто, и затянулся сигаретой.
Тишина.
Складываясь в минуты, она постепенно унесла его в почти забытое ощущение покоя, которое по нынешним временам вполне можно было счесть за счастье. Постояв на верхней ступени крыльца, Милн сделал два шага вниз, и сел в центре широкой ступени. Мысли все так же медленно, и еще немного смутно от недавних, очень ярких воспоминаний, проплывали в его голове, и впервые за очень долгое время, он сам не стал их взнуздывать или тревожить, требуя от них быстрого и четкого ответа или плана действий. Тяжело вздохнув, Милн замер на месте без единого движения. Все стало тихо.
Ни одного движения в теле.
Ни одной мысли в голове.
Только мягкий, чуть слышный шорох снега, где-то рядом осыпанного вниз, с широкой еловой ветки, похожей на лапу царственного льва.
И снова тишина.
И снова вздох. Тяжелый и трудный, требующий от Милна признания в том, что он просто устал. Очень устал. На этом долгом и трудном пути, которому нет окончания. И которому, — Эд был к этому готов, — может и не быть конца. Не строя никаких прогнозов и надежд, и даже не желая тратить на такую глупость хоть сколько-нибудь времени, Милн, вместе с тем, внутренне готовил себя и к тому, что все может закончиться в любой, один момент. Он не был уверен, что хотел бы точно знать, когда такой момент произойдет, но Эдвард должен это знать для того, чтобы успеть как можно больше: защитить Эл, передать в Центр всю возможную информацию, — даже если ей снова не поверят, — вывезти Кайлу и Мариуса, найти Дану…
Легкий ночной мороз приятно холодил горячую кожу и воспаленные раны, остужая старые шрамы и левую руку, чуть-чуть, — по словам напуганной Кайлы, — не доломанную Хайде, которую теперь, от ноющей боли, Милн не знал, куда деть.
Наложив фиксирующую повязку, Кайла предупредила его, что после того, как действие обезболивающего выйдет, рука начнет сильно болеть. Харри Кельнер молча выслушал ее слова, и кивнул: тогда до настоящего момента на крыльце было еще далеко, в его крови, как это было обычно в таких ситуациях, вовсю гулял адреналин, и Кельнер не думал ни о какой будущей боли. Но вот что Милн не мог терпеть во всех без исключения ранениях и травмах, которые случались с ним, — это то невыразимое словами, мерзкое ощущение, возникающее тогда, когда тебя, — твою собственную плоть и кожу, — режут на части острым клинком. Это чувство разрезаемой плоти, тошнотворно расходящейся в стороны под острым лезвием, было для него самым адским испытанием, еще более страшным потому, что в эти моменты, занимающие в человеческом времяисчислении всего каких-нибудь несколько секунд, он был обездвижен, и не способен защитить себя, дать отпор тому, кто резал его! Сознание этой страшной физической бесправности было не менее отвратительным, чем жгучая, горячая и страшная боль всего тела.
…Что еще он не выносил? Когда его шили. Речь не шла о ране, подобной той, что зашивала Эл после первого допроса Хайде. Это он мог вытерпеть. Но если рана была больше, и если шить приходилось дольше… Вот иголка тупо и больно, — какой бы острой она ни была, — протыкает кожу. За ней идет, мерзко тянется нить. Тошнотворно проходя через отверстие, сделанное иглой, она с омерзительным ощущением тянется и тянется сквозь, ходит из стороны в сторону, — до тех пор, пока рана не будет закрыта полностью…
Эдвард резко помотал головой, отгоняя головокружение и торопливо, глубоко затягиваясь сигаретой: уходя вслед за мыслями, на эту глубину, которая была с ним постоянно, он всегда, — как и сейчас, — чувствовал приближение слабости и жара. И чем больше он позволял себе это погружение, тем сильнее и жарче ныли даже старые раны. А ему требовалось совершенно другое: спокойствие и хладнокровие, максимальная собранность сил. Наблюдательность, внимание…Эд тяжело вздохнул, ненадолго закрывая глаза. И стоило ему это сделать, как со все возрастающей в его теле силой он услышал, как бушует внутри него расходившаяся, темная кровь. Она стучала изнутри, в те раны, — как в двери, — из которых уже, как минимум, однажды, выходила на свет. Стучала в старые, длинные шрамы, билась в недоломанной руке, в голове, в висках, в ладони, которой он тогда схватился за клинок рифа… И пусть на ней, благодаря скорой и умелой помощи, у него остался только едва заметный, поперечный шрам, пересекающий кожу вдоль, по всей длине, он тоже теперь ныл и болел, напоминая о себе…Что там спрашивал Стив? «Помнишь?»…
…Нетерпеливо дернув плечом, Милн сбросил пальто на ступеньки крыльца. И холод, мгновенно овеявший его обнаженную кожу, кажется, принес облегчение. На обморок и слабость, которые Эд не терпел, не было времени.
Нужна ясная, ясная голова! «Ну же! — одернул он самого себя внутренним окриком, — соберись!». Но собраться не случилось. Голова Милна пошла вниз и в сторону. А глаза, утратив боль и жесткость взгляда, стали закрываться. Эд отклонялся в сторону, уже не испытывая облегчения от леденящего ветра, и наверняка бы скатился вниз, — по еще оставшимся до земли трем ступеням крыльца, но этого не произошло: в последний момент Милн, уже почти отключившись, почувствовал, что что-то пошло не так. Сделав громадное, но тщетное усилие, он попробовал посмотреть в сторону, и вдруг уткнулся в какую-то опору.
«Точка стабильности…» — замедленно понеслось в его мыслях, и он, как мог, поднял голову вверх. Эл держала его, она была здесь. Она пришла к нему.
Кровь, подстегнутая волнением от этой мысли, с новой силой забилась под кожей Милна. Голова снова шла кругом, опять похожая на сверкающую карусель, которая вот-вот отлетит в сторону, сорвавшись со своей оси…Эдвард отключился, выпадая из реальности, и, хотя верно узнал Элис, он уже не мог видеть ее испуганного взгляда и крупных слез, как-то невероятно быстро побежавших из ее огромных глаз, по щекам, — вниз…
Она успела в последний момент, схватила Эдварда за плечо. Но увидев, как он выскальзывает из ее рук, Эл пролетела по ступеням, вслед за Милном, вниз, — на землю, безуспешно пытаясь уберечь Эдварда от удара, и, одновременно с этим, стараясь укрыть его от пронизывающего холодом и снежной крошкой, снега. Милн ударился о землю, но усилия Элисон смягчили удар. Вытягивая из себя все возможные силы, она с нескольких попыток все-таки вытянула Милна вверх, усаживая его на прежнюю ступень, и как можно аккуратнее удерживая его на месте. Уложив голову Эда на свое плечо, Элис, не находя облегчения, но чувствуя, что сумела зафиксировать Милна в безопасном положении, нервно и рвано вздохнула. Безмолвная паника, выходя наружу, затопила собой все ее тело и сознание.
Элис стало очень страшно. Но если у Эдварда не было времени на обморок и болезнь, то у нее не было времени на страх. «Нужно отвести в дом, скорее…» — рвано, через долгие промежутки, шептала себе Эл, оглядываясь по сторонам, и прикидывая, как лучше всего подняться с лестницы, при этом удерживая Эдварда. Переведя взгляд за плечо, она смерила расстояние до входной двери: не так и много, нужно только попробовать.
Удерживая Милна, она попыталась встать, но его голова, до этого лежавшая на ее плече, потеряв точку опоры, тут же тяжело свесилась вниз, увлекая за собой все его тело. Нервно сглотнув, Эл посмотрела на Эдварда огромными от страха глазами, и быстро вернулась на прежнее место, снова укладывая его голову на свое плечо. Сделав несколько вдохов, Эл посмотрела по сторонам. Пальто Милна не слишком хорошо, но все же укрывало его от холода. Сама Элис дышала шумно и тяжело. И ждала. Сейчас, еще немного! Страх отойдет, вернет ей силы, и она попробует снова. «В этот раз должно получиться…» — растерянно, как заклинание, повторяла Элис снова и снова, касаясь ладонью лица Милна.
Бережно проведя рукой по его щеке, она всмотрелась в его лицо, на котором даже в нынешнем состоянии Эдварда были заметны следы боли, и сделала новую попытку.
* * *
— Я знаю, что значит «восток»… знаю… — сказал Милн, приходя в себя.
До этих слов, произнесенных шепотом, он уже успел осмотреть гостиную, и знал, что здесь, кроме него и Элис, никого не было. Сведенные к переносице брови Эл, сверкнув на изгибе темно-алыми искрами, были немым вопросом, в ответ на который он пояснил:
— …В записях старины Эриха.
Элис улыбнулась с облегчением и болью.
— Если появился «старина Эрих», значит, тебе уже лучше?
Милн повернул голову в сторону голоса Эл, и улыбнулся ей, очень медленно рассматривая, — словно фиксируя в памяти заново, — все черты ее испуганного лица. Элис ответила внимательным, но все еще очень тревожным взглядом, в котором снова заблестели слезы.
— Я люблю тебя, — прошептала Эл, наклоняя голову и целуя руку Милна, которую она держала в своей руке.
Милн посмотрел на Элис, раскрывая губы, чтобы ответить, но промолчал. Фраза, которую он едва не произнес, вдруг показалась ему неуместной и странной в будничном свете пасмурного утра. «Стив говорит, что твоя любовь защищает меня…», — вот, что он хотел сказать. Но как это сказать? И нужно ли? А вдруг это напугает Эл? Решив не тревожить Элисон упоминанием ее брата, Милн промолчал, и только едва заметно улыбнулся, с огромным облегчением чувствуя, что к нему возвращается большая часть прежних сил. Их пальцы были тепло переплетены, и Эдвард, наслаждаясь полным вдохом и выдохом, сжал руку Элис, — так отвечая на ее слова, и давая понять, что все у них будет как всегда, — хорошо.
Взаимное нежелание Элис и Эдварда обустраивать новый дом Кельнеров в Груневальде выяснилось внезапно, — обычным, воскресным утром, когда после завтрака Агна и Харри сели в «Хорьх», чтобы ехать на ежегодную автомобильную выставку, где они планировали выбрать для фрау Кельнер новую машину.
— Харри Кельнер согласен только на фортепиано, — с кислой ухмылкой добавил Милн, оглядываясь по сторонам, и чувствуя себя неуютно на пассажирском сидении. — Оно поможет разработать руку, а в остальном… не хочу никакой основательности в новом доме. Щелкнув ремнем безопасности, Элис повернулась к Эдварду и удивленно взглянула на него. В ее глазах было столько изумления, что в первые секунды она только молчала, не зная, что ответить. А Милн, всегда предающий гораздо больше внимания несказанному, чем произнесенному вслух, успел заметить во взгляде Эл, кроме всего прочего, и напряжение, и страх.
Они показались в темно-зеленых глазах Элис на долю мгновения, но этого было вполне достаточно для того, чтобы Эдвард уточнил:
— Эл?
— Я думала о том же… Вернее, только недавно поняла, что тоже не хочу обустраивать этот дом, покупать все эти вещи…
— Значит, мы с тобой одной крови, — тепло и легко улыбнувшись, заключил Эдвард.
— Это очень плохо? То, что мы не хотим основательно обустроить дом? — с тревогой спросила Эл. — У меня такое чувство, что скоро все… Все меняется, и скоро… не знаю, как объяснить…
Милн вздохнул, и, поморщившись от боли в руке, ответил:
— В этом нет ничего «плохого», renardeau. Гораздо хуже не доверять себе и своей интуиции… а пока давай просто купим для Агны новый автомобиль.
Так они и сделали. На крытой автомобильной выставке, которая проходила в одном из выставочных центров на главной улице Берлина Унтер-ден-Линден, Харри Кельнер выбрал для Агны новый Opel Kadett, чья улучшенная, четырехдверная модель, выглядела куда привлекательнее прежней, включавшей только две двери. Но дело было, конечно, не в количестве дверей, а в том, что эта модель Opel, чей выпуск начался только в нынешнем, 1938 году, была гораздо миниатюрнее и сожженного «Мерседеса», и отремонтированного «Хорьха». «То есть… — подвел итог Кельнер, медленно и педантично рассматривая машину, и обходя ее по новому кругу, — в случае необходимости, скрыться на нем будет гораздо проще, чем на «Мерседесе» или том же «Хорьхе»… и на довольно неплохой скорости, — девяносто километров в час…». Это и стало решающими факторами в пользу «Опеля», который, наряду с Volkswagen Käfer считался «народным», — то есть очень доступным для простых немцев, — автомобилем. Но если «Жук», стоивший всего 990 марок, можно было приобрести только по «Накопительной книжке» (с предварительно вклеенными в нее специальными талонами, пропускать которые было нельзя, иначе покупатель полностью терял возможность купить машину по сходной цене), то «Опель» Кельнеры могли купить сразу же, на выставке.
— Один Opel Kadett, новой модели? — уточнил подошедший к ним консультант.
— Да, черный, — подтвердил Харри наклоном головы.
— А вам, фрау, нравится этот автомобиль? — спросил мужчина, обращаясь к супруге Кельнера.
— Нет, не нравится. Но… На самом деле, мне все равно, — ответила бы Агна, если бы могла говорить честно.
«Опель» ей не нравился. И Агне было наплевать на все, что выяснил Харри, прежде чем выбрать для покупки именно эту машину: и на обновленную конструкцию автомобиля с цельнометаллическим несущим кузовом, и на «передовой дизайн с фарами, интегрированными, — вы только подумайте! — в крылья!», и на гидравлические тормоза, установленные для всех четырех колес, и на «передовую новинку»: прямо в салоне автомобиля находился датчик остатка топлива и давления масла… в настоящий момент Эл, спрятанную за стройной фигурой и красивым, уверенным, — даже слегка надменным, что хорошо соответствовало социальному статусу Кельнеров, — лицом Агны, тревожило только одно, — неотступное, снова поднявшееся в ее душе ощущение того, что что-то огромное и необъяснимое надвигается на них. «Что-то неотвратимое…» — подумала Эл, скрадывая свое настоящее волнение за улыбкой Агны. Вежливо улыбнувшись консультанту, фрау Кельнер бросила мимолетный взгляд на предлагаемый ее драгоценному вниманию автомобиль, и ответила неспешно и легко, истинно по-женски:
— Мне нравится решетка.
Полные губы Агны, накрашенные темно-красной, рубинового оттенка, помадой, сложились в еще более таинственную улыбку. Слегка наклонив голову в шляпке с черной газовой вуалью в сторону, — вуаль доходила до середины лица, и тем придавала фрау Кельнер еще больше тайны, — Агна, даже не взглянув на «Опель», мягко обвила руку Харри обеими руками.
— Вы… вы имеете ввиду радиаторную решетку? — стушевавшись от сквозящей между супругами чувственности и, в то же время, невозмутимости, уточнил продавец.
— Да, — просто ответила Агна, смотря вверх, на Харри.
— Она новая, с горизонтальными планками, — продолжал информировать покупателей консультант, все меньше разбираясь в том незримом, что происходило вокруг него, но не с ним.
— И в стиле ар-деко. Мне нравится… очень красиво.
— Вас устроит черный цвет, фрау?
— Вполне, — Агна пожала плечом. — Я доверяю выбору моего мужа.
— А я удивлен, что вы так легко выбираете целый автомобиль, — громко произнес Герхард Зофт, останавливаясь рядом с фрау Кельнер, и открыто рассматривая ее.
— Я оплачу покупку чуть позже, спасибо, — вежливо, не меняя своего прежнего тона и не глядя на подошедшего «страхового агента», ответил Харри консультанту.
Продавец наклонил голову, молитвенно сложил ладони, и, сделав шаг назад, ретировался.
— Герр Зофт, — Харри вышел на шаг вперед Агны, и, повернувшись к давнему знакомому, вытянул руку для приветствия.
Герх, уже рассмотревший фрау Кельнер во всех возможных подробностях, перевел взгляд на Харри, и, не отвечая на уже принятое между ними ранее, классическое приветствие, вскинул руку под идеально нацистским, в сорок пять градусов, углом.
Выражение лица Харри изменилось лишь немного, — блеском, скользнувшим в его взгляде на долю секунды. Коснувшись руки Агны, он улыбнулся жене, неторопливо и немного отступил в сторону, и вскинул правую руку вверх. Возникла пауза, а за ней — тишина, явно ощутимая всеми участниками встречи. Зофт, глянцево улыбнувшись, — должно быть, именно той улыбкой, что была заготовлена у него для парадов да ежегодных партийных съездов в Нюрнберге, — не спускал с лица Кельнера серых, проницательных, глаз. А Харри, отвечая ему равным, не менее внимательным взглядом, задался вопросом о том, сколько же допросов должен был к этому моменту провести эсесовец, чтобы натренировать себя на такой взгляд: пристальный, умный и въедливый, не упускающий ни одной детали. Такой, не выдержав который, вы отдавали ему все, вплоть до последней капли своей крови. Мужское противостояние, равно поджигая азартом игрока и Кельнера, и Зофта, могло длиться еще долго: никто из них не желал уступать другому. Исход негласного поединка решила последняя капля, добавленная, как это часто бывает, женщиной: Агна, взглянув на Зофта, произнесла:
— Доброе утро, герр Зофт. Вам тоже понадобился новый автомобиль?
Стальной взгляд Зофта, отвлекаемый от лица Харри прозвучавшим вежливым вопросом, сбился, растерялся и уже окончательно утратил свою силу воздействия. Липовому страховому агенту приходилось ответить фрау Кельнер. Но прежде, чем он это сделал, Зофт, следуя заветам работы в гестапо, запомнил и этот момент, и то, как он потерпел поражение. Из-за Агны Кельнер.
— Да. Мой «Фольксваген» уже никуда не годится, — сказал Герх, попадая в тон Агны.
Фрау Кельнер кинула головой, а губы самого Кельнера затаили, не выдавая, усмешку. Внешне все выглядело очень учтиво и даже слишком вежливо, но в действительности, стоящей за этими правилами приличия, все трое отлично понимали, — и еще более чувствовали, — Герхард Зофт лжет. Да, вполне уверенно, не выдавая себя ни голосом, ни движением, ни взглядом, но — лжет. Губы Зофта потянулись в улыбку, которая, как и прежде, не только не шла к его жестокому, сухому лицу, но и обнажала в нем звериную, страшную и настоящую сущность Герха. Агна, снова заметив в лице «страхового агента» это выражение, едва успела подавить возникший испуг и следующую за ним дрожь. А Кельнер, все увидев и заметив, надеялся на то, что сам Герх не знал о подобной откровенности своего лица: выдавая его с головой, она, как нельзя кстати, помогала Харри и Агне.
— Я вижу, вы уже сделали свой выбор. Opel Kadett. Не самый бюджетный вариант для семьи.
— Две тысячи сто рейхсмарок, наличными, — сообщил Харри, желая посмотреть, что дальше Зофт будет делать с этой информацией, и в какую сторону поведет разговор.
— Значит, народный автомобиль, «Фольксваген», вам уже не подходит? — продолжал накалять разговор Герх, переводя въедливый взгляд с Агны на Харри и обратно.
— Вы правы, — мы неплохо сэкономили бы, покупая «Фольксваген», но, — Агна виновато улыбнулась, — это моя вина: я пропустила один купон, не вклеила его в «Накопительную книжку», и теперь этот автомобиль нам не доступен.
— Конечно, — с готовностью улыбнулся Зофт, не веря ни единому слову Агны, и снова испытывая ее выносливость пристальным взглядом, — ведь купить его вот так просто, за наличные, нельзя. Очень жаль, что вы так рассеянны, фрау Агна.
Герх вытянул из внутреннего кармана пальто белый конверт, и помахал им в воздухе.
— Но пропущенный вами талон — это только малая часть беды, не так ли?.. — Зофт покрутил конверт в руке, делая вид, что любуется им. — Гораздо хуже то, что вы неполноценны, и не только не выполняете своих непосредственных, прямых обязанностей, но и вводите вашего супруга в вынужденные траты. Причем, постоянные. А ведь герр Кельнер мог бы избежать всего этого, просто оформив с вами развод. Не так ли?
С этой фразой Зофт, с удовольствием наблюдая за непонимающим взглядом Агны, протянул Харри конверт, и сказал уже громче, привлекая внимание окружающих:
— Вы не оплатили штрафной сбор по этому месяцу, герр Кельнер. Вы же помните, что вам, как бездетной семейной паре, назначен штраф? Пять лет в браке, без детей… Не иначе, это саботаж с вашей стороны. Или с вашей, фрау Кельнер? О, простите! Я, кажется, повторяюсь вслед за Ханной Ланг? Или, скорее, Ханной Томас?
Зофт начал делать шаг к девушке, но не успел его завершить, едва ли не вплотную наталкиваясь на Кельнера, выступившего вперед и закрывшего собой Агну.
— Я помню, герр Зофт, — Харри вытянул конверт с квитанцией из руки Герха, взглянул на отпечатанный на нем текст с указанием нового адреса Кельнеров, и их имена. — Спасибо, что передали счет. Я оплачу штрафной сбор завтра же утром.
Вынужденный отступить, Зофт посмотрел на блондина злым взглядом.
— Рад, что вы так исполнительны, герр Кельнер. Во всем должен быть порядок. Надеюсь, вас не сильно тревожит то, что начиная с этого года сумма сбора повышена на сорок процентов для бездетных пар, состоящих в браке более пяти лет?
— Меня это нисколько не тревожит, — спокойно произнес Харри, продолжая смотреть в глаза Зофта.
Выпустив ненадолго руку Агны, Кельнер убрал конверт во внутренний карман пальто, и приподнял бровь, адресуя Герху вопрос.
— Что-то еще?
— Да, — тяжело вздохнув, признался Герх. — Мне, правда, очень жаль, но, боюсь, страховые выплаты, положенные вам после погромов, аннулированы.
Харри провел ладонью по левому отвороту пальто, за которым теперь находился конверт с выписанным штрафным сбором, и, заведя руку за спину, коснулся руки Агны.
— Правда, очень жаль.
После этой скупой фразы Кельнер замолчал. Только выпрямился еще больше, — словно по невидимой, натянутой струне, — и расправил широкие плечи.
— Я пошутил, Харри! — Зофт ненатурально рассмеялся, демонстрируя в улыбке острые резцы. — Хотел проверить реакцию. Простите! Деньги поступят на ваш счет завтра: вся сумма, положенная по страховым выплатам, — за дом, автомобиль Mercedes 770, мотоцикл Harley Davidson, утраченное имущество и моральный ущерб.
Кельнер широко улыбнулся, показывая в улыбке ровный ряд белых зубов.
— Издержки нервной профессии, герр Зофт? Я понимаю. Спасибо за хорошие новости.
Герх улыбнулся в ответ, но улыбка тут же сникла, оплывая по углам губ вниз.
— Рад встрече, но теперь мне пора. Нужно и мне найти свой автомобиль.
— Конечно. Нам тоже нужно идти.
Они уже разошлись в разные стороны, как Зофт, стукнув себя по лбу, остановил Кельнеров, и, снова подойдя к ним, спросил о том, что, конечно же, было им и так известно: совсем скоро состоится торжественный вечер, посвященный открытию дома мод фрау Гиббельс по новому адресу.
— Вы приглашены? — спросил Герх, не отводя внимательного взгляда от Агны.
— Мне ничего не известно об этом вечере, герр Зофт, — чуть улыбнувшись, ответила девушка.
— Вы приглашены. Меня просили сообщить вам об этом.
Голос эсесовца прозвучал твердо. Кратко кивнув Кельнеру, Зофт начал проталкиваться сквозь плотную толпу. А Харри, прожигая спину Герхарда взглядом, смотрел ему вслед до тех пор, пока «страховой агент» не скрылся из виду. Вполне допуская, что Зофт, несмотря на множество людей вокруг, может продолжать за ними слежку, — сам или при помощи других негласных наблюдателей, — Кельнер не спеша повернулся к Агне, обнял ее за талию, и, шагая размеренно и широко, пошел вместе с ней к кассам автомобильного салона.
— Черный Opel Kadett на имя фрау Агны Кельнер. Две тысячи сто рейхсмарок, наличными, — наклонившись к окну кассы, произнес Харри.
* * *
Элис выключила зажигание, и откинулась на спинку водительского сидения. Несколько минут она молча смотрела перед собой, с облегчением осознавая, что действительно ни о чем, совершенно ни о чем не думает. При этой мысли ее губы сложились в тихую усмешку над самой собой. «Но ведь ты думаешь о том, что не думаешь…».
Не прерывая молчания, Эл посмотрела по сторонам. Тихо, темно и немного холодно. Девушка передернула плечами, не сумев сдержать короткую волну озноба. Они приехали на новое место, чтобы отправить в Центр очередную шифровку.
Кельнеры, следуя своим служебным обязанностям и правилам разведки, были, почти всегда, — хотя Баве с этим наверняка не согласился бы, — исполнительны в плане сообщения информации, и предусмотрительны в том, что касалось смены точек выхода в эфир: их они меняли часто, не желая на практике проверять, в самом ли деле за ними может следить гестапо (Зофт был исключением из этого подозрения, — у него, как был уверен Эдвард, была своя игра, и довольно большая, выходящая далеко за рамки банальной прослушки и слежки), или это им только кажется.
Украдкой посмотрев на как всегда в таких случаях сосредоточенного Милна, Элис опустила взгляд на свои руки, и тихо произнесла:
— У меня есть два вопроса.
Эдвард, удивленный то ли официальностью ее тона, то ли напряжением, явно звучавшим в голосе Эл, повернулся к ней, в темноте окружающей ночи да в свете карманного фонаря сумев рассмотреть только мягкий кончик курносого носа. Нежная улыбка тронула его тонкие губы.
— Слушаю.
— Почему ты доверил общение с Мариусом именно мне? Ты же был против него.
Милн покачал головой.
— Ты не права, Эл. Я не против Мариуса. Я против того, чтобы в нашем новом доме, кроме беременной Кайлы, которой тоже нужно помочь, находился кто-то еще. Если что-то пойдет не так, и план сорвется, ее присутствие в доме Кельнеров мы легко сможем объяснить, а вот Мариус, если его найдут…
Элис громко и нервно сглотнула, согласно кивая.
— Ты тогда сказал удивительные слова.
— Какие?
— «Проведи с ним побольше времени и запомни эти минуты, Агна. Они больше никогда не повторятся».
— Я чертов фаталист, Эл, да? — с улыбкой в голосе спросил Эдвард, и хмыкнул.
— Ответь, пожалуйста. Почему ты так сказал? Почему доверил заботу о Мариусе мне?
Заметив, что Элис говорит абсолютно серьезно, Эд перестал улыбаться, и помолчал, раздумывая над ответом.
Эл не торопила его, только терпеливо ждала. И Милн ответил, просто и сокровенно. И от его слов сердце Элис скатилось в жар.
— Ты беспокоишься о нем. И любишь его. Я просто хочу, чтобы перед разлукой с Мариусом у тебя было хотя бы немного больше счастья, Эл.
Элис бросила на Эдварда быстрый, пронзительный взгляд, и он, словно читая ее мысли, продолжил:
— А запомнить надо для того, чтобы выдержать все, что нам предстоит. Дальше будет еще темнее, Эл. Но мы справимся. И ты справишься потому, что у тебя будут эти воспоминания. В самые тяжелые минуты помогают именно такие.
Милн замолчал, изумляясь собственным словам, и услышал, как Элис плачет. Отыскав ее руку, он крепко сжал пальцы Элис, передавая ей часть своей силы.
— Спасибо… я очень благодарна тебе за это.
Милн горько улыбнулся в темноте, — одним острым углом рта, и отвел взгляд в сторону, чувствуя, как в душе поднимается волна его собственной боли.
— А второй вопрос?
Фраза прозвучала торопливо: так Эдвард планировал обмануть самого себя, сбавляя градус поднявшейся в нем боли.
— Ты так и не рассказал о допросе, который тебе снова устроил Хайде. Что он хотел?
Милн пожал плечом, не придавая той встрече со «стариной Эрихом» никакого особого значения.
— Демонстрация власти, Эл, только и всего. После обыска, устороенного в кабинете Харри, он увел меня на допрос, который не состоялся потому, что Софи, секретарша Кельнера, до крайности обеспокоенная неподобающим, растрепанным видом своего начальника, побежала к директору. А тот, зайдя в комнату, одним своим появлением прекратил допрос Эриха, вот и все.
— Правда? — с сомнением и облегчением уточнила Эл.
— Истинная!
— А рука?
— Это было до допроса.
Эдвард улыбнулся, призывая Элис не грустить.
— Ты слишком сильно за меня переживаешь, renardeau. Не бойся, я со всем справлюсь.
— Иногда мне кажется, что за все последнее время не было ни дня, чтобы тебя не били, не допрашивали, не мучили…
Глубоко вздохнув, Эдвард, понимая, что все слова сейчас будут лишними, придвинулся ближе к Эл, и крепко ее обнял, переплетая свои длинные пальцы с волосами Элис.
— У меня тоже есть к тебе вопрос. Один.
Горячее, прерывистое дыхание Эл прошлось по шее Милна теплой волной. Девушка замерла в его руках, готовая услышать вопрос.
— О чем говорил Зофт? Ханна тебе что-то сказала?
Эл сжалась, еще плотнее прижимаясь к Милну. Из ее горла вышел непонятный, мучительный стон.
— Не хочу… говорить об этом.
Сделав вдох, Элис замерла, не имея сил вытолкнуть воздух из легких. И Милн, с оборвавшимся сердцем, почувствовал, как от нервной судороги она начинает задыхаться.
— Не хочу…
— Все-все, прости! Прости… не отвечай… тише, тише… прости меня…
Эл спряталась в руках Эдварда, и долго молчала. Постепенно и очень медленно ее дыхание восстановилось. Отникнув от Эда, она посмотрела на него блестящими, темными глазами.
— Я расскажу тебе. Как смогу. Но это не значит, что я тебе не доверяю!
Милн с сочувствием и любовью посмотрел на Элис, и поправил ее спутанные волосы.
— Надо все передать, нас ждут, — шепнула Эл.
Эдвард согласно кивнул, и через несколько минут в столицу Великобритании, четкая и быстрая, отбитая Эл, как по нотам, побежала важная шифровка:
«…Информацию, полученную по Польше, требуется проверить. Пока с полной уверенностью могу сообщить, что в планах Германии действительно есть намерение напасть на Варшаву. Разработка данного нападения ведется в Берлине еще с 1936 года, в обстановке строжайшей секретности.
Кроме этого, считаю необходимым сообщить, что к настоящему моменту в Берлине фактически завершены политические перестановки в высших кругах германской власти, которые повлекли за собой изменение формы командования вооруженными силами, и усиление влияния НСДАП на внешнюю и внутреннюю политику. Грубер, по существу, получил полную свободу действий в реализации своих военных планов…».
Француз.
В шифровке, только что улетевшей в Форрин-офис, речь шла о важной перестановке в высших кругах германской власти, которая позже получила название «дело Фрича-Бломберга». Суть ее сводилась к тому, что на закрытом совещании, которое состоялось еще в 1937 году, Грубер сообщил генералам о своем решении: использовать вооруженные силы Германии против Австрии и Чехословакии даже в том случае, если это приведет к войне с Англией и Францией.
Вальтер фон Фрич, — генерал-полковник, главнокомандующий сухопутных войск, как говорили некоторые, открыто демонстрировавший неприязнь не только к нацистам, но и к детищу Гиллера, СС, заявил о нежелательности такого шага «с военной точки зрения». Грубер, как, опять же, болтали в близких к нему кругах, пришел в ярость от слов Фрича, и, не дослушав его, покинул совещание. До определенного момента о мнении генерала-полковника великой германской армии забыли. И вспомнили, — вернее, вспомнил, потому что самое активное участие в настоящих событиях принимал Гиринг, — после того, как расправились с фельдмаршалом Бломбергом. Устранение и Фрича, и Бломберга, надо полагать, не доставило тучному Херманну никаких хлопот, — только удовольствие от расправы с соперниками. Так, Бломберг, страстно влюбленный в свою секретаршу, «простую девушку» Эрну (или Еву) Грун, просил у Гиринга содействия в заключении законного брака. И получил его так всецело и всесторонне, что свидетелем на свадьбе был не только «дядя Херманн», но и сам великий фюрер! Эффект от бракосочетания был великолепным: наглядно было доказано всем, что в нынешней Германии нет места классовым предрассудкам и препонам! Молодожены уехали в свадебное путешествие по Италии, а пока они любовались островом Капри, кое-кто неравнодушный, на кого данное бракосочетание произвело обратный эффект, нашел досье на новую супругу бравого Фрича, в соответствии с которым Эрна оказывалась не кем иным, как дамой легчайшего поведения, выросшей в берлинском борделе, который ее мать содержала под видом массажного салона, да к тому же, — казалось бы, куда дальше, но и дальше быть могло, — новая фрау фон Бломберг в прошлом была осуждена за позирование для порнографических открыток. Гиринг, узнав подробности из этого досье, бывшего в документации «полиции нравов», пришел в восторг. Чего не скажешь о Грубере, да и самом Бломберге. Последнему было предложено развестись с опозорившей его женой, и он, казалось бы, согласился на такой горький шаг, но армия, раз возмутившись, не успокаивалась, требуя немедленной отставки фельдмаршала.
Итог оказался ясным: фон Бломберга уволили, после чего Гиринг принялся за Фрича.
И Вальтера, «офицера старой немецкой школы», героя первой войны, — при всемерном содействии Гиллера, давно питавшего неприязнь к Фричу, его помощника Гейдриха и все того же Гиринга, — обвинили, ни много, ни мало, по статье 175 уголовного кодекса Германии (склонение к гомосексуализму), раскрыв «подробности» о том, что с 1935 года Фрич якобы платил шантажировавшему его заключенному для того, чтобы замять дело. Бломберг, уже получивший свою долю внимания от власти, не стал никого в этом разубеждать, а Грубер был уверен в правдивости доказательств по делу Фрича, собранных гестапо. То, что обвинения оказались ложными, никого особенно не интересовало. Фрич требовал рассмотрения дела военным судом, но судопроизводство было и вовсе прекращено. А сопротивление объединившимся в этом случае «дяде Херманну» и Гиллеру оказалось бесполезным. Именно такими путями, — в лучших традициях великого рейха, — Грубер получил всю возможную полноту власти, а Гиринг добился полного устранения соперников, чьи должности он давно мечтал получить.
— Фройляйн Розенхайм и… —
Секретарша Фрэнка Фоули растерянно замолчала, и перевела взгляд на молодую женщину и мальчика. Фоули, поставив подпись в документах, разложенных перед ним на столе, посмотрел на посетителей.
— Кете! Доброе утро! Так рано… Что-то случилось?
— Нет, ничего… Ничего срочного, — тихо ответила Кете, улыбаясь Фоули.
Улыбка тут же сошла с ее лица, и Фрэнк, посмотрев на нее, повернулся к мальчишке, безмолвно застывшему рядом с ней.
— Спасибо, — повысив голос для секретарши, ответил Фрэнк, и вернул ей документы со своей подписью.
Девушка кивнув, скрылась за высокой дверью кабинета.
— Герр Фоули, это Мариус, — представила мальчика Кете, внимательно наблюдая за Фрэнком, и проверяя, понял ли он, кто перед ним.
Фрэнк понял.
Потому что не мог забыть ничего из того, что имело отношение к Агне Кельнер. По этой же причине он узнал высокого, тощего мальчишку еще до того, как Кете сообщила его имя. «Значит, тот самый Мариус…» — подумал Фоули, останавливаясь возле своего стола, и рассматривая мальчика. Ответом ему стал прямой и наглый, блестящий взгляд огромных, беспокойных глаз. Скрестив руки на груди, Фоули не спеша покачался из стороны в сторону, и, наконец, проговорил:
— Чем могу помочь, Кете?
— Документы для отъезда Мариуса почти готовы, осталось только заверить поручительство родителей.
Вытянув из маленькой сумочки небольшой листок, Кете опустила его на стол перед Фоули. Не торопясь брать исписанный от руки лист, Фрэнк в начале только рассматривал его с какой-то странной, блуждающей по лицу улыбкой, склонившись над столом. Наконец, прочитав текст, он, посмотрев сначала на Кете, а затем на Мариуса, медленно произнес:
— Я не могу заверить это поручительство.
— Фрэнк!
Кете изумленно взглянула на него. Так, словно совершенно перестала его узнавать.
Мужчина повернулся к фройляйн Розенхайм.
— Ты же знаешь, это… нужно заверить! — с жаром проговорила Кете, все больше волнуясь.
— А он не хочет!
С насмешкой, тихо, рассматривая Фоули в упор, проговорил Мариус.
— Как Агна Кельнер, Кете?
— Агна? — все больше удивляясь Фрэнку, спросила женщина. — Она…
— Придет к нам сегодня, — заявил Мариус, все так же насмешливо рассматривая Фрэнка, и ухмыляясь.
— Я хочу сначала поговорить с ней. Затем я подпишу документы для Мариуса.
Фоули согнул лист с поручительством, убрал его во внутренний карман пиджака и медленно провел рукой по отвороту. Кете, все это время наблюдавшая за Фрэнком молча, выдохнула:
— Не узнаю тебя! Когда ты стал таким?
Она посмотрела на Мариуса, давая понять, что им пора уходить.
— Каким, Кете? — спросил Фоули, глядя, как они идут к двери.
Ответа не последовало.
— Каким, Кете? Каким я стал?
Агна очень спешила. Она опаздывала к Кете, и больше всего боялась того, что что-то в предстоящем разговоре с Мариусом может пойти не так. К тому же, время, раз уже сбившись, — когда Агна Кельнер задержалась в доме у клиентки, — окончательно пошло вспять, убегая, как со страхом казалось Агне, все больше и больше. И теперь на разговор с Мариусом у нее осталось не более десяти-пятнадцати минут. Что можно успеть за этот промежуток времени? Нужно поговорить с Мариусом по-настоящему, обстоятельно: от этого теперь во многом зависит успех всего мероприятия, организованного Кельнерами и Кете Розенхайм.
Агна прибавила шаг, перешла почти на бег, и едва не упала, сумев удержаться на каблуках в последний момент. Остановившись, девушка глубоко вздохнула, поправила сбившиеся волосы и медленно пошла вперед, через небольшой переулок, который остался на ее пути перед домом Кете. Чувствуя, как волнение, не утихая, по-прежнему плещется в груди и горле, — «как именно и о чем мне говорить с Мариусом?!», — Агна снова остановилась.
Чем ближе была встреча с мальчиком, тем больше она нервничала. Времени оставалось слишком мало, — Агне нужно успеть еще к одной клиентке, а то, о чем она должна поговорить с Мариусом, — и не просто поговорить, а взять с него обещание и верное слово, что его берлинские вылазки с ножом в кармане прекратяться, — кажется, с большим трудом можно уложить в эти несколько минут. Тряхнув головой, и чувствуя, как волосы щекочут шею, Агна быстро улыбнулась самой себе, и нажала на белую кнопку дверного звонка.
* * *
Дверь, после небольшой паузы, открыла Кете. Нерешительно улыбнувшись Агне, она отошла в сторону, пропуская девушку в дом, выглянула на улицу, осмотрелась по сторонам, и быстро, бесшумно закрыла ее.
— Мы были у Фоули, я и Мариус! — быстро прошептала Кете, поворачиваясь к Агне.
На лице фрау Кельнер появилась насмешка.
— Он сказал, что прежде хочет поговорить с тобой. И только после этого подпишет поручительство для Мариуса.
— Что еще желает Фрэнк Фоули? — надменно спросила Агна, и, видя растерянность Кете, добавила своим обычным, спокойным тоном, — Прости, Кете. Фрэнк Фоули меня нервирует. К тому же, я думаю, он просто непроходимый, упертый дурак!
Кете растерла ладони, и опустила глаза вниз.
— Я сама его не узнаю, Агна! А что если ничего не получится?
— Получится, — заверила девушка. — Обязательно получится!… Как Мариус?
Кете пожала плечами.
— Я сейчас поговорю с ним, а потом мы обсудим, что делать дальше.
— Обсуждать нечего, Агна, — глухо ответила Кете. — Как всегда нужны только деньги. Иначе документов для Кайлы не будет.
Девушка задумчиво кивнула.
— Сколько?
— Еще три тысячи марок.
— Неплохая сумма…
Агна посмотрела по сторонам, отметила про себя книгу, раскрытую на столе, — «должно быть, Кете читала до того, как я пришла», — и, обняв женщину за плечи, отвела ее к столу и посадила на стул. Присев перед Кете, Агна крепко сжала ее руки и прошептала:
— Я поговорю с Мариусом, а потом вернусь сюда.
Кете, подавленная и растерянная утренней встречей с Фоули и новыми трудностями, возникшими при оформлении паспорта для Кайлы, едва заметно кивнула.
— Здравствуй.
Агна заглянула в комнату Мариуса после короткого стука и долгого молчания. Услышав ее голос, мальчишка резко обернулся, радостно и жадно разглядывая девушку. Губы его то тянулись в улыбку, то теряли ее.
— В-в… вы! — Выдохнул Мариус и вскочил с кровати, роняя нож на пол.
Агна улыбнулась мальчику и подняла нож. Сжав деревянную рукоять, она внимательно рассмотрела узкое, блестящее лезвие, и осторожно коснулась его кончиком указательного пальца, с удивлением наблюдая за тем, как от этого легкого касания на пальце выступает капля крови.
— Очень острый!.. Я даже не заметила, как порезалась.
Девушка улыбнулась, закрывая порез.
— Вам очень больно?! — вскрикнул мальчик, бросаясь к ней.
— Мариус, это пустяк, — Агна ласково улыбнулась ему, и достала из сумочки носовой платок. — Мне нужно с тобой поговорить, и у меня очень мало времени.
— Я вас слушаю! — все так же громко, ломающимся голосом, объявил Мариус.
Агна прижала указательный палец к губам, и мальчик понимающе кивнул.
Снова посмотрев на нож, который она по-прежнему держала в руке, девушка сказала:
— Я знаю про твои выходы в город, Мариус. Это очень опасно.
— Но я всегда осторожен! Никто меня не видит!
Агна невесело усмехнулась.
— «Никто»? Ты уверен?
Замечая, что он готовится ей возразить, Агна продолжила, чуть повысив голос:
— Неважно, когда ты выходишь в город: днем, вечером или ночью, — это всегда опасно! Здесь всегда опасно, Мариус! И если тебя поймают, то отведут в гестапо… В лучшем случае. В худшем — они убьют тебя, и мы не сможем помочь тебе и ничего о тебе не узнаем! А мы хотим помочь, пойми меня! Но если ты будешь и дальше бегать по Берлину с ножом, выслеживая тех, кто убил твою маму, это… плохо кончится!
— Они убили ее! И я буду мстить! Я найду их!
— И погибнешь сам! А мы — за тобой!
Агна швырнула нож и сумочку на пол, и отошла к стене, где под потолком блестело дневным светом и переливалось шумом улиц маленькое окно.
— Ты хочешь жить или умереть? — глухо спросила Агна, касаясь дрожащей рукой темной, холодной стены.
— А хочу найти их и убить! — горячо заявил Мариус, подходя ближе к девушке, и останавливаясь за ее спиной.
Агна покачала головой.
— Даже если ты это сделаешь, тебя все равно найдут. А если найдут тебя, то и нас. Всех нас…
Девушка повернулась к Мариусу, но не смогла посмотреть на него, ее глаза были переполнены слезами.
Оторопело застыв перед Агной, мальчик молчал. Наконец он тихо спросил:
— Вам очень страшно?
— Это не имеет значения, Мариус, я говорю не об этом.
— Вам очень страшно, — уже твердо заявил мальчишка, не зная, что ему делать и с этим неожиданным знанием, и со всем, что происходит вокруг.
— Ты… ты должен пообещать мне, что перестанешь их искать! Ты должен пообещать мне, что не станешь больше так рисковать!
Агна замолчала, резко и глубоко втягивая воздух в легкие.
— Я, все мы очень хотим помочь тебе, Мариус. И у нас есть такая возможность. Но если ты продолжишь бегать по Берлину, то погубишь не только себя, но и меня, Харри, Кете и Кайлу! А Кайла беременна!..
Агна обняла себя руками, вздрагивая от волнения и внезапного холода.
— Я хочу, чтобы ты жил, понимаешь? Мне очень, очень жаль тебя и твою маму, но после того, что с ней случилось, ты тем более должен жить! Должен именно потому, что они этого не хотят.
— Простите, простите меня, фрау Кельнер!
Мариус рухнул на пол и закрыл лицо руками.
— Я все время вижу ее лицо. В тот день, в ту минуту… И ничего не могу сделать! Не могу оттащить их от нее, моих сил не хватило… Они били ее в живот, знаете?… А когда им надоело, они засмеялись и застрелили ее… Так, смеясь, и стреляли. И снова смеялись, когда я подбежал к ней. «Она сдохла, еврей! Твоя грязная мать сдохла!» — так они кричали.
Мариус заплакал навзрыд, не отнимая ладоней от лица. Прошло много времени, прежде чем он успокоился и почувствовал, как Агна крепко обнимает его и целует в волосы.
— Мне очень жаль, Мариус! Мне так жаль!
Ее глаза снова закрылись дрожащей пеленой слез.
— Не плачьте! Из-за меня не плачьте! Я все сделаю, я уеду, я буду вести себя тихо! — закричал мальчик, вскакивая на ноги.
Агна помолчала, собираясь с силами. Поднявшись, она подошла к Мариусу, и, нежно проведя рукой по его волосам, прошептала:
— Веди себя тихо и всегда будь осторожен. Но никогда не позволяй себе думать, что ты «плохой» или «грязный». Это не так. Они хотят, чтобы ты так думал. Не доставляй им этой радости.
Мариус кивнул, не поднимая головы.
— Я приду через два дня. Пока меня не будет ты должен успокоиться и позаботиться о Кете. Ей очень страшно. Справишься?
Мариус снова кивнул, продолжая буравить пол взглядом темных глаз.
— Вот и молодец. А это — Агна наклонилась и подняла с пола нож, — я заберу с собой.
Ответом ей была только тишина. Девушка и не ожидала ответа от Мариуса, но когда она была уже у двери, он четко сказал:
— Простите меня, я не хотел причинить вам беспокойство. Я все сделаю как надо, обещаю. И успокою Кете.
— Хорошо. — Агна с мягкой улыбкой посмотрела на Мариуса через плечо. — Тогда до встречи.
— Спасибо… да! До встречи! А этот?
— Кто?
— Фоули, у которого мы были сегодня утром. Как с ним?
— Не беспокойся, — ответила Агна вслух, а про себя подумала, что ей очень хочется к этим словам добавить привычную фразу Эда: «Я разберусь».
Выбегая из дома Кете, Агна уже знала, что сильно опоздала. Кажется, настолько, что можно уже не торопиться. Впрочем, это утешение было весьма сомнительным, а недовольство фрау Гиббельс, которая собирала их для отчета в конце каждой рабочей недели, было как раз тем, что Агна Кельнер очень хотела бы избежать.
Но, кажется, сегодняшний день был скроен прямо противоположно ожиданиям и планам Агны. Новым подтверждением этого стала встреча с Фрэнком Фоули. Вернее, столкновение. Отбросив в сторону все претензии к презентабельному внешнему виду «настоящей германской женщины», о которых неустанно говорилось в печати и по радио, Агна перешла на бег. Каблуки ее туфель звонкой дробью стучали по тротуару, Агна, оглянувшись, успела поймать белый платок, едва не упавший на землю, успела зажать его в руке, но вот вовремя заметить вышедшего из проулка Фоули не смогла. И потому столкнулась с ним неожиданно и резко. Первые секунды после столкновения ушли на то, чтобы восстановить сбитое дыхание. Агна зло смотрела на мужчину, и молчала.
— Вы! — прерывисто выдохнула Агна.
— Агна… Агна Кельнер! — с волнением и улыбкой отозвался Фрэнк, продолжая держать девушку за плечи.
— Пустите! — фрау Кельнер вывернулась из рук Фоули, и, бросив «до свидания», быстро зашагала вперед.
— Агна! Фрау Кельнер, подождите! — Фрэнк, обогнав девушку на пару шагов, остановил ее.
— Я очень тороплюсь, герр Фоули. Мне некогда говорить с вами.
Агна произносила слова серьезно и резко, в ее тоне не было ни капли шутки или кокетства, но Фоули, смотря на нее, и снова рассматривая черты ее лица и фигуру, не мог перестать улыбаться.
— Я только хотел узнать, как вы, Агна, — зачарованно проговорил Фоули, и поморщился. — Простите. Фрау Кельнер.
Улыбка его, с которой Фрэнк смотрел на девушку, омрачилась, когда он заметил в глазах Агны следы недавних слез.
— У вас что-то случилось?
— Нет, герр Фоули, у меня все хорошо, — ответила Агна, обходя мужчину.
— Не обманывайте меня, Агна… То есть фрау Кельнер, по вашим прекрасным глазам видно, что вы совсем недавно плакали. — Фоули подошел ближе к девушке. — Они такие яркие, и так блестят…
Наклонившись к Агне, Фоули поцеловал ее в губы.
— Вы… — Девушка оттолкнула Фрэнка и ударила его по лицу. — Что вы себе позволяете?! Говорите со мной подобным тоном! «Не обманывайте меня, Агна»! А теперь еще и… Агна задохнулась от холодного зимнего воздуха, и вынуждена была замолчать, чтобы восстановить дыхание. Раскрыв сумочку, она начала искать носовой платок, но он, как назло, никак не попадался под руку. Зато нож, который она забрала у Мариуса, тупо звякнув, упал на тротуар, к ногам Агны. Она наклонилась, чтобы поднять его, но Фоули оказался быстрее.
— Это ваше?! — Фрэнк удивленно посмотрел на девушку. — Это ваше, фрау Кельнер?
— Вас не касается!
Девушка вырвала нож из руки Фоули, каким-то чудом не задев острым лезвием ни себя, ни его.
— Надеюсь, это наша последняя встреча, — обмотав лезвие ножа наконец-то отыскавшимся платком, Агна бросила его в сумочку.
— Агна! — крикнул Фоули, шагая за ней. — Простите!
Девушка остановилась, зло рассматривая взволнованное лицо Фрэнка.
— Ответьте на один вопрос, герр Фоули. Я дала вам повод?
— Вы? — изумленно уточнил Фрэнк. — Нет вы… вы не…
— Тогда что это было?
Отрезвленный взглядом Агны Кельнер, Фрэнк тихо объяснил:
— Простите, Агна.
— Фрау Кельнер.
— Да… это все я, сам… с первой встречи я… не могу вас забыть.
Агна молчала.
— Простите, я… не смог сдержать себя. Я… вот!
Фоули торопливо вытащил из внутреннего кармана пальто исписанный от руки листок.
— Что это? — все еще строго спросила Агна, не забирая из протянутой руки Фрэнка лист.
— Поручительство на имя Мариуса. Я должен был подписать сразу, сегодня утром, но я хотел увидеть вас, Аг… фрау Кельнер. Извините.
Заметив, что девушка с сомнением смотрит и на него, и на документ в его руке, Фоули торопливо пояснил:
— Вы не думайте, я все подписал, все в порядке! Мариус может ехать. Я все понимаю, я… безумно очарован вами, фрау Кельнер. Простите. Знаю, я не должен это говорить, но… если вам нужна помощь, любая, я…
— Вы уже помогли, — тихо ответила Агна, забирая из руки Фоули поручительство, и пробегая быстрым взглядом по тексту, подписи и печати, которой Фрэнк заверил документ.
По ее тону Фоули так и не смог понять, говорит она серьезно или с иронией.
— Спасибо.
Агна бережно убрала поручительство в сумочку, и плотно закрыла замок.
— До свидания, герр Фоули.
Фрэнк молчал, долго разглядывая лицо Агны, и, наконец, произнес:
— Простите, еще раз. И если вам все-таки будет нужна помощь, любая, — звоните в любое время!
С этими словами Фоули втолкнул в раскрытую ладонь Агны свою визитную карточку, легко коснулся края черной шляпы, и пошел вперед. Агна не оглянулась ему вслед, но отметила про себя растерянную, невеселую улыбку, которой он скользнул по ее лицу, когда проходил мимо.
* * *
— То есть вы считаете, что герр Хайде, сотрудник контрразведки «Фарбениндустри», находящийся сейчас здесь, по правую руку от вас, испытывая к вам продолжительную неприязнь, устроил вам допрос на этом основании?
— Да, — коротко подтвердил Харри.
Начальник Кельнера, грузный и высокий Фридрих Сект, поднялся из-за стола.
Постояв некоторое время на месте, и понадував толстые щеки, он все-таки решил пройтись по кабинету. Ему предстояло разобраться в непростом деле, которое, — если бы не слезы и слишком эмоциональное обращение секретарши Кельнера, фройляйн Софи Кох, — скорее всего так и осталось бы неизвестным потому, что по какой-то причине, которую Сект все еще не выяснил, его подчиненный, Харри Кельнер, в отличие от крайне расстроенной его судьбой фройляйн Кох, не спешил сообщать кому-либо о фактах допроса со стороны сотрудника контрразведки Эриха фон дер Хайде.
— Так вы не планировали сообщать мне, вашему непосредственному начальнику, или кому-либо еще из руководства фирмы "Байер" о допросах, проводимых герром Хайде в вашем отношении? Почему?
Кельнер пожал здоровым плечом и безразлично посмотрел перед собой.
— Я и подумать не мог, что герр Хайде действует только из своей личной инициативы. В любом случае, у меня никогда не было намерения противостоять тем, кто обладает большими полномочиями, чем я.
— Врешь, сволочь! — едва ли не выпрыгивая из кресла, заорал Хайде.
Лицо его было таким свирепым и так полно ненависти, что если бы он мог, то обязательно вцепился бы в Кельнера. Прямо так, — зубами, в шею!
«Вот до чего я дошел!» — думал Эрих, мечтая о расправе над Харри.
Но в самый интересный момент, когда она была так невероятно близка, в подвал, куда он только что притащил Харри, неожиданно явился Сект. И теперь уже ему, Эриху, приходилось отвечать на его вопросы. Хайде сглотнул, предвкушая следующий за этим круг сомнительного удовольствия, — ответ перед своим непосредственным начальством, которое, как и Фридриха Секта, наверняка очень интересуют причинно-следственные связи допросов, которые Эрих учинял Кельнеру «из своей личной инициативы».
— Тихо! — Сект с размаху ударил по столу рукой и уставился на Эриха. — Что вы скажете, Хайде? На каком основании вы учиняли допросы Кельнеру?
— Мое дело — контрразведка, и мне, как сотруднику контрразведки, показалась подозрительной и внезапная поездка Кельнера в Лондон, и то, что среди его документов мною был найден список новых заключенных лагеря в Дахау.
— «Показалась подозрительной» или на самом деле все это подозрительно, и заслуживает тщательного исследования? Какие у вас доказательства против Кельнера?
Хайде тяжело вздохнул и надолго замолчал.
— Вы заставляете себя ждать, Хайде!
— Никаких.
— Громче! — буйствовал Сект, взбешенный тем, что в работу его ведомства без всякого согласования с ним вмешивается контрразведка.
— У меня нет никаких доказательств против Кельнера, только мои личные подозрения.
— Засуньте свои личные подозрения в… — тихо начал Сект, наливаясь кровью. — Я не позволю без согласования со мной влезать в работу моего ведомства! Вшивая контрразведка!
Сект задохнулся от гнева, и принужден был замолчать. А пока молчание длилось, — прерываемое бульканьем воды, которую Сект заглатывал огромными глотками из стакана, — Кельнер повернулся к Хайде, и с улыбкой взглянул на него. Эрих, и без этого блестящего смехом взгляда чувствовавший себя как зарвавшийся школьник, под прицелом ярко-голубых глаз Харри совершенно стух.
— Так какие ваши подозрения, Хайде? Помимо того, что несколько лет назад Кельнер выезжал в Лондон, и из этого, по вашему мнению, следует, что он шпион и предатель?
Сект сел на край стола, упираясь взглядом воспаленных глаз в Эриха. Хайде невольно сглотнул.
— В бумагах Кельнера я нашел список заключенных.
— Вы уже сказали об этом дважды. Ну и что вас в этом удивляет?
— Зачем сотруднику фармацевтической компании подобные списки? Тем более с именами новых заключенных?
— Мы не просто «фармацевтическая компания», как вы изволили выразиться, Хайде. «Байер» входит в состав концерна «Фарбениндустри», а это, как вам должно быть известно, — если не все ваши мозги вы потеряли в своей контрразведке, — крупнейший промышленный конгломерат нашей великой Германии!
Сект замолчал, давая торжественно произнесенным словам побольше места в душном кабинете.
— Я знаю, герр Сект, и…
— И у вас нет никакого права проводить какие-либо мероприятия самолично, без уведомления своего начальства и меня!
Сект наклонился над Хайде так низко, что в какой-то момент Харри показалось, что его начальник планирует вытрясти из старины Эриха все остатки и без того не слишком хороших мозгов. «Если это случится, с Эрихом станет совсем скучно», — подумал Кельнер, улыбаясь своим мыслям. Лукавая улыбка изогнула его губы в тот момент, когда Сект перевел взгляд своих маленьких, мутных глаз на него.
— А вам, Кельнер, весело? Нравится общаться с контрразведкой за спиной начальства, подвергая мою репутацию риску?!
— Простите, герр Сект. Но я был уверен, что все… Мероприятия, организованные герром Хайде, вам известны.
— Известны! Известны только теперь!
Сект снова закружил по кабинету. Остановившись у окна, он уставился на здание «Гранд-отеля», и сказал:
— Хотя это вас не касается, Хайде, я скажу именно при вас. С сегодняшнего дня Харри Кельнер находится в должности начальника надзорного отдела, в ведении которого расположены лагеря, ближайшие к Берлину. Надеюсь, теперь вы уберете свои поганые руки от меня и моих сотрудников, и дадите нам возможность спокойно работать на благо нашего великого рейха?
Хайде, уже давно и неоднократно пожалевший о своих вольностях в отношении Кельнера, только молча кивнул, уставившись в пол кабинета.
— Кельнер, документы о вашем новом назначении переданы в бухгалтерию. Зайдите, ознакомьтесь.
— Благодарю, герр Сект.
— На этом все. Хайде, если я узнаю еще что-то подобное, что будет хотя бы в малой степени угрожать мне или моей репутации, я обращусь к Гиллеру. И тогда, при следующей инспекции лагеря Дахау, смотреть на Кельнера из-за колючей проволоки будете уже вы.
* * *
Пересекая площади и мостовые Берлина широкими и нервными шагами, Фрэнк торопливо возвращался в свой рабочий кабинет на Фридрихштрассе. Поглощенный мыслями о только что состоявшейся встрече с Агной Кельнер, он почти бежал по улице, не замечая ничего из происходящего вокруг. Один только стыд владел им и грыз его.
«Нет, не только…» — поправил себя Фоули, боясь сформулировать то, что помимо стыда, жгло его душу. Все эмоции Фрэнка обострились настолько, что ему мерещилось, будто он весь стал острым углом или… «тем ножом в руке Агны». Эта мысль обожгла его новым приступом стыда, и Фрэнк остановился, глубоко вдыхая воздух. Он ничего не мог с собой сделать, — с тех пор, как он увидел Агну Кельнер, его личное безумие, начавшись при встрече с ней и Кете две недели назад, в его кабинете, теперь становилось только сильнее.
Ругая себя последними словами, он знал и чувствовал одно, — все его усилия бесполезны, он не будет таким, как раньше. Ничто не будет таким, как раньше. А сейчас… «сейчас я даже не могу сдержать себя рядом с ней!» — думал он, зная, что доводы рассудка бесполезны. Он хотел ее, ее душу и красоту, улыбку и смех, и злость, от которой яркие глаза Агны Кельнер темнели, и становились еще более прекрасными, такими, что он немел при взгляде на нее, и не мог подобрать ни одного сравнения, которое было бы способно передать то, какой он ее видел. А еще было ее имя. Табу — для него, которое он нарушил сегодня… «Сколько раз?».
Агна.
Ее имя звучало для него гордостью и страстью. Той высотой, что была для Фрэнка навсегда закрыта. Он знал это так же точно, как и то, что вот сейчас он, Фрэнк Фоули, находится в центре Берлина, и, если бросить на этот город первый, беглый взгляд, то, пожалуй, ничто, кроме громадных зданий и красно-бело-черной свастики, развешанной на каждом углу, не смутит торопливого наблюдателя. Ничто не покажется ему опасным, а между тем «программа «Киндертранспорт» может быть закрыта в любую минуту, — так же внезапно, как и началась…». Беспокойные мысли Фоули снова закружили вокруг Агны. Он не сдержался, поцеловал ее. И даже сейчас, когда все закончилось, он все еще ясно чувствовал каждый миг этого краткого поцелуя: вот он приник к ее губам, но до той секунды, когда она, оторопев, оттолкнула его и дала пощечину, было несколько мимолетных мгновений, пусть безответного, но поцелуя. Фоули тяжело вздохнул и закрыл глаза, чувствуя, как сердце рвется эхом по всему телу. Больше ничего не будет, не случится: он использовал свою единственную возможность, и получил именно тот ответ, о котором знал в глубине своей души сразу. Но, как бы ни были плохи дела безответно влюбленного Фоули, эти воспоминания у него никто не сможет забрать.
Агна.
Ему так безумно нравилось ее имя, что он хотел повторять его снова и снова. Но только в своих мыслях, неслышно для других. Она никогда не будет с ним. И дело не только в том, что она замужем, — свободный в нравах Берлин сказал бы, что в этом вопросе, как и во многих других, касающихся старых правил, на самом деле нет никаких границ, — а в том, что сама Агна Кельнер была из тех женщин, кто, выбрав мужчину, остается верной ему.
«Навсегда», — то ли с радостью, то ли с болью подумал Фоули, растирая лицо ладонями, и переводя себя в реальность.
А здесь, в серости и шуме зимнего, короткого дня, было то, что ему требовалось хорошо обдумать. И это тоже касалось Агны Кельнер.
Фрэнк снова ясно вспомнил ту секунду, когда заметил наблюдавшего за ним мужчину. Агны тогда еще не было, — Фоули только ждал ее появления, зная из слов Мариуса, что она должна зайти к Кете Розенхайм. Ждать пришлось долго, — Фоули не было известно точное время визита фрау Кельнер. Но вот, оставаясь под прикрытием сумрака, черневшего в проходе между старыми домами, он заметил миниатюрную фигуру Агны.
Девушка бежала к дому Кете, сбавила бег, сделала круг на месте, цепляя пальцами белый шарф, и снова побежала к двери дома. Ни Фрэнка Фоули, внимательно наблюдавшего за ней, ни второго мужчину, тоже не спускавшего с нее пристального взгляда, Агна не заметила. Она оглянулась по сторонам только подойдя к входной двери, но не увидела никого из наблюдателей, — они остались позади, на разных сторонах одной улицы, напротив друг друга.
Поздоровавшись с Кете, Агна скользнула внутрь дома, а Фоули, почуяв неладное, — интуиция влюбленного сердца? — снова стал следить за незнакомцем на противоположной стороне улицы, чувствуя, что это как-то связано с фрау Кельнер.
Незнакомый Фоули мужчина был высоким блондином с темно-серыми глазами. Он мог бы стать безупречным воплощением тех требований, которые нацисты предъявляли к внешности «истинных арийцев», если бы не гримаса на его лице, очень отдаленно напоминающая улыбку, и то, что Фрэнк мысленно назвал «истуканством»: мужчина двигался деревянно и удивительно неестественно. Так, словно от рождения лишенный знания о том, как двигается человек, он вырос, и теперь, во избежание ненужных казусов, двигался по чужому шаблону, ужасно не подходящему ни к его высокому росту, ни к длинным рукам. «Ни к оловянным глазам», — подумал Фрэнк, продолжая наблюдение как можно осторожнее.
Для большей маскировки Фоули придумал закурить, но закашлялся, — отсутствие практики давало о себе знать, — и спугнул Оловянного с занятого им места.
Блондин, бросив на Фоули откровенно злой взгляд, нехотя ушел со своего поста. Но Фрэнк заметил не только это, но еще и то, как его губы зашевелились, неслышно произнося какие-то слова. А стоило Агне Кельнер выйти на улицу, как Оловянный исчез, скрывшись в узком проходе деревянных домов. Он так стремительно начал уходить, буквально врезаясь плечами в узкое пространство, что Фрэнк убедился в своем первом предположении: мужчина не хотел уходить, но вынужден был по какой-то причине оставить наблюдение за Агной Кельнер. Об этом странном происшествии Фоули хотел предупредить девушку, но их беседа, — если это только можно так назвать, — пошла совершенно непредсказуемо, и Фрэнк, снова обескураженный фрау Кельнер, забыл и об этом, и обо всем на свете. Он мог, конечно, догнать Агну, — она ушла совсем недалеко, — и рассказать ей о том, что видел, но передумал в последнюю минуту, тоже по совершенно непредсказуемой причине.
* * *
Эдвард радостно улыбнулся, смотря на хмурую, молчаливую Элис.
— Все хорошо, Эл! У нас все получается! Ты говорила с Мариусом, паспорт Кайлы почти готов…
— А Дану?
Во взгляде Милна скользнула ирония.
— Уверен, что с новыми полномочиями Кельнера он быстро найдется. Уже сегодня утром, — Эдвард посмотрел на наручные часы, — через шесть часов, Харри поедет в Дахау. И что-то мне подсказывает, что Дану именно там.
— А если нет?
— Эл…
— А если он умер?
Эдвард вздохнул, и, помолчав, мягко спросил:
— Что с тобой?
Изменив положение, Эдвард сел перед Эл на колени. Руки Милна скользнули вверх, по бедрам Эл, и он привлек ее к себе, крепко обнимая.
— Что случилось?
— Я сегодня за скептика, — склоняя голову вниз и избегая взгляда Милна, тихо ответила Элис.
Быстро поцеловав его в щеку, она попробовала улыбнуться.
— Пойду, поговорю с Кайлой, пока она не спит.
Эдвард не двигался, продолжая внимательно смотреть на девушку. Но когда она положила руку на его плечо, отклоняясь назад и выскальзывая из кресла, он не стал ее удерживать, и только задумчиво наблюдал за тем, как она выходит из спальни, тихо закрывая за собой дверь.
Харри пересек кабинет Ханны в несколько широких шагов, и сел за ее рабочий стол, с интересом осматриваясь вокруг. Так вот где работает бывшая фройляйн Ланг, медсестра из Дахау? Небольшой, кажется, сплошь белый медицинский кабинет, в котором не было ничего примечательного. Кроме, пожалуй, нескольких карточек «пациентов», сложенных ровной стопкой на краю стола. Кельнер подвинул к себе медицинские карты, и стал очень внимательно рассматривать каждую из них. Семь карт, подшитых в белые папки с плотными обложками, сообщали читавшему их человеку, — помимо стандартных имени, даты рождения и адреса проживания, — дату поступления в лагерь и итоги первого, предварительного, осмотра. Насколько этот осмотр был медицинским, можно было судить хотя бы по тем записям измерений, которые были сделаны о каждом мужчине, поступившим в Дахау. Форма носа и ушей, размеры черепа — все это было аккуратнейшим образом записано в педантично оформленных картах. И Кельнер не исключал, что — рукой фрау Томас.
— Харри?! Что ты делаешь?
Изумленный голос Ханны раздался прежде, чем в кабинете показалась фигура статной блондинки. Захлопнув очередную карту, Кельнер вернул ее на прежнее место, выровнял стопку, и не спеша повернулся к бывшей любовнице.
— Я думал, ты будешь рада меня видеть.
Вслед за этими словами на лице Харри просияла широкая улыбка. И Ханна почти поверила ей, если бы не иронично приподнятая бровь.
— Уходи, пока тебя не увидели! Я никому не скажу, что ты был здесь! — зашептала Ханна, торопливо подходя к развалившемуся на стуле Кельнеру.
— Здравствуй, Ханна. Можешь сказать, что я совсем не против.
— Что ты несешь?! Ты с ума сошел?
Харри хмыкнул, поднялся со стула и, глядя на блондинку с притворном сожалением, прошептал:
— Может быть.
Выбрав одну из просмотренных карт, он протянул ее Ханне.
— Я планирую забрать вот этого человека. Завтра утром, в это же время. Приготовь все необходимое, оформи бумаги, если это требуется в подобных случаях.
— Ты точно сошел с ума! — вскрикнула Ханна, вырывая из рук Кельнера медицинскую карту. — «Забрать»? Завтра? Ты умом тронулся?
— Нет. Скорее попробовал негашеной извести, — медленно ответил Харри, прожигая Ханну взглядом.
От этих слов Томас вздрогнула, с ужасом глядя на Кельнера.
— Я ничего не понимаю, Харри.
— А тебе и не нужно. Просто сделай все именно так, как я сказал.
Ханна помотала головой, пытаясь таким образом прогнать непонимание.
— Что происходит? Ты такой спокойный. Куда ты его забираешь?
Томас кивнула на медицинскую карту мужчины, о котором шла речь.
— Я не шучу, Ханна. Завтра утром. Если что-то, о чем я сказал, будет не сделано, тебе же будет хуже.
— Ты угрожаешь мне?!
— Нет. Констатирую факт, — Харри снова улыбнулся широкой, обаятельной улыбкой. — Как начальник надзорного отдела.
— О!.. — только и смогла выдавить из себя Томас, потрясенно рассматривая лучезарного Кельнера, которого таким она видела впервые за все время, что они были знакомы. — Значит…
— Не скажу, что мне жаль отвергать ваше прошлое предложение. — Харри, не удержавшись, рассмеялся. — До завтра, фрау Томас. И проследите, чтобы с этим заключенным ничего не случилось. Лично.
* * *
— Ты уверен? — снова спросила Агна.
— Абсолютно! — Харри посмотрел блестящим взглядом на жену и Кайлу, взволнованную настолько, что она боялась пошевелиться.
Все, что позволила себе Кайла с той минуты, как услышала от Кельнера те слова, в которые уже отчаялась верить, — положить руку на живот, может быть, мысленно сообщая еще нерожденному малышу счастливую весть.
— Дану в лагере Дахау. Завтра утром я заберу его из лагеря и привезу сюда.
— О, боже… — едва слышно выдохнула Кайла, касаясь ладонью лба, и оседая на стуле.
Кельнер подхватил ее до того, как она упала.
— Я принесу воды!
Агна убежала на кухню. Вернувшись в комнату, она присела перед Кайлой, и приложила к ее лбу полотенце, смоченное холодной водой.
Заметив, что женщина медленно приходит в себя, Агна улыбнулась ей и поднесла к губам Кайлы стакан с водой.
— Как ты?
— Простите, Кайла, я не подумал, что…
— Все… хорошо, — женщина отпила воды и замолчала.
Волнение отчетливо проступило на ее бледном лице, и до того, как она задала свой вопрос, Агна и Харри уже знали, о чем сейчас спросит Кайла.
— Вы уверены, что это он? Мой Дану?..
Отчего-то смутившись под пристальным взглядом ее черных глаз, Харри только утвердительно кивнул.
— Боже… он жив!
— И завтра будет здесь.
— Но как ты объяснишь это начальству? — с тревогой спросила Агна.
— Это уже мои заботы, renardeau. Не беспокойся.
Но Агна очень беспокоилась. И боялась. Радуясь тому, что Дану удалось найти так невероятно быстро, она не могла отделаться от мысли и предчувствия, что что-то во всем этом не так. «Слишком легко, слишком быстро, слишком… гладко» — думала Эл, обходя большую библиотеку первого этажа снова и снова. Все шло действительно очень хорошо. Неправдоподобно удачно: Фоули подписал поручительство и предложил «всемерную помощь», новый паспорт для Кайлы, в котором было указано, что у нее есть сын, Мариус Кац, — после еще одной взятки, — был почти готов (Кете должна забрать его завтра, «тоже завтра» — беспокойно думала Элис), Дану нашелся… От всего происходящего голова шла кругом. И страх, что что-то необъяснимое во всем этом не так или что непременно что-нибудь произойдет, не отпускал Элисон, и становился только сильнее.
«Так не бывает… не здесь», — объясняла она самой себе свое беспокойство, не находя успокоения в радостных событиях. Ко всем эмоциям Эл примешивалась большая доля стыда, тем более явная в сравнении с оптимизмом и искренней радостью Эдварда. Она никогда не видела его настолько счастливым и воодушевленным, и это только делало ее стыд, о котором она никому, даже Милну не решалась говорить, еще глубже и острее.
«Ты стала такой недоверчивой!» — отчитывала Эл саму себя, и чувствовала, что у нее даже нет сил, чтобы оспорить это.
— Все получилось, Эл!
Девушка, остановившись посреди библиотеки, вспомнила свой разговор с Эдвардом.
— Это же именно то, что ты хотела, помнишь? Помочь тем, кому действительно необходима помощь, даже если для этого нужно пойти на большой риск!
Милн положил руки на ее плечи и улыбнулся.
— Слишком большой риск, который слишком легко обошел нас стороной, — ответила она тогда, и Эд непонимающе посмотрел на нее.
— Среди нас двоих скептик — это я! — пошутил он.
Эл не улыбнулась.
— Что-то случится. Я чувствую.
Она посмотрела на него, и тут же отвела взгляд, чувствуя, как в глазах собираются слезы.
— Нет и нет! — запротестовал Эдвард. — Случится только одно: у нас все получится. У нас есть даже помощники, — Кете и Фоули, и… Не думал, что скажу это о Фрэнке, но его помощь, как и Кете, очень нам нужна. Милн накрыл сцепленные руки Эл своими теплыми ладонями, и заглянул в ее глаза.
— Ты просто боишься, renardeau, — Эдвард стал аккуратно освобождать руки Эл от тугих нитей, которыми она в тревоге перемотала ладони и пальцы. — Потому что за все это время ты привыкла бояться. К сожалению. Но все будет хорошо, вот увидишь.
От нежности, звучащей в голосе Эдварда, Эл заплакала. Слезы беззвучными, прозрачными каплями западали на их переплетенные руки, и Эл закрыла глаза, стараясь успокоиться, и зная почти наверняка, что эта тревога, заполонившая ее мысли и сердце, никуда не уйдет.
— Да, — выдохнула Эл, кивнув, — Фоули нам очень помог.
* * *
С вызволением Дану из лагеря все тоже прошло на удивление гладко. Приехав утром следующего дня в Дахау, Кельнер, — в этот раз пребывающий в своем привычном собранно-ироничном состоянии, — нашел Ханну на ее рабочем месте.
Блондинка была удивительно тихой и даже сговорчивой, и слишком часто бросала на Кельнера серьезные взгляды, ничего, правда, не объясняя. Харри не пришлось напоминать о необходимости привести заключенного: худой и измученный Дану Кац к его приезду был уже готов, и, неуверенно стоя у медпункта, ждал появления какого-то начальника для дальнейшего конвоирования.
Остановившись напротив Дану, Кельнер быстро и внимательно осмотрел его фигуру, замечая ссадины и кровоподтеки на лице и руках. Одетый в поношенную форму, мужчина стоял, опустив глаза вниз, к земле. Не смея поднять взгляд на начальника, который, — он не мог не слышать его шагов, — подошел к нему, Дану продолжал смотреть вниз. Все его тело тряслось мелкой дрожью, а руки, закованные за спиной наручниками, дрожали так сильно, что Кельнер подумал, — Дану непременно упадет. Подойдя ближе к мужу Кайлы, Харри взял его за предплечье, тем самым прочно удерживая Дану на месте. Из медпункта вышла Ханна, и, оглядев Харри хмуро, а тощего заключенного, которого, как всегда элегантно одетый Кельнер зачем-то держал под руку, — брезгливо, протянула блондину карту на имя Дану Кац. Кельнер взял ее свободной рукой, кивнул фрау Томас, и повел заключенного к воротам лагеря. Ханна, не сходя с места, долго смотрела вслед Харри, и жалела о том, что так и не решилась задать ему вопрос о дальнейшей судьбе этого еврея: лицо Кельнера было таким жестким и замкнутым, что фрау Томас попросту струсила, чувствуя, как от его сосредоточенного, злого взгляда внутри снова возникает холодный страх.
Харри остановил «Хорьх» только тогда, когда и лагерь, и город Дахау точно остались позади. Выйдя из машины, Кельнер подошел к пассажирской двери и открыл ее.
Из полумрака автомобиля на него смотрели черные, горящие глаза Дану. Вытащив из внутреннего кармана пальто маленький ключ, Харри расстегнул наручники на руках Каца, и, пока Дану, сумрачно наблюдавший за ним в полной тишине, растирал сбитые запястья, Кельнер отошел от «Хорьха» к противоположной стороне шоссе, и, размахнувшись, швырнул и ключ, и наручники в жидкую, занесенную свежим снегом, черную, придорожную, грязь. Железо, жалобно звякнув, упало в поле. Постояв еще минуту на месте, Кельнер осмотрел пристальным взглядом казавшееся бескрайним пространство, и пошел к «Хорьху». Все так же молча он достал из бардачка бутерброды, небольшой термос с черным чаем, и передал Дану.
— Это приготовила Кайла. Ешьте аккуратно, вам нельзя торопиться.
Прежде чем ответить, Дану очень долго вглядывался в лицо Харри. Наконец, его губы с запекшейся кровью едва разомкнулись, и он тихо спросил:
— Кайла знает, что вы забрали меня? Как она?
Харри кивнул, смущенно отводя глаза в сторону, и кратко ответил:
— Она знает, что я поеду за вами сегодня. С ней все в порядке, не считая сильной тревоги о вас.
Кельнер закурил, круто втягивая дым в легкие, и замолчал. Сделав еще затяжку, не оборачиваясь к Дану, он добавил:
— С ребенком все хорошо.
Дану не шевельнулся, словно и не слышал слов Харри. Снова повисла тяжелая пауза, прерываемая глухим урчанием автомобильного мотора, и едва слышным треском сигареты.
— Почему вы сделали это? Это огромный риск.
Кельнер докурил и нехотя ответил:
— Однажды вы спасли нас.
— А я думал, вы — нацист!
Голос Дану сломался, он спрятал лицо за дрожащими руками. Повернувшись к Дану, Харри похлопал его по плечу, и закрыл дверь автомобиля.
Кайла и Дану встретили друг друга так, как два человека, уже почти потерявших надежду. И неясно было, что звучало в их словах и слезах громче — счастье или страх от того, что теперь все стало еще опаснее. Вечер этого дня Агна и Харри оставили Кайле и Дану, уехав из дома под предлогом встречи с Кете и Мариусом, и необходимости предупредить их о том, что все они должны собраться завтра в доме Кельнеров для обсуждения дальнейших действий. На самом деле это был не только предлог, но и действительная причина: теперь, когда Дану был спасен из лагеря, действовать нужно было еще быстрее. Пусть Ханна уверена, что Харри забрал Дану для допроса или проведения медицинских испытаний обновленных препаратов, пусть Хайде, временно дезориентированный выговором Секта, пока не показывается, пусть Зофт пока пропадает на ночных допросах и очных ставках, — времени для организации отъезда Кайлы, Дану и Мариуса у Агны и Харри было все равно мало. Именно поэтому требовалось обсудить все детали плана еще раз, посвятив в него Дану.
Зимнее солнце еще не проснулось, а в доме Кельнеров, за плотно закрытыми дверями и шторами, в гостиной первого этажа, где до сих пор гуляло маленькое эхо от небольшого количества вещей, собрались все, кто знал о сегодняшней встрече: Харри и Агна, Дану и Кайла. Кете Розенхайм пришла всего несколько минут назад, и, оглядев присутствующих взволнованным взглядом, предложила Агне помощь. Вместе они ушли на кухню.
— Не могу успокоиться! Не верится, что все это действительно происходит!
Агна, бледная и молчаливая от плохого самочувствия, слабо улыбнулась в знак согласия, и продолжила разливать чай по изящным фарфоровым чашечкам.
— Да… надеюсь, все получится, — негромко сказала она, делая шаг назад, и чувствуя, как новая волна жара накрывает ее.
— Я отнесу, — шепнула Кете, подхватывая поднос с чаем, и выходя в гостиную.
Агна кивнула, и оперлась руками о стол, удивляясь собственной слабости. «Надо выпить кофе, это всегда помогает», — подумала Эл, оглядывая кухню в поисках турки.
Она слышала негромкие разговоры, доносящиеся из гостиной, звук стульев, отодвинутых от большого, круглого стола. У нее в запасе еще было несколько минут, — как раз для того, чтобы приготовить кофе. От полноценного завтрака все присутствующие отказались: в четыре часа утра куда больше хотелось спать, чем есть. «Но другого времени у нас нет…» — сонно подумала Эл, помешивая напиток в турке. Пара минут, и кофе возмущенно запыхтел, требуя, чтобы на него обратили внимание.
Переливая горячий напиток в белую чашку, девушка улыбалась, слушая шаги Эдварда на площадке второго этажа. Вот чуть скрипнула верхняя ступень лестницы, а затем шаги стихли, и Эд, который умел ходить, кажется, совершенно бесшумно, уже был внизу.
— Доброе утро, — он негромко поздоровался с Кайлой, Кете и Дану.
Не замечая Агны, которая медленно возвращалась из кухни с чашкой в руках, Харри строгим, сосредоточенным взглядом осмотрел гостиную в поисках жены.
— Я здесь, — с улыбкой шепнула она, проходя мимо него.
Ее присутствие сотворило с Кельнером маленькое чудо. На краткий миг черты его лица смягчились. Он улыбнулся, провожая Агну взглядом, и, снова став серьезным, оглядел присутствующих.
— Прошу прощения за такой ранний подъем, — Кельнер посмотрел на Кайлу, — но нам нужно как можно скорее обсудить новые детали.
Немного церемонную речь Кельнера, которая всегда становилась такой, когда Эдвард волновался, прервал стук в дверь. И пока все смотрели друг на друга, пытаясь узнать, кто бы это мог быть, Агна подошла к двери и посмотрела в глазок. Закрыв его ладонью, она тихо выругалась.
— Черт!
— Что такое, renardeau? — шепнул Харри, подходя к ней.
— Фоули! Я не хочу, чтобы он был здесь!
— Он может нам помочь.
— Он может быть предателем! — взволнованно шепнула Агна, сжимая руку Харри. — Не открывай ему!
— Он, конечно, вел себя странно, но поручительство все-таки подписал, — напомнил Кельнер.
Дверной замок щелкнул, и дверь перед Фоули открылась ровно на четверть, выдавая только высокую фигуру Харри.
— Герр Фоули.
— Герр Кельнер.
Фрэнк помолчал и очень тихо продолжил:
— Я… я хотел бы быть полезным, хочу помочь вам.
Внимательно рассмотрев взволнованное лицо Фоули, Харри уточнил:
— Какая у вас причина?
— Никакой. Просто хочу помочь.
Кельнер усмехнулся и промолчал, смыкая тонкие губы. Взглянув еще раз на Фрэнка, он отошел в сторону, пропуская его в дом.
— О! А-а… фрау Кельнер! Здравствуйте! — смутившись, вскрикнул Фоули.
Агна молча кивнула мужчине, посмотрела на мужа и вернулась в гостиную. Следом за ней в комнату зашел Фрэнк.
— Фрэнк Фоули, сотрудник английского консульства в Берлине. Он помог нам с поручительством для Мариуса, — напомнил Кельнер, тем самым закрывая за чиновником своеобразную ловушку.
Официально обозначенный при всех как важный помощник в их общем мероприятии, Фрэнк, — если он и был, по опасениям Агны, ненадежным человеком, — после такого представления терял возможность отступить назад, и теперь, хотел он того или нет, принужден был играть роль помощника. Если же, — по мысли Харри, — Агна была права, то за Фрэнком тем более следовало наблюдать и держать его ближе на случай предательства. А вот закрыть дверь перед чиновником, — уже пришедшим в их дом, и наверняка бы заподозрившим что-то неладное, попытайся Кельнер от него отделаться, — было бы слишком явной ошибкой, неверным шагом. Поэтому Харри впустил его, решив про себя, что, как и прежде, будет приглядывать за ним, и, в случае каких-либо подозрений… После кратких приветствий Харри спросил, как Фрэнк узнал об этой встрече?
— Я… совершенно не подумал о времени. Честно говоря, я всю ночь не мог уснуть, и, дождавшись более подходящего времени, решил зайти к вам, — растерянно оглядывая присутствующих, объяснил Фрэнк. — Но я не думал, что все вы здесь…
Это была правда. Но высказана она была так невнятно, что Фоули никто не поверил. А фрау Кельнер, не сдержавшись, — главным образом потому, что «вся ночь», в которую Фоули, по его словам, не мог уснуть, наступила после того дня, когда он попробовал поцеловать ее, — язвительно уточнила:
— Четыре часа утра. «Подходящее время»?
Агна села за стол, на свое прежнее место, и обняла руками чашку с горячим кофе.
— Я… — совсем потерялся Фрэнк.
— Проходите, не бойтесь, — с лукавой улыбкой убеждал его Кельнер, внимательно наблюдая за происходящим.
Фоули сглотнул и сел за стол напротив Агны.
— Чай? На улице, должно быть, холодно? — спросила Кете.
Фрэнк, по-видимому, опасаясь говорить после всего сказанного и услышанного, только утвердительно кивнул. Кете подошла к Фоули и поставила перед ним чайную пару.
— Сливки, сахар, бисквит, печенье?
— Не хочу показаться грубой, — Агна почувствовала, как ее накрывает новая волна жара, — но давайте начнем?
Харри кивнул и повторил то, что всем присутствующим, — за исключением Дану, крепко державшим Кайлу за руку, — было уже известно:
1.Благодаря поручительству, заверенному Фрэнком Фоули, Мариус может выехать в Великобританию по программе «Киндертранспорт». Если при посадке на поезд, следующего до голландского города Хук-ван-Холланд, где происходит пересадка на корабль, идущий до Британии, или на каком-то ином этапе пути, Мариуса или его родителей, Кайлу и Дану Кац, спросят, почему поручительство заверено сотрудником британского консульства в Берлине, а не ими, его родителями, Кайле или Дану следует ответить, что такой формы заверения потребовали германские власти.«Не вдавайтесь подробности. Скажите только эту фразу. Но если вам не поверят, для убедительности назовете имя Фрэнка Фоули», — напомнил Харри. Верность этих слов Фоули подтвердил кивком головы.
2.Паспорт для Кайлы Кац без отметки «J» готов благодаря связям Кете. В нем возраст Кайлы увеличен на пять лет, — «… что было необходимо сделать для того, чтобы тринадцатилетний Мариус, «сын» Кайлы, не вызывал вопросов». Харри еще раз просмотрел изготовленный паспорт, долго останавливаясь на каждой странице. Насколько он мог судить, паспорт был выполнен очень качественно, вплоть до использования тех же чернил, какими пользовались немецкие чиновники. Высокое качество подтвердила и Кете Розенхайм. А ее «знакомый», который занимался изготовлением документа, заявил, что для него неубедительная подделка была бы подобна смерти.
Отодвинув новый паспорт Кайлы в сторону, Харри подумал, что с учетом всех денежных сумм, полученных этим «знакомым» за подделку, умирать при наличии таких денег было бы, как минимум, нерационально.
3.Непосредственно в день отъезда, — он наступит уже совсем скоро, через пять дней, в рождественский сочельник, — Харри сам отвезет Кайлу, Дану и Мариуса к поезду, и проследит, чтобы все прошло так, как нужно. К тому же, сотруднику, проверяющему билеты перед посадкой на поезд, нужно отдать вторую часть взятки, прибавив к ней еще «немного» — как гарантию того, что беременная Кайла Кац может выехать с мужем и старшим сыном из Берлина.
4.Из-за постановления нацистов, которое гласило, что эвакуация евреев из Берлина не должна блокировать порты Германии, Кайла, Дану и Мариус поедут по обозначенному для выезда пути: поездом из Берлина в голландский город Хук-ван-Холланд (недалеко от Роттердама), а оттуда — морем до английского порта Харвич.
«Из этого порта вы поездом поедете не в Лондон, как все остальные пассажиры, а в другой город. Адрес и подробные пояснения о том, как туда добраться, вам передаст Агна. И помните: ваш маршрут после прибытия в Харвич будет иным, чем у тех людей, которые поедут с вами из Германии. Поэтому ни с кем и ни под каким предлогом вы не должны обсуждать свой маршрут, предположения о том, что вас может ждать в Великобритании и прочее… Словом, вы должны молчать о себе и о своем маршруте. Никто, кроме нас и вас не будет знать о том, что ваш конечный пункт назначения — совсем не Лондон». Харри сделал глубокий вдох и посмотрел на Агну. Улыбнувшись ему, она перевела взгляд на Кайлу и Дану.
— Медицинские справки, необходимые для отъезда, уже готовы. Они понадобятся вам до прибытия в порт Харвич, — сказала Агна, и напомнила о том, что, среди всех забот, связанных с отъездом, могло показаться второстепенным, но было не менее важным, чем все остальные детали и нюансы отъезда. — Кайла, Дану, я подготовила для вас и Мариуса одежду. Вы должны переодеться по прибытии в Харвич, и до того, как покинете этот порт. Это очень важно, — девушка внимательно посмотрела на супругов. — Новая одежда поможет вам слиться с людьми в Великобритании, потеряться среди них. А именно это нам и нужно: ничто не должно выдавать в вас только что приехавших в страну людей.
На последних словах Агна покраснела, и поднесла руку к горлу, пытаясь унять тошноту. Замолчав, она медленно села на стул, делая глубокие вдохи и выдохи.
— Агна? — Харри подошел к ней, с тревогой вглядываясь в ее лицо.
— Небольшая слабость, — шепнула она, смущаясь еще больше от того, что все это происходит в присутствии других людей. К тому же, пристальный взгляд Фоули жег ее и раздражал.
— Уверена?
Бумажной салфеткой Кельнер убрал со лба Агны капли пота. Девушка молчала. Только посмотрев в глаза Харри, она улыбнулась, давая понять, что для беспокойства нет причин.
— Скоро закончим, — шепнул он.
Оглядев гостей, Кельнер остановил взгляд на Фрэнке Фоули, который, не замечая Харри, продолжал беспокойно смотреть на Агну.
— У меня для вас задание, герр Фоули, — негромко сказал Харри. — Не стану скрывать: ваша прежняя манера поведения и неоднократные отказы в раскрытии деталей программы «Киндертранспорт», а затем неожиданная помощь с заверением поручительства для Мариуса, и известие о том, что вы видели, как какой-то мужчина следил за моей женой, — при этом вы умалчиваете о том, как вы сами оказались рядом с домом Кете в ту минуту, — все это не вызывает ни у меня, ни у Агны никакого доверия. Поэтому, — Кельнер улыбнулся, — именно вам я доверяю выполнить последний, очень важный пункт нашего мероприятия.
— Паспорт для Дану? — уточнил Фрэнк.
— Именно. За оставшиеся до отъезда пять дней, — с учетом сегодняшнего, — вы должны своими силами, не используя связи Кете, сделать для Дану паспорт на выезд. Напоминаю, что в нем, как и в новом паспорте Кайлы, не должно быть буквы «J». Возраст можете оставить прежним. И учтите: два дня назад Дану еще был в лагере. Значит, сегодня-завтра или, максимум, через несколько дней, его начнут искать. После разбирательства за ним, как за беглецом последует охота. Потому что он, — Харри поочередно выпрямлял пальцы правой руки, перечисляя пункты, — мужчина, еврей, находится в том возрасте, который очень интересует нацистов, был в лагере и сбежал.
— Вы на самом деле сбежали? — изумленно спросил Фрэнк, обращаясь к Дану.
— Это неважно, герр Фоули. Ваша задача — сделать паспорт до дня отъезда, учитывая все перечисленные детали, и сохраняя при этом полную секретность. Справитесь?
Фрэнк посмотрел Кельнеру в глаза.
— Да. Я готов пройти эту вашу проверку, и доказать, что мне можно верить.
— В этом нам еще только предстоит убедиться, — выдерживая взгляд Фоули, ответил Кельнер.
— Вы можете это сделать уже сейчас. Мне многое известно. Например, то, что праздничный вечер, посвященный открытию дома мод фрау Гиббельс по новому адресу, на котором вы и фрау Агна должны обязательно присутствовать, перенесен, и состоится он именно тогда, когда вы планируете проводить на вокзал Кайлу, Мариуса и Дану, — в сочельник, накануне Рождества.
Харри помолчал, обдумывая новую информацию. Упустить отправление поезда по программе «Киндертранспорт» они не могли: в Берлине становилось все опаснее. К тому же, слишком много больших, мелких и очень хрупких договоренностей было сделано для того, чтобы этот отъезд состоялся именно через несколько дней. Но и отсутствие Агны и Харри на вечере, — как было понятно с самого начала, — вряд ли возможно.
— Спасибо за информацию, герр Фоули. Я обязательно ее проверю.
Кельнер поднялся из-за стола, чтобы проводить Кете и Фрэнка, который совсем не хотел уходить, и пытался, — выглянув из-за плеча Харри, — еще раз взглянуть на Агну. Понаблюдав за попытками Фрэнка, Кельнер спокойно заметил:
— Герр Фоули, вам пора.
По взгляду чиновника было понятно, что он не согласен с ним, и придерживается совсем иного мнения.
— Я надеюсь, с А… фрау Кельнер все будет хорошо.
— Не сомневайтесь. Я позабочусь о моей жене.
Фрэнк, понимая, что сопротивление бесполезно, — к тому же, он и так уже выглядел достаточно глупо, — вздохнул, и вместе с Кете вышел из дома Кельнеров.
— До свидания, Фрэнк, — сухо сказала она, когда они были уже на улице.
Фоули кивнул и сделал несколько шагов, удаляясь от дома. Но одна мысль остановила его, и он, круто повернувшись, догнал женщину.
— Прости меня! Я знаю, что веду себя как дурак.
Кете с грустной улыбкой посмотрела на него.
— Ты поможешь нам?
— Конечно!
Она снова улыбнулась.
— Я всегда доверяла тебе. Просто не думала, что ты можешь…
— Так глупо вести себя на глазах у всех? Я сам до знакомства с Агной Кельнер этого за собой не знал.
Фрэнк помолчал.
— Я сделаю все, что в моих силах, Кете.
— Тебе нужна помощь с паспортом?
Он резко покачал головой.
— Нет. Это будет нечестно. Я все должен сделать сам.
Фройляйн Розенхайм сжала на прощание руку Фоули, и медленно пошла по заснеженной улице.
За то время, что у Кельнера ушло на прощание с ранними гостями, Кайла расспросила Агну о ее самочувствии.
— Все хорошо, это просто слабость, — продолжала настаивать девушка.
— Фрау Агна, разрешите я посмотрю.
— Нет! — Агна покачала головой, поднялась со стула и отошла назад, — Не нужно!
— Почему ты против, renardeau? — Кельнер подошел к жене и обнял ее за талию.
— Не нужно меня осматривать!
Горячий взгляд зеленых глаз скользнул по Харри, и Агна обняла его, спрятав лицо у него на груди.
* * *
Для того, чтобы выполнить поручение Кельнера, Фрэнку пришлось сделать гораздо больше того, что было в его силах. «Springe über deinen Kopf» — как сказали бы немцы.
Но Фрэнк Фоули был британцем, сотрудником английского консульства в Берлине, и именно его должность, — в чем он был убежден, — которая позволяла ему не разыгрывать из себя арийца, помогла ему и в этот раз. В Берлине был все тот же день, ранним утром которого Фрэнк, сам того не ожидая, оказался на импровизированном собрании в доме Кельнеров.
После этой встречи Фоули, несмотря на слишком ранний час, поспешил в свой кабинет на Фридрихштрассе, — ему нужно было сделать несколько звонков, для которых, к счастью, понятия времени не существовало. И потому Фрэнк Фоули — образцовый чиновник консульства, выдохнув воздух из легких и одернув пиджак, — и, честно сказать, очень нервничая, — снял телефонную трубку с аппарата особой, закрытой, связи, намереваясь связаться с кем-то по имени «Вильфред». Имя это, — как и человека, который скрывался за ним, — Фрэнк узнал после трех предыдущих разговоров, проведенных под покровом огромной секретности. И в этом оппонентов Фоули, отвечавших ему на звонки, вполне можно было понять: не каждый день тебе звонит начальник паспортного контроля из английского консульства в Берлине, и просит помощи в теневых делах. И ладно бы он хотел раздобыть что-то на черном рынке: скажем, оружие, еду или лекарства. Но нет, Фрэнку Фоули нужен был паспорт! Паспорт для мужчины, еврея, без буквы «J» на первой странице! Еще один нюанс этой невероятной истории повергал собеседников Фоули в почти немой шок: по его словам, паспорт нужен очень срочно, потому что этот мужчина, который относился к очень интересующей нацистов возрастной группе тридцати-сорока лет, несколько дней назад сбежал из лагеря!
— Ты с ума сошел! — зашипела трубка в очередной раз, когда Фрэнк торопливо и скупо, в отвлеченных выражениях, понятных только ему и собеседнику, изложил свои пожелания. — С этим тебе поможет только Вильфред, другого такого идиота, жадного до денег, я не знаю!
Вот так Фрэнк и узнал об этом Вильфреде. Теперь приходилось ждать вечера, — Фоули планировал выехать в Росток, на встречу с ним, около десяти вечера.
«Раньше полуночи тебе там делать нечего! Я предупрежу Вильфреда, он будет тебя ждать», — немного успокоившись, сообщила телефонная трубка уже другим голосом.
И Фрэнк принялся ждать. В этом нудном, мучительном ожидании его радовало только одно: он помогает Агне Кельнер. Мысль грела его, вызывая воспоминания о том, как чудесно, — даже несмотря на бледность, которая, по молчаливому мнению Фоули, делала ее глаза еще ярче и притягательнее, — она выглядела сегодня утром. На ее лице были еще заметны следы недавнего сна, волосы, едва доходившие до плеч, — впервые за все время, что Фрэнк знал Агну, — были распущены, а темно-зеленое домашнее платье с закрытым воротом делало весь ее облик еще более строгим и… Фоули улыбнулся, вспомнив ее язвительный ответ о времени их встречи, но улыбка тут же сползла с лица, когда он припомнил, что потом Агне стало плохо. «Я так и не знаю, что с ней… Но если бы случилось что-то серьезное, Кельнер сообщил бы нам, так? Например, через Кете…». Тревога быстро разошлась по телу, снова поглощая Фрэнка целиком. После долгого молчания Фоули заставил себя вернуться в реальность и проверить, все ли было сделано для поздней встречи с Вильфредом в морском порту Варнемюнде, рядом с Ростоком?
«Поеду в десять, из дома. Дорога займет около двух часов… Карта с обозначением порта готова, деньги тоже… Но если денег, что я сегодня снял в банке, не хватит?». Холодный пот пробил Фоули, стоило ему предположить, что из-за его глупости рухнет все, что было сделано Кельнером, Агной и Кете.
Черный и блестящий в свете подслеповатых фонарей, «Фольксваген» Фрэнка медленно, покачиваясь на неровной дороге, въехал на застывшую в ночном безмолвии площадь дока. Территория была громадная, безмолвная и по-ночному жуткая. Может быть, именно поэтому Фоули, чувствуя себя неуверенно от того, что в последний момент место встречи в Ростоке было изменено, передернул плечами и со страхом огляделся вокруг. Он не заметил ни одного признака того, что здесь его кто-то ждет. Но когда Фрэнк, завернувшись в пальто и надвинув поглубже шляпу, вытянулся из автомобиля на промозглую от ветра и недавнего дождя улицу, то услышал:
— Вы опоздали.
Выждав несколько секунд, Фоули повернулся к темному силуэту, и произнес чуть дрогнувшим голосом:
— Извините, Росток мне не знаком.
— Эта дыра мало кому хорошо знакома, герр Фоули. Даже несмотря на морской порт.
Голос звучал резко и весело, поднимаясь вверх, во тьму, режущим слух эхо.
— Вы принесли деньги?
— Вы принесли паспорт?
Голос засмеялся, оценив ответ.
— Быстро схватываете, герр Фоули.
Мужчина подошел ближе, но лицо его, криво освещенное темно-желтым лучом фонаря, все равно осталось в темноте, и теперь распознать черты того, кто назвался Вильфредом, стало труднее, чем прежде.
— Деньги, — шепнул он, нависая над Фоули.
— Мне нужно видеть паспорт, оценить его качество.
Вильфред засмеялся и сплюнул под ноги.
— За это можете не бояться. Мне претит плохо сделанная работа.
Расправив плечи, мужчина скрестил руки на груди и застыл на месте.
— Если вы так настаиваете… — шепнул Фоули, доставая из внутреннего кармана пальто плотный бумажный конверт, который, судя по виду, был неплохо набит деньгами.
— Двадцать тысяч марок, как договорились.
Вильфред покачал головой.
— Цены выросли, герр Фоули.
— Когда? — осевшим голосом спросил Фрэнк.
Его худшие опасения сбывались, и он боялся одного: паспорт ему не получить.
— Пока вы плутали по дороге в поисках порта, — с улыбкой и какой-то заботливостью в интонации пояснил голос. — Вот ирония, да? В Германии есть такие крупные порты, а нацисты запретили евреям выезжать из священного рейха по морю.
— Это не самое страшное, что они делают или что еще могут придумать, — удивляясь себе, вдруг произнес Фрэнк.
— Согласен, герр Фоули. За вашу тревогу и обеспокоенность судьбами людей я сделаю вам скидку, и возьму сверх денег только это, — Вильфред кивнул на золотые наручные часы Фоули. Проследив за взглядом мужчины, Фрэнк резко втянул воздух через нос и задержал его в легких, молча снимая с запястья часы.
— И это!
Вильф указал на обручальное кольцо.
— Но… послушайте, кольцо… это память о моей жене!
Нож, блеснувший рядом с Фрэнком дал понять, что с этой памятью ему придется проститься. Отдав часы и кольцо, Фоули, осмелев на адреналине, уже бурлившим в его крови, вытянул руку вперед, требуя паспорт на имя Дану Кац. Книжечка упала в его ладонь с легким шлепком.
— Проверяйте!
Вскинув голову вверх, Фрэнк подошел ближе к фонарю, и принялся самым долгим и внимательным образом рассматривать поддельный паспорт. Печать, отсутствие буквы «J», возраст, фото, бумага, чернила, заполнение и даже прошивка страниц — все действительно было на высоте.
— Все в порядке, — бросил Фоули, убирая паспорт в карман.
— Рад услужить, — с прежним смехом отозвался голос Вильфреда.
Лезвие ножа спряталось сначала в темноту, а потом в руку, и мужчина исчез.
Так подошел к концу первый из пяти дней, оставшихся до отъезда Кайлы, Дану и Мариуса в Великобританию.
* * *
Время четырех дней, что оставались до сочельника, бежало вперед слишком быстро, в каком-то диком, невероятном прыжке. По крайней мере, так казалось Эл. Ее прежнее беспокойство стало только сильнее, и большая часть душевных сил уходила только на то, чтобы вести себя так, будто все в жизни Агны Кельнер было ясно, легко и просто.
Словно в противовес страхам Элис, Эдвард в эти дни был особенно собран и невозмутим. Его энергии, уверенности и внимания хватало на все: на все заботы об отъезде, на все новые нюансы, которые, казалось, возникали каждую секунду в бесчисленном количестве, — девушка была уверена, что если бы она занималась помощью Кайле, то у нее ничего бы не получилось, — на заботу об Эл и даже на память о том, когда она ела и как именно себя чувствовала.
Метаморфозы Милна изумляли и завораживали Элис: чем дальше по календарю летели призрачные дни конца декабря, тем увереннее он становился. Иногда в ее мыслях даже проскальзывало невероятное предположение о том, что у Эдварда выросли крылья, и что теперь его ничто не остановит — таким решительным, полным сил и энергии он был. Одно Эл знала точно: если бы не он, она бы ни с чем не справилась. Слабость, плохое самочувствие и тошнота совершенно ее изматывали, и она, как ей казалось, не могла думать ни о чем «важном».
Уже потом Эл, вспоминая эти дни, поймет, что Эдвард был из тех, кого большая опасность мобилизует, а не сбивает с пути. И чем выше страх, тревога, волнение и отсутствие четкого пути, тем более собранным и кристально чистым все становится для таких людей, как Милн. Неизменно внимательный к Эл, Эдвард пытался успокоить ее тревогу и дурные предчувствия, но внутренний страх Элис был сильнее даже его заботы. К тому же, все эти дни были такими быстрыми, беспокойными, наполненными событиями с самого утра до позднего вечера, что времени для того, чтобы побыть вдвоем, наедине, укрывшись от всего и от всех, у Эдварда и Элис почти не было. Оставшееся до сочельника время бежало не просто быстро, — оно проносилось вихрем на огромной скорости, выжимая из Агны, Харри и тех, кто помогал им, все возможные силы.
— Пора, — шепнул Эдвард, с нежностью смотря на Эл.
Она ничего не ответила, только продолжала медленно рассматривать его лицо таким же нежным и беспокойным взглядом.
— Ты всегда можешь мне рассказать о том, что тебя беспокоит.
Милн отвел с лица Элис темно-рыжую прядь, любуясь тем, как солнечный свет играет цветом ее волос и глаз, раскрывая их глубину так, что от этого захватывало дух.
— Это все мои глупости, — хриплым от недавнего сна голосом сказала Эл, не меняя положения, и продолжая скользить медленным взглядом по лицу Милна.
Ей стыдно было признаваться в том, что она боится нового дня, который уже просыпался за окном, и очень не хочет прерывать это неторопливое, уютное мгновение раннего утра.
— Как ты себя чувствуешь?
— Все хорошо, — скупо ответила Эл, очерчивая указательным пальцем контуры лица Эдварда.
Он улыбнулся совсем немного, — той печальной улыбкой, в которой переплетались напряжение, усталость и громадная нежность. Время, быстрое для всех остальных, для них потекло медленно и невесомо. Но вот и оно кончилось, вынуждая Элис и Эдварда начать новый день.
Агна оглянулась. Медленно и отвлеченно, словно ее в самом деле очень интересовала витрина магазина на Кудамм, оформленная только вчера. В пространстве между огромными стеклами, заново вставленными нацистами после погромов, «устроенных евреями», было выставлено несколько женских манекенов, одетых в новые модели немецкого дома мод под руководством фрау Гиббельс. В одном из платьев девушка узнала свою работу, но если бы кому-нибудь было интересно ее истинное мнение, Агна сказала бы, что ни одно из этих платьев ей не нравится.
Она усмехнулась, осторожно разглядывая в отражении витрины неуклюжую, приземистую фигуру Хайде, который сегодня следовал за ней по пятам, с самого утра. Вернувшись мысленно к платьям, выставленным на продажу, Агна подумала о том, что германская мода, — впрочем, об этом было заявлено в статье модного журнала Style еще в далеком 1933 году, так что никакого сюрприза в этом не заключалось, — так отчаянно и остервенело хотела уничтожить утонченную французскую соперницу, затмив собой единственно весь модный небосклон, что в этой гонке между новыми тенденциями и «истинно германским стилем», она проиграла.
Почти сразу же, в том же тридцать третьем, и — навсегда. И как бы старательно немецкие модельеры ни копировали французскую моду, которую они ненавидели, и которой дико завидовали, их наряды, — хоть прежних, хоть новых сезонов, — всегда оставались лишь жалкой репликой, картонной поделкой неумелых рук.
По мнению Агны, для ведения хорошего наружного наблюдения Хайде не хватало неприметности и легкости. Достаточно было посмотреть на его лицо с крупными чертами, и то напряженное выражение, с которым он старался незаметно смотреть на фрау Кельнер, чтобы понять, что «вести» Хайде умеет очень плохо.
Агна взглянула на наручные часы с маленьким, овальным циферблатом. Золотые стрелки сошлись на цифре двенадцать.
В Берлине пробил полдень, и только сейчас, посреди оживленной улицы со спешащими в разных направлениях людьми, она почувствовала, как сильно проголодалась. Организм Агны, обрадовавшись, что в пробежках по домам клиенток на него наконец-то обратили внимание, услужливо напомнил ей, что завтракала она сегодня очень рано и было это очень давно. Да и можно ли считать полноценным завтраком тост с маслом и чашку кофе?
Фрау Кельнер сделала круг на месте, — якобы думая над тем, где находится ближайшее кафе, и тем самым давая себе возможность полного наблюдения за действиями Хайде. В эту минуту он застыл у дома напротив, с газетой в руках. Большие страницы могли бы надежно укрыть его от взгляда Агны, но он так яростно перелистывал новый номер «Штурмовика», выдавая себя с головой, что девушка, не утерпев, коротко рассмеялась и поспешила уйти от его пусть неумелого, но все-таки наблюдения.
Отойдя от модного магазина, Агна Кельнер прошла по прямой, помахала рукой в белой перчатке кому-то из знакомых девушек, шумной компанией идущих ей навстречу, улыбнулась, и ускорила шаг, чтобы успеть встретиться с подругами. Хайде шел по противоположной стороне улицы, точно за женой Кельнера, внимательно отслеживая ее перемещения, и наблюдая за ней так пристально, что глаза резало от напряжения. Но все это он считал временным неудобством, необходимой жертвой в угоду счастливой удаче. Ведь сегодня утром, прикрывшись «срочными служебными обязанностями контрразведки», он, не появившись на рабочем месте, намеревался следить за Кельнером. А пока Эрих думал, где тот мог находиться: в офисе или на очередном рабочем выезде, мимо него, как настоящий подарок, неторопливо прошла жена Харри.
Вот так неожиданно объект наблюдения в планах Эриха был изменен, и теперь он следовал пусть не за самим Кельнером, которому, как и прежде, намеревался отомстить, — теперь, правда, еще более жестоко, учитывая недавний случай с Сектом, — но за его женой. «Может, так даже лучше», — с удовольствием подумал Хайде, пошло ухмыляясь при виде Агны Кельнер. Она была не в его вкусе, но разве это имеет значение? Особенно тогда, когда представляется такой хороший шанс для мести давнему противнику, и тогда, когда тебе противостоит лишь мелкая баба, чей рост только при помощи каблуков достигает ста семидесяти сантиметров. «Попробуем что-то новое…», — плотоядная мысль, не уточняя подробностей, над которыми Эрих еще не успел хорошо поразмыслить, одиноко пронеслась в мозгах Хайде. Он видел, как Агна, коротко переговорив о чем-то с девушками, пошла дальше, к площади, где рядом с парком было открыто большое уличное кафе.
Выбрав свободный от окружения столик в крайнем ряду, жена Кельнера грациозно села на стул. Глядя на Агну, ее медленную, обворожительную улыбку, и плавные, неторопливые движения, Хайде мысленно согласился с выбором Кельнера, отдавая должное его вкусу: картинка была очень красивой. Но Хайде очень хотелось действия, — быстрого, результативного. Схватить жену Кельнера, запереть ее где-нибудь и вызвать его на очную ставку? Он, конечно, придет. Даже прибежит. Но делать этого не стоит, — слишком велика вероятность того, что что-то снова пойдет не так, и Хайде останется с очередным провалом. Поэтому, — Эрих глубоко вздохнул, пытаясь набраться терпения, которым он никогда особенно не обладал, — приходилось ждать. И продолжать наблюдение за бабой Кельнера.
Сам Эрих, устроившись за столиком в другом ряду, очень гордился выбранной позицией: окружающие посетители кафе, среди которых было даже несколько эсесовцев, скрывали его от взгляда Агны. По расчетам Хайде, он очень удачно смешивался с толпой, что нельзя было сказать об объекте его наблюдения — выбрав отдаленный столик, рядом с которым не было других посетителей, фрау Агна Кельнер не только не отводила постороннее внимание от своей персоны, но, наоборот, даже слишком привлекала его. Впрочем, вряд ли она задумывалась о чем-нибудь подобном, усмехнувшись, мысленно поправил себя Хайде: весь ее внешний вид, — начиная от легкой улыбки, адресованной официанту, когда тот принимал заказ, — до долгого рассматривания меню, говорил о том, что она не только ни о чем не подозревает, но даже более того, — действительно планирует отведать блюда из своего заказа: овощной салат, брецели и черный кофе.
Официанты, обслуживающие Хайде и жену Кельнера, подошли к своим клиентам одновременно. Перед Агной неторопливо, с пожеланием приятного аппетита, выставили ее заказ, и Хайде, наблюдая за тем, как она принимается за поздний завтрак (или ранний обед?), наконец-то смог по-настоящему расслабиться и выпить пива.
Около двадцати минут ничего не происходило. Агна Кельнер аккуратно ела, умиротворенная приятной обстановкой, Хайде допивал третью кружку пива, и это была такая идиллия, что Эрих уже готов был изменить объект наблюдения в своих будущих вылазках, остановив свой выбор на Агне, — тем более, что воздействовать на Кельнера через его бабу можно гораздо больше, чем если действовать напрямую, выслеживая самого Харри, — когда с той стороны, где сидел Хайде, раздался истерический женский крик. Взгляды посетителей кафе обратились к небольшой группе эсесовцев, — именно к ней, расталкивая пустые стулья в разные стороны, спешила плачущая женщина. Она была средних лет, — в каком-то черном платье «или тряпье», — как брезгливо подумал Хайде, отвлекаясь от Агны Кельнер.
Женщина с трудом добралась до столика, за которым сидели черные собаки Гиббельса, и остановилась, вцепившись в столещницу белого, витого изящным узором, столика уличного кафе.
Один из эсесовцев, — самый высокий, и, должно быть, старший по званию, — поднявшись, навис над женщиной, которая от сбившегося дыхания долго не могла заговорить, и с гневным криком, от которого у ближайших к нему людей вполне могло заложить уши, отбросил ее руку, которой она держалась за столик, в сторону. За окриками эсесовца, Хайде, поглощенный этой сценой, не смог разобрать слов, сказанных женщиной. Но уже через несколько минут он с радостной улыбкой наблюдал за тем, как черные собаки, скрутив и окружив ее, не церемонясь, потащили женщину к выходу из кафе. В начале этой занимательной сцены какой-то мужчина в штатском, — высокий блондин, сидевший между черными собаками и Хайде, — так резко поднялся из-за столика, разглядывая что-то прямо перед собой, что опрокинул стул, на котором сидел. Уже потом Хайде, вспоминая этот случай, понял, что блондин смотрел на жену Кельнера. «Очевидно, — пришел к запоздалому заключению Эрих, — он вскочил со стула для того, чтобы идти за ней». Но идти за Агной никому из них не случилось: ни у этого блондина в штатском, к которому вдруг почему-то адресовались черные собаки, — из-за чего он вынужден был, чертыхаясь, уйти с ними и с той сумасшедшей, что подбежала к ним, — ни у Хайде. Когда радость от задержания еврейки (а это была именно она, еще и заявившая эсесовцам ломаным, сорвавшимся голосом, «я — еврейка!»), расплывшаяся довольными улыбками по лицам Хайде и других посетителей кафе немного стихла, Эрих повернулся, чтобы проследить за Агной Кельнер, и вдруг обнаружил, что она ушла, и что за тем столиком, где сидела девушка, нет не только ее самой, но даже столовых приборов и блюд, принесенных для нее официантом.
* * *
— Ты уверена, что это были Хайде и Зофт? — уточнил Эдвард, медленно шагая рядом с Элис по аллее Груневальда, и слушая неторопливый, густой хрип снега под их ногами.
— Да. Зофт был в штатском, как и Хайде, и он очень разозлился, когда эсесовцы в форме, которые уже надели на ту женщину наручники, вдруг повернулись к нему, и обратились как к старшему, спрашивая у него дальнейших указаний по поводу задержанной.
Голос Эл прозвучал задумчиво и так тихо, что для того, чтобы расслышать сказанное, Эдвард наклонился к ней.
— Как ты себя чувствуешь?
Эл пожала плечами, не зная, что ответить. Память снова вернула ее к происшествию в кафе. Она специально выбрала столик в последнем ряду, свободный от окружения, — уйти с этого места, при необходимости, будет очень легко: за спиной — парковая аллея, с множеством гуляющих в полдень людей, перед ней, через два ряда однообразных столов уличного кафе — Хайде, который старается смотреть на нее из-за высоких газетных листов одиозного «Штурмовика» как можно незаметнее. Но именно потому, что он очень старается быть неприметным, Эрих совершает слишком много лишних, суетливых движений. Благодаря им его «слежка» мгновенно выдает себя, задолго до того, как начинают происходить хоть какие-то события. Отпивая кофе из чашки, которая очень кстати скрывает нижнюю часть ее лица, Элис улыбнулась, веселясь от суеты Эриха. Его она почти не боялась. При мысли о Хайде в ее душе поднималась только волна холодной ярости, — от воспоминания о том, что он сделал с Эдвардом. В Хайде Эл беспокоила только его внезапная вспыльчивость, но даже ей девушка не придавала большого значения, зная по своей внутренней уверенности, которую она четко ощущала в присутствии Эриха, что от него она сможет уйти.
А вот с Герхардом Зофтом, оказавшимся за другим столиком, дело обстояло совсем иначе. Агна заметила его не сразу. И Зофт, перед которым она всегда ощущала какой-то глухой, неясный страх, не в пример Хайде, следил за ней куда более умело и ловко. Она тяжело вздохнула, отламывая кусочек соленого брецеля: одно дело коротко поводить за нос Хайде и уйти от него, и совсем другое — выйти на возможное прямое столкновение с Зофтом, сотрудником гестапо и эсесовцем. При этой мысли страх Эл перед Зофтом ожил с новой силой, и, с удовольствием скручивая ее изнутри, вернул ей прежнее плохое самочувствие: слабость и тошноту. И пока Эл придумывала, как лучше всего ей оторваться от Зофта, к столику, где сидели эсесовцы, подбежала женщина.
Она была не в себе: отбросив за спину длинные, растрепанные волосы, женщина неловко остановилась перед собаками Гиббельса, и заявила им, что они должны арестовать ее, потому что она еврейка. Эл, несмотря на поднявшийся шум и окрики эсесовцев, ясно расслышала эти слова, и почувствовала, как волна ужаса, поднимаясь, накрывает ее с головой. Чувствуя, как дрожат руки, Элис схватила брецель, и изломала его в мелкую крошку. Затем, не спуская взгляда с эсесовцев и женщины, допила кофе, заставляя себя делать все необходимые движения неторопливо и спокойно. Самообладание изменило ей, когда женщину, скрутив, заковали в наручники и толчками повели к выходу из парка: в эту минуту Эл, чувствуя, как на глаза выступают слезы, вскрикнула и зажала рот ладонью.
А Зофт, не упускавший Агну Кельнер из виду, только и ждал чего-то подобного, но сейчас он сам, сотрудник тайной полиции, был занят.
Ибо глупые собаки Гиббельса не придумали ничего умнее, чем обратиться к нему за помощью и испросить совета в своих дальнейших действиях. Агна, пользуясь тем, что Зофт занят, ушла из кафе так быстро, как это только могла позволить спокойная, легкая походка, которой она прошла по аллее парка. Где-то в мыслях Эл еще прыгал, требуя внимания, вопрос о том, каким образом эсесовцы узнали в Герхарде Зофте, одетом в штатское, сотрудника гестапо? Но ответ на этот вопрос Элис в ту минуту интересовал меньше всего.
Перейдя улицу, и пройдя несколько домов, Эл остановилась, чтобы прийти в себя: унять волнение и дрожь. Прислонившись к стене дома, она закрыла глаза и сделала несколько глубоких вдохов и выдохов, вспоминая, что так уже было… тогда, когда она узнала, сколько убитых в ночь погромов значилось в неофициальных, самых первых, сводках гестапо. Тогда Агна Кельнер едва успела выйти из дома клиентки, как ее вырвало. Элис зажала рот рукой, надеясь, что в этот раз тошнота отступит. Но судорога скрутила изнутри так сильно, что ее снова вырвало. «Так не было раньше… надо собраться, собраться…» — отрывисто думала Элис, с трудом втягивая в легкие холодный, разряженный воздух. Голова ужасно кружилась, а тело стало таким тяжелым, что Эл боялась: ей не будет лучше, и она не сможет закончить свою работу, — сделать ещё два визита к клиенткам: одна примерка и один новый заказ. «Сначала нужно вернуться к машине, забрать вещи…». Силы постепенно возвращались к Элис. Выждав, для верности, еще несколько минут, Агна Кельнер другим путем вернулась к своей новой машине.
— Все хорошо, — напряженно ответила Эл на вопрос Эдварда, выплывая из воспоминаний. Прочертив носком ботинка полосу по свежему снегу, она замолчала, размышляя о чем-то. А Милн, наблюдая за ней, никак не мог унять свою тревогу. Ему было ясно, что Эл о чем-то умалчивает, и от этого беспокойство Милна становилось только сильнее. Но он не спрашивал ее, только молчал. Потому что очень давно, после их долгого, мучительного раздала, когда, как он выразился, они измучили и едва не убили друг друга, он пообещал себе, что больше не станет давить на Эл, выпытывая у нее то, что она по каким-то причинам не хотела или не могла сказать. Выдерживать это обещание Милну было трудно, особенно в такие моменты, как этот: когда кожей чувствуешь опасность, обступившую со всех сторон, и снова, теряя нужные слова, немеешь, не зная, что сказать. Эдвард вздохнул и обнял Элис, крепко сжимая в своей теплой ладони ее дрожащую руку. Он был уверен, что ему самому не нужна никакая помощь, но, к удивлению Милна, ему стало легче, когда он почувствовал близость Эл, и ее руки, плотным кольцом обвившие его по кругу. Они долго молчали. Наконец, стряхнув крупные снежинки с волос Элис, — они скатились от его прикосновения вниз легко и невесомо, — Эдвард прошептал:
— Смотри, что у меня есть.
Взяв книжечку в руки, Элис не сразу поняла, что это — новый паспорт для Дану. Обернутый темно-красной, кожаной обложкой, он выглядел солидно и ничем не выдавал того, что на самом деле это — фальшивка, сделанная на заказ.
— Узнаю педантизм Эдварда Милна и Харри Кельнера, — с улыбкой, чуть хрипло, проговорила Элис, имея ввиду то, что Эд помнил даже про обложку.
Милн улыбнулся.
— Фоули передал сегодня.
— Думаешь, теперь ему можно верить? — с сомнением спросила Элис.
Эдвард не ответил. Он и сам бы хотел знать ответ на этот вопрос.
Так закончился второй из оставшихся пяти дней.
* * *
— Теперь все необходимое для вашего отъезда готово.
Харри посмотрел по очереди на Кайлу, Дану, Кете Розенхайм и сидевшего рядом с ней Фоули.
— Фрэнк, спасибо за паспорт. Отличная работа.
Фоули кивнул и покраснел, чувствуя на себе мимолетный взгляд Агны Кельнер.
— Что нам теперь делать? — негромко спросила Кете.
— Самое сложное, — Харри слегка улыбнулся, — ждать. Все, что было необходимо, мы сделали: документы готовы, договоренности подтверждены взятками…
— Багаж собран, — продолжил Дану. — Мы сделали все, как вы сказали: только самые необходимые вещи и одежда, что приготовила для нас фрау Агна.
Кельнер кивнул.
— Кете, как Мариус?
— Все хорошо. Но он с трудом дожидается дня отъезда, — помолчав, со взволнованной улыбкой, сказала Кете. — Мне самой до конца не верится, что все это правда, и что скоро…
— Все кончится… — прошептала Агна, внимательно рассматривая узор на скатерти.
Ее голос оборвался, и она сдернула руку со стола, спрятав ее на коленях.
— Простите.
В гостиной дома Кельнеров повисла тяжелая, вязкая тишина.
— Я тоже не могу в это поверить! Но все будет хорошо!
Кете подошла к Агне, и обняла ее за плечи.
— Да. Спасибо.
Девушка благодарно улыбнулась Кете.
Посмотрев на жену, Харри опустил руку и сжал ее холодные пальцы.
— Думаю, на этом сегодня закончим. Осталось три дня. Прошу всех успокоиться и отдохнуть, — насколько это возможно. Живите, как обычно, — как в любые другие дни, так, словно ничего не происходит. Кете, Фрэнк, пароль на случай непредвиденной, срочной встречи вы знаете.
Кайла, Дану и Кете закивали.
— Я хочу кое-что добавить, — прочистив горло, Фрэнк поднялся из-за стола, и обвел всех присутствующих взглядом. Ответом была абсолютная тишина.
— Как я уже говорил, дата праздника по случаю открытия дома мод Гиббельс по новому адресу была изменена. Теперь это 24 декабря, — день отъезда.
— Черт возьми! Это точно, ошибки быть не может?
— Ошибка исключена, Харри. Более того, к моему удивлению, я тоже приглашен на этот вечер. Думаю, они планируют очень большой прием, а с учетом напряженной международной обстановки…
— Приглашают послов и значимых чиновников «союзных» стран, чтобы продемонстрировать дружбу и следование общим интересам? — закончил Кельнер.
Фоули развел руками:
— Может, они свяжут этот праздник и со скорым Рождеством.
— Что скажешь, renardeau? — с теплотой в голосе спросил Харри, поглаживая Агну по спине.
— Мне об этом ничего не известно. Но сегодня Гиббельс ждет на общее собрание работниц модного дома. Может быть, там она объявит что-то из того, о чем сказал герр Фоули. На том очередное раннее собрание в доме Агны и Харри закончилось. Все приготовления к отъезду были завершены, и все, что оставалось делать Кайле, Дану и Мариусу — это сидеть на чемоданах. Очень тихо.
* * *
Разобрав документы много раньше, чем планировал, Харри с удивлением оглядел свой рабочий кабинет, и откинулся на спинку кресла. Два свободных часа, оставшиеся до поездки в Дахау, сбили его с толку. Закурив сигарету, он нажал на кнопку связи с приемной, и предупредил Софи, чтобы она никого к нему не пускала.
Два свободных часа! «Когда такое было в последний раз, герр Кельнер?» — мысленно спросил Эдвард, и усмехнулся, стряхивая пепел с сигареты. Харри удивленно молчал, ничего не отвечая. Потому что такого внезапного приступа отдыха он не помнил за все свое время работы в «Байер»: его рабочее время всегда было расписано по минутам, и никакой временной промежуток в громадном концерне «Фарбениндустри» не мог, не имел права быть потерян. Ошалев от внезапного свободного времени, Милн-Кельнер выкурил две сигареты подряд, но внутреннее напряжение не спадало. Мысли Эда крутились вокруг Эл и ее перманентного, тревожного состояния. Он гнал от себя эти мысли, но гнал безуспешно. Приходилось признать пугающий его факт, с которым он пока не знал, что делать: он боялся, что Эл не выдержит. После всего пройденного и пережитого, после всех перипетий их общего пути, она… не выдержит? Вот почему сегодня ночью Милн сторожил ее сон: он был напуган молчанием и замкнутостью Элис так сильно, что не мог уснуть.
Она тоже спала плохо: часто просыпалась от страшных снов, вздрагивала, говорила во сне. Резко поднимаясь в постели, Эл отбрасывала одеяло в сторону, собираясь куда-то идти, и, повернув голову, замечала Эдварда. Он держал Элис за руку, рассматривая ее лицо и фигуру задумчивым, блестящим в темноте взглядом. Его присутствие успокаивало Эл. Улыбнувшись ему, она возвращалась в постель, надеясь, что скоро уснет. И уже скоро, снова проваливаясь в сон, она шептала один и тот же вопрос:
— Почему ты не спишь?
— Спи, спи…
И она засыпала, убаюканная его присутствием и еще очень темной ночью за окном. А Милн продолжал сторожить ее сон и ночь, думая над тем, как помочь Эл.
«Нет, она не может сдаться! В ней много добра и много света!» — упрямо твердил себе Эдвард, чувствуя, что теперь это было правдой только наполовину: у его Элис еще был свет, и была доброта, но иногда, — особенно часто в последнее время, — он ловил себя на осознании того, что этого может быть недостаточно для противостояния тому, с чем они имели дело. Милн поддерживал Эл как только мог. И все равно боялся, что этого мало. «Что еще мне сделать?» — спрашивал он себя. Но ответа не было.
Вот и сейчас, сидя в кабинете Харри Кельнера, он, без особой надежды на удачу, спросил себя о том же. И едва не бросил хрустальную пепельницу в стену от радостного осознания: Хайде! «Начнем решать задачу со старины Эриха!». Ответ был так изумительно прост, так очевиден после вчерашней слежки Хайде за Агной, что Харри очень обрадовался тому, что его свободное время снова занято.
План Кельнера был прост: найти Хайде и выяснить, какого черта он следит за Агной. Он принялся за дело со всем возможным энтузиазмом и горящими недобрым блеском глазами, — как раз таким, какой подтверждал опасения сослуживцев и коллег Кельнера и Себастьяна Трюдо в том, что этот блондин, — как его ни назови, — был, остался, и, скорее всего будет и дальше Психом.
Позвонив по номеру внутренней связи в отдел контрразведки, Харри узнал, что Эриха фон дер Хайде нет на рабочем месте второй день.
— Он отбыл по своим служебным обязанностям, — равнодушным голосом сообщила Харри телефонная трубка и отключилась, вероятно, решив, что разговор завершен.
У Кельнера не было оснований не верить секретарше из ведомства контрразведки, но он все равно поехал в невзрачный офис, где располагался кабинет Хайде. Если старина Эрих исчез, Харри Кельнер хочет лично в этом убедиться, а еще лучше — узнать, когда и куда именно исчез Хайде.
Кабинет Эриха, маленький и полупустой, куда Кельнер попал исключительно благодаря своему обаянию и силе убеждения, обрушенным на секретаршу Хайде, не рассказал ему ничего особенного. По разбросанным на столе вещам было ясно, что Эрих собирался в большой спешке. Но куда? Ответа среди мятых бумаг, раскрытых папок для хранения документов, карманных фонарей со сменными батареями и мелким сором, состоявшим из сожженных спичек и золы, не было. Милн предположил, что Хайде взял из кабинета какие-то вещи и «отбыл по служебным обязанностям». Секретарша сказала, что это было после разговора с начальством. «Возможно, этот разговор состоялся после встречи с Сектом, на которой я тоже был. Если я прав, то сейчас Эрих, где бы он ни находился, наверняка очень зол». Жена Эриха, Мирта Хайде, посмотрела на Кельнера со страхом, когда он спросил ее о местонахождении мужа.
— Не волнуйтесь, прошу вас. Я коллега вашего мужа, мы работаем вместе, и я хотел бы кое-что у него уточнить.
— Три дня назад он уехал в командировку, больше я ничего не знаю.
Изобразив крайне рассеянного и потому забывчивого коллегу, Кельнер попрощался с фрау фон дер Хайде, и пошел обратно к «Хорьху», теперь совершенно не представляя, где ему искать Эриха.
* * *
— И еще одна новость, дамы. Самая важная.
Фрау Гиббельс, окруженная со всех сторон работницами своего модного дома, улыбнулась как можно радостнее.
— Праздничный вечер по случаю открытия нового дома мод на центральной Унтер-ден-Линден пройдет уже завтра! Сочельник станет радостным вдвойне!
Хлопнув в ладоши, Магда оглядела ледяными глазами присутствующих. Фрау и фройляйн, обрадованные новостями, смотрели на нее с удивлением, причина которого крылась в необычайном приступе дружелюбия главной блондинки рейха. Среди женщин поднялась волна ропота, которую Гиббельс остановила одним надменным изломом тонкой брови.
— Фрау Гиббельс, — робко начала одна из девушек, — мы не ожидали, что официальное открытие будет уже завтра. Как же мы успеем подготовиться к открытию?
— Успеете, — холодно ответила Гиббельс, переходя взглядом от одной женщины к другой. — Завтра я объявляю для вас выходной день. Никаких выездов по заказам и встреч с клиентками. Обязательное условие только одно: все вы, до единой, вечером должны быть на празднике в самом лучшем виде. Это будет грандиозный вечер, с множеством гостей, и ваша обязанность — быть на вечере и выглядеть великолепно. Грустные, усталые, печальные лица, — супруга министра пропаганды бросила на Агну Кельнер злой взгляд, — мне не нужны. Только радость, счастье, красота для мужчин и веселье!
Гиббельс снова хлопнула в ладоши, давая женщинам знак, что они могут идти, и неспешно удалилась, прикурив от сигареты, вставленной в золотой мундштук.
Агна вышла на улицу, поправила меховой воротник теплого пальто, и, осмотревшись по сторонам, медленно пошла по мостовой Кудамм. Сегодня она была без машины, потому что еще вечером решила, что после работы зайдет к Кете и Мариусу. Времени до их отъезда, — с учетом последних новостей от Гиббельс, — оставалось меньше, чем они планировали: четыре дня вместо пяти. Слова Фоули подтвердились. Элис сжала руки в кулаки и глубоко вздохнула, чувствуя, как глухо и пусто бьется в груди сердце. Уже завтра! Завтра! Кете, Дану и Мариус уедут, будут спасены!.. «Проведи с Мариусом больше хорошего времени», — вспомнила Эл слова Эдварда. Как он оказался прав!
Но сколько бы времени с Мариусом Агна не проводила, ей все казалось, что она не сказала, не сделала самое важное и нужное. Но что это? Ответа она не находила. Все было пустым, и таким останется… «не смей так думать! Вы с Эдом будете здесь, и, кто знает, может быть, сможете помочь и другим людям? И шифровки, передачу нужной информации никто не отменял!». С такими мыслями Агна Кельнер шла по улицам Берлина. Она подходила к светофору, когда позади нее раздался звук автомобильного клаксона.
Стекло со стороны места для пассажира опустилось, и мужчина на безупречном французском негромко спросил, может ли он подвезти такую красавицу по любому нужному ей адресу?
Зеленые глаза Агны зажглись смехом, и, спрятав улыбку за изящным жестом, она утвердительно кивнула.
— Можете, герр Кельнер. Вы — можете.
Эл и Эд рассмеялись, глядя друг на друга. За смехом последовал поцелуй и улыбки, а затем Элис попросила Эдварда съездить к Мариусу.
— Хочу попрощаться, — быстро прошептала она, но голос все равно сдавленно дрогнул.
Завтра, 24 декабря, Элис уже не увидит Мариуса: день будет занят подготовкой к открытию модного дома, а вечер… об этом обязательстве не хотелось даже думать. Эл долго не соглашалась с Милном, убеждая его, что она успеет проводить Мариуса, Кайлу и Дану, и вернуться на праздничный вечер, но Эдвард не дал себя уговорить. И расклад остался прежним: Харри Кельнер приедет на вечер позже, сказавшись очень занятым чиновником, а Агна Кельнер будет там вовремя, вместе с Фрэнком Фоули.
— Нет, только не с ним! — протестовала Эл.
— Именно с ним, фрау Кельнер. Так я буду знать, что, пока я провожаю Кайлу, Дану и Мариуса, ты — в безопасности. Фоули отлично подходит для этой роли, — он не вызовет подозрений, потому что тоже приглашен. Если вас спросят о том, как вы познакомились, то он ответит, что однажды заказывал для своей сестры платье, сшитое в доме мод Гиббельс. Я говорил с ним, он согласен.
Элис усмехнулась.
— Согласен! Да что может случиться?..
Элис хватило одного взгляда на Милна, чтобы понять, что именно он ответит на этот вопрос.
— Из всех подобных случаев напомню тебе только один, renardeau, после которого ты пришла ко мне ночью в слезах и с вопросом…
— Убьют ли они нас… да, помню. Это было в самом начале, слишком давно.
Элис замолчала, вспоминая тот и другие, подобные ему случаи, и вздрогнула от отвращения.
— Хорошо, — Фоули, так Фоули.
Девушка кивнула и посмотрела в окно «Хорьха»: они подъезжали к дому Кете Розенхайм. Мариус, не ожидавший, что Агна, — которую про себя он продолжал называть «феей», — приедет в гости ради него, специально, чтобы попрощаться с ним перед отъездом, волновался так сильно, что почти ничего не мог сказать, — «связного или умного!» — как потом ругал он себя. Он только смотрел на Агну своими огромными, сияющими глазами, с восторгом и любовью. И Агна смущалась не меньше, чем Мариус, — правда, по иной причине, — она пыталась поговорить с ним, и никак не могла подобрать нужных слов. Все они казались пустыми перед фактом того, что она видит Мариуса в последний раз. Одна мысль согревала ее: мальчик останется в живых. Он будет жить, он будет свободен!
Агна улыбнулась, глядя на мальчишку. Черты его лица менялись, постепенно обретая мужественность, но в них она все еще могла отыскать того маленького мальчика, который, по счастливой случайности, спас ее одним поздним вечером.
— Спасибо! Я всегда буду у вас в долгу.
Агна улыбнулась сквозь слезы.
— Помни, о чем мы с тобой говорили. Будь сильным и храбрым.
Мариус кивнул, и смущенно опустил глаза. Так говорить было немного легче.
— Спасибо вам и вашему мужу… я нехорошо себя вел, я… всегда буду помнить вас. И вашу доброту. Тогда, когда все другие, кроме мамы, считали меня… — Мариус посмотрел на Агну глазами, полными слез. — …Я буду сильным и смелым, как вы говорили мне!
Агна долго молчала и плакала. Когда боль стала меньше, она прошептала:
— Будет очень сложно, Мариус. Мне хотелось бы сказать тебе другое, но…
— Я все понимаю! Вы не думайте, — я не маленький! Я буду стараться, я буду сильным! И я всегда буду помнить то, что вы сделали для меня и моей мамы!
— А я всегда буду помнить тебя, Мариус. Если бы тогда ты не выскочил из-за угла на своем велосипеде…
— Если бы я мог, я убил бы его голыми руками!
Агна крепко обняла его и поцеловала в щеку.
— Не нужно. Просто живи. Я очень надеюсь, что ты будешь счастлив!
Раздался короткий стук в дверь, и на пороге импровизированной комнаты Мариуса показался Харри. При виде Кельнера мальчик резко выпрямился, подошел к нему, и отчеканил:
— Спасибо вам, герр Кельнер! Я всегда буду помнить то, что вы сделали для меня!
Мариус произнес слова так четко, что через секунду наверняка стал бы салютовать. Харри улыбнулся, и вытянул руку для рукопожатия.
— Я рад, что у нас получилось помочь тебе. Удачи, Мариус! И счастья. Но с тобой мы еще встретимся завтра, когда я буду вас провожать.
Харри подмигнул мальчишке и хитро улыбнулся.
— У меня к вам одна просьба, герр Кельнер, — по-прежнему серьезно сообщил мальчик.
— Слушаю.
Харри замолчал, ожидая его слов. Кельнер не наклонялся к Мариусу и не пытался чему-то его учить, — как взрослый поучает ребенка, — он просто ждал. И это отношение равенства и достоинства поразило мальчика до глубины души. Испугавшись, что сейчас снова расплачется, да еще перед Харри, Мариус быстро, горячо прошептал:
— Пожалуйста, герр Кельнер, берегите фрау Агну!
Харри с удивлением посмотрел на него. В его глазах Мариус заметил какое-то острое, печальное выражение, а потом Кельнер, похлопав его по плечу, сказал:
— Обещаю.
Так третий из пяти дней, которые сократились до четырех, подошел к концу.
* * *
Элис сидела на кровати, и наблюдала за тем, как Эдвард завязывает белый галстук-бабочку и надевает смокинг. Он выглядел так строго и был таким красивым, что сердце Эл дрогнуло от любви и боли. Отвернувшись, чтобы он не заметил ее слез, она посмотрела на платье, которое выбрала для сегодняшнего вечера: темно-синее, бархатное, с высоким вырезом на груди, по длине оно доходило Агне Кельнер чуть ниже колена, и на правом рукаве было украшено петелькой для среднего пальца, сделанной из тонкой золотой цепочки. По талии шла такая же цепочка, чуть более плотного плетения.
Эл погладила платье, и закрыла глаза, успокаивая волнение в груди. В эти дни она стала такой нервной и плаксивой, что сама себя не узнавала.
Элис списывала это на беспокойство, связанное с отъездом Кайлы, Дану и Мариуса, но вот Кайла, — если судить по тем задумчивым и беспокойным взглядам, которые она останавливала на Агне, — была иного мнения. Вслух они ни о чем не говорили, и Агна, думая об этом, поняла, что боится слов Кайлы.
— За ужином ты почти ничего не ела, — Эдвард посмотрел на Эл в зеркало.
— Не хочу, нет аппетита… — глухо ответила она. — Прости, не знаю, что со мной.
Она подошла к Милну, и крепко обняла его.
— Я очень счастлива с тобой, и я очень тебя люблю. Прости, что редко говорю об этом.
Эдвард удивленно молчал. Погладив Эл по волосам, он прошептал:
— Не редко, renardeau. Ты говорила об этом сегодня ночью.
Милн улыбнулся, но как-то невесело, чувствуя тревогу Эл. Подняв голову вверх, она посмотрела ему в глаза.
— Хочу, чтобы ты всегда это знал и помнил. Я бесконечно тебя люблю.
Милн поцеловал ее в кончик носа, и вгляделся в беспокойные глаза.
— Что с тобой?
Элис сильно вздрогнула, словно ей вдруг стало холодно.
— Я боюсь за тебя. Будь, пожалуйста, осторожен. И приезжай на вечер сразу же, как сможешь. Я буду очень тебя ждать.
Милн кивнул, крепче обнимая Эл.
— Я провожу Кайлу, Дану и Мариуса, и очень скоро приеду к тебе. Мы будем танцевать и пить шампанское. А потом сбежим с вечера и отправим в Центр разгромную шифровку.
Эл улыбнулась, погруженная в свои мысли, и поправила галстук Милна.
— Я буду ждать.
Вернувшись к кровати, она подхватила платье и ушла переодеваться, думая, что весь сегодняшний вечер похож на одно сплошное deja vu.
Фрэнк Фоули пришел, когда Харри Кельнер был уже в дверях. Переложив букет цветов из правой руки в левую, он пожал руку Харри.
— Добрый вечер, Фрэнк. Проходите, Агна сейчас спуститься.
Кельнер надел белый шарф, а за ним — черное пальто. На лестнице раздалась дробь шагов, и Агна быстро сбежала по лестнице вниз. Остановившись перед Харри, она приподнялась на носки, поцеловала его и снова остановила на лице Кельнера долгий взгляд.
— До скорой встречи, renardeau. Все будет так, как мы договорились.
Агна кивнула и погладила отвороты пальто Кельнера.
— Фрэнк, — шепнул Харри, наклоняясь к ней.
— Да, я помню.
Подойдя к Фоули, так и застывшему у входной двери с букетом цветов в руках, Агна протянула ему плотный конверт.
— Добрый вечер. Это вам.
Фрэнк посмотрел на сверток в руках Агны, и перевел взгляд на нее, а затем — на Харри. Взяв конверт, он протянул Агне букет цветов.
— Добрый вечер. А это — вам. Продавщица посоветовала завернуть цветы в бумагу, чтобы они не замерзли. Вы… замечательно выглядите.
— Благодарю.
Агна развернула плотную оберточную бумагу, и увидела, что под ней — небольшой букет темно-синих и фиолетовых фиалок.
— Спасибо, это неожиданно.
Девушка поднесла букет к лицу, вдохнула аромат цветов, и, уронив его на пол, убежала, зажав рот ладонью. Кельнер, ничего не понимая, пошел за ней. И наткнулся на закрытую дверь ванной комнаты.
— Агна! — он постучал в дверь. — Агна, открой! Что случилось?!
Дверь открылась через несколько минут. Агна, бледная, смущенно взглянула на него.
— Запах цветов… слишком резкий.
Кельнер с тревогой посмотрел на нее.
— Может, лучше…
— Нет, я не могу остаться дома. Надо идти. — Агна постаралась улыбнуться. — Не
беспокойся, все уже в порядке.
— Точно?
— Да, иди. Вам пора ехать. Кайла и Дану ждут тебя.
Харри постоял на месте, не желая уходить, и широким, быстрым шагом пошел в коридор. Агна медленно шла за ним.
— Я не могу это принять, — начал Фоули при виде Кельнера, возвращая ему конверт.
— Фрэнк, это всего лишь деньги. Те, которые вы потратили на паспорт для Дану. Берите.
— Нет, не возьму! — твердо заявил Фрэнк, с волнением глядя на вернувшуюся Агну. — Я это сделал не ради денег!
— Как хотите, Фоули. У меня нет времени вас уговаривать.
Фрэнк вернул конверт Агне.
— Вот… простите, я не знал, что цветы…
Агна посмотрела на сверток в руке Фоули и повернулась вправо, услышав шаги Кайлы и Дану.
— Мы готовы, — сказал Дану, поочередно глядя на Харри, Фрэнка и Агну.
Ее большие, зеленые глаза в сравнении с бледным лицом казались огромными. Девушка отошла в сторону, чтобы Кайле, — она была на втором триместре, — было удобнее собираться. Взглянув на Агну, державшуюся рукой за стену, Кайла испуганно шепнула:
— Вам плохо? Фрау Агна!
Агна, не имея ни желания, ни сил на фальшивую улыбку, посмотрела на Кайлу темными глазами. Они отошли в сторону.
— Вы беременны.
Уверенная в своей правоте, Кайла улыбнулась. Но Агна отрицательно покачала головой.
— Это обычная слабость. Нервы.
Кайла посмотрела на Агну как на ребенка, который сам не понимает, о чем говорит.
— Фрау Агна, вы беременны! Я наблюдала за вами, все признаки указывают на это!
От слов Кайлы Агну бросило в жар, и она раздраженно сказала:
— Я не могу. У меня не может быть детей, Кайла. Так сказал врач!
— Я тоже врач, пусть и не акушер-гинеколог, и я говорю вам: вы ждете ребенка!
Агна потрясенно посмотрела на Кайлу и замолчала. Она чувствовала, как заботливо ее обняли и зашептали какие-то радостные, теплые слова. «Должно быть, поздравления…» — отвлеченно, словно глядя на себя со стороны, подумала Эл. «Я беременна? У нас будет ребенок?». Эта мысль была такой громадной, потрясающей все, что казалось устоявшимися в ее жизни, во всем этом мире, что Элис застыла на месте без движения.
«Не может быть… не может этого быть! Тот врач повторил мне несколько раз… боже…».
— Фрау Агна, как я рада за вас! — Кайла поцеловала ее в щеку и улыбнулась сияющей, счастливой улыбкой. — Уверена, вы и герр Кельнер будете…
— Ничего ему не говори, Кайла. Прошу тебя. Никому не говори. Я сама. Когда буду уверена.
— Как я могу? Это только ваше дело, фрау Агна. — Кайла смахнула слезы с лица. — Но я уверена.
Девушка кивнула и внимательно посмотрела на Кайлу Кац.
— Я буду очень по тебе скучать! Спасибо тебе за все. Я никогда не забуду, как ты и Дану спасли нас.
— Вы сделали для нас гораздо больше!
Чувствуя приближающиеся слезы, Агна быстро прошептала:
— Пожалуйста, позаботьтесь о Мариусе. Он, конечно, не ваш сын, но…
— Мы не бросим его, фрау Агна.
— Да… — растерянно прошептала девушка, и вскрикнула, вспомнив то, что давно хотела сказать. — Обязательно поезжайте по тому адресу, который я вам назвала! Там не ждут гостей, но я знаю, что когда вы расскажете то, о чем мы говорили, вам помогут.
— Спасибо!
Кайла хотела улыбнуться, но от волнения у нее это не получилось.
— Мы когда-нибудь увидимся?
Элис почувствовала, как сердце обжигает жаром.
— Не знаю, Кайла. Берегите себя и будьте счастливы. Вы и ваш малыш…
Агна указала взглядом на живот Кайлы, а она, улыбаясь, хитро сказала:
— Вы тоже, фрау Агна. Вот увидите, я права.
Женщины вернулись в тот момент, когда Харри заканчивал инструктировать Фоули. Иначе это назвать было нельзя, — таким строгим и жестким было выражение лица Кельнера.
— Фрэнк, вы все запомнили? Оставьте ваш автомобиль здесь, в гараже, и поезжайте с Агной на «Опеле». Он легче, быстрее и лучше вашего «Фольксвагена». И прошу вас, будьте внимательны и аккуратны, не оставляйте Агну одну.
— Харри…
Пропустив возражение жены мимо ушей, Кельнер требовательно смотрел на Фоули в ожидании ответа.
— Я все сделаю, Харри, будьте уверены.
Кельнер всмотрелся в глаза Фоули, и кивнул.
— Спасибо!
— Зачем ты его пугаешь? На нем лица нет! — сказала Агна, когда Кельнер подошел к ней.
— Я должен проводить Кайлу, Дану и Мариуса, а Фоули я доверяю самое дорогое, что у меня есть. Так что пусть лучше боится, чем ведет себя беспечно, думая, что едет на обычный праздник.
Агна остановила взгляд на суровом лице Харри, и медленно улыбнулась.
— До скорой встречи, герр Кельнер.
* * *
На том они и расстались: Фоули, под пристальным взглядом Кельнера, сел за руль черного Opel Kadett, и вместе с Агной поехал на праздничный вечер, гремевший в тот день на главной Унтер-ден-Линден, а Харри, удостоверившись, что с Агной все в порядке, поехал вместе с Кайлой и Дану к дому Кете: они поедут на центральный вокзал Берлина сразу же, как заберут Мариуса. Эдвард был абсолютно спокоен в том, что касалось отъезда Кайлы, Мариуса и Дану, и все его волнение относилось только к Элис, и к тому, как пройдет этот вечер, который был не нужен никому, кроме супруги хромого министра.
Мариус вышел из дома сразу же, как только они подъехали. Он сел на заднее сидение, рядом с Кайлой, и тихо поздоровался со всеми. Харри сдал назад и выехал на главную дорогу. Теперь их путь почти на всем протяжении вел только по прямой.
Может быть, сосредоточенность Харри так подействовала на его пассажиров, а может быть каждый из них был слишком поглощен своими мыслями, но в машине на протяжении всего пути царила полная тишина. Она прервалась только тогда, когда перед глазами Харри, Дану, Кайлы и Мариуса предстал переполненный перрон берлинского железнодорожного вокзала. Людей было так много, что свободной земли под их ногами как будто не существовало.
Крики, мольбы, слезы, ругань и звонкие детские голоса, заглушенные взрослыми, — это человеческое море, которое через двадцать минут направят в сторону Голландии, а затем Великобритании, ничем не отличалось от других людских потоков. Кто-то не успевал к своему вагону, и бежал так быстро, что терял на ходу те немногие личные вещи, которые им было позволено взять с собой. Кто-то, крутя головой из стороны в сторону, искал своих, выкрикивая их имена в холодный воздух как можно громче.
Харри шел широким, четким шагом, — как таран, знающий только свою цель. В правой руке он крепко держал руку Мариуса, одновременно контролируя боковым зрением местонахождение Дану и Кайлы. Они почти бежали за ним, и Кельнер, помня, что Кайла беременна, вынужден был снижать скорость, а иногда и вовсе останавливаться.
К нужному вагону поезда они подошли за пятнадцать минут до времени отправления. Проводник в синей форме и форменном пальто шагнул им навстречу, салютуя нацистским приветствием, от которого трое из этих четырёх людей сбегали в Великобританию. Удерживая Мариуса за плечи, Кельнер остановился за его спиной, укрывая от толчков плотной толпы, и боковым зрением наблюдая за Кайлой и Дану, которые стояли слева от них. Харри передал документы на всех трех пассажиров, и стал ждать окончания кропотливой, во многом же просто унизительной проверки.
Мариуса осмотрели самым подробным образом, и, в конце концов, разворошив в небольшом чемодане те немногие вещи, которые отъезжающим можно было с собой взять, выдали ему две таблички, которые тут же прицепили на одежду: на груди был написан порядковый номер, — согласно списку пассажиров, а на спине — имя, «Мариус Кац».
Проверка документов Кайлы и Дану обошлась быстрее по времени и дороже по деньгам. По взгляду проводника Харри видел: он знает негласный статус этих двух пассажиров; знает, что за их выезд из Берлина уже заплачены немалые суммы. Знает, и… указательный и средний пальцы мужчины сложились вместе в подобие горсти. И Кельнер, беззвучно усмехнувшись, достал деньги, приготовленные заранее именно для этой цели.
Досмотрщик кивнул, и Харри едва не рассмеялся вслух его умелой пантомиме: лицо мужчины было таким спокойным и равнодушным, что каждый первый сказал бы вам, что деньги, — этот презренный металл, — его совершенно не интересуют. Наконец, раздался первый свисток, как сигнал к скорому отправлению поезда. Проводник, даже не взглянув на багаж Кайлы и Дану, быстро, — подгоняемый давлением толпы на свою спину, — выдал им таблички с именами и порядковыми номерами, и обратил свой пустой взор к тем, кто стоял в очереди за Харри.
— Ну… — выдохнул Кельнер в черное небо холодного, зимнего вечера.
Дану, сжав его руку, потряс ее в своих руках, и крепко обнял Харри. В его карих глазах, за границей нижних век, Кельнер заметил блестящую строчку слез. Кайла была более красноречива в проявлении своих чувств. Обнимая высокого Кельнера, она горько и тихо плакала, не смея поднять головы, и только часто вытирала слезы отрывистым, резким движением ладони. Кельнер обнял ее и замер без движения на несколько секунд.
В его памяти быстрой молнией сверкнуло воспоминание о том, как Кайла наклонилась к нему, упрашивая его отдать ей раненую Агну, которая тогда была без сознания. Харри тряхнул головой, отгоняя от себя тяжелые воспоминания. За одну эту помощь со стороны Кайлы и Дану он считал себя в неоплатном долгу перед ними. А сколько такой помощи было после… Эл тогда была сильно ранена и могла умереть. Прямо так, — у него на руках, на улице, среди громадного Берлина, забитого черными крючьями свастики и уже истекающего первой кровью… перед мысленным взором Эда показалось лицо его мамы: залитое кровью, с красными-красными волосами.
Руки Харри Кельнера, обнимающие Кайлу, задрожали, и он быстро вытянул их вниз, вдоль тела. Мариус попрощался с ним быстрее всех: пожав руку Харри, он всмотрелся в его яркие, голубые, глаза, переполненные затаенной горечью, и замолчал. Молчание длилось до последнего свистка, призывающего пассажиров пройти в вагон.
— Спасибо вам за все.
Мариус еще недолго посмотрел на Харри, и отвел глаза. Кельнер заметил, как дрожат его губы.
— Прощай. И будь счастлив.
Улыбка Харри Кельнера была последним воспоминанием, что Мариус забрал с собой из Берлина. В следующую минуту он уже сидел в поезде, рядом с Кайлой и Дану, и, покачиваясь на деревянной скамье с высокой спинкой, медленно уезжал из Столицы мира.
* * *
Молчание слишком затянулось для того, чтобы остаться просто паузой. Элис смотрела в окно, но ничего не видела, — она вспоминала прощание с Кайлой, Дану и… Эдвардом. Сердце похолодело при этой мысли, и она тяжело вздохнула.
Никогда прежде она так себя не чувствовала и не вела, — словно цеплялась за него, удерживая изо всех сил.
Элис поморщилась. Она терпеть это не могла, и никогда так не поступала, но в эти дни… необъяснимое ощущение чего-то неотвратимого только нарастало, постепенно, с каждым днем, затмевая собой все доводы рассудка. Внешние события говорили Эл о том, что вся ее долгая, мучительная тревога — напрасная выдумка, а сердце… было беспокойно и днем, и ночью. Самым гадким во всем этом было то, что все это были лишь ее ощущения, интуиция: и никаких реальных поводов, — уже существующие были не в счет, — для этой громадной, непонятной тревоги не существовало. Эл вспомнила слова Кайлы. «Вот увидите, я права». Мысль о том, что она беременна пугала ее. Раньше Элис, остро и затаенно переживая смерть малыша, отчаянно желала забеременеть снова, но потом, с течением времени, желание сменилось отчаянием, неверием и… четким убеждением в том, что она никогда не сможет иметь детей. Это осознание всегда причиняло ей боль, но Эл убедила себя, что отныне она будет с ней всегда, и значит, лучшим выходом из всей этой боли будет просто жить дальше. Хранить эту боль про себя и жить дальше, больше не питая себя пустыми надеждами. Но теперь, после слов Кайлы… она говорила так твердо, так убежденно, что… Элис почувствовала, как горло сводит судорогой, — ей так хотелось верить Кайле, так отчаянно хотелось верить! Но разум говорил Эл, чтобы она не смела поддаваться новой надежде, — собраться заново после нее будет очень сложно. И Эл смирила себя. Еще недолго полюбовавшись фразой «вы беременны!» со стороны, словно она была сказана не ей, а другой женщине, Элис перешла к другим мыслям.
Как все прошло? Получилось ли у Эдварда проводить Кайлу, Дану и Мариуса? Как они уехали? Смогут ли они в порту Харвич уйти незамеченными и поехать в Ливерпуль тем маршрутом, о котором Элис им рассказала? Хватит ли у них денег, которые они дали им в дорогу?… Вопросы, один за одним, кружились в мыслях Элис, и она ехала на вечер, сидя рядом с Фоули в новом «Опеле», совершенно не следя за дорогой.
— Приехали.
Фрэнк остановил автомобиль у черного входа в здание, в котором теперь расположился модный дом Гиббельс.
Агна, очнувшись от своих своих размышлений, удивленно посмотрела вокруг, и взглянула на Фрэнка.
— Герр Фоули, давайте договоримся сразу, — девушка сделала глубокий вдох, мысленно пообещав себе подбирать слова как можно аккуратнее. — Скажу честно: у меня нет желания быть на этом вечере в вашем сопровождении. Причину, думаю, вам объяснять не нужно. Но я обязана быть здесь именно в вашей компании. Поэтому прошу вас держать себя в руках, и… — Агна закрыла глаза и вздохнула, — …просто быть рядом. Если вы позволите себе что-то подобное тому поцелую, я отвечу вам самым резким образом. Я замужем, и я люблю своего мужа.
— Я все понимаю, фрау Кельнер. И снова прошу вас извинить меня за тот поцелуй, и за цветы, я не хотел…
— Вы извиняетесь искренне, или это только слова?
Агна повернулась к Фрэнку, внимательно рассматривая его лицо. Не выдержав ее взгляда, Фоули опустил глаза вниз и после долгого молчания вынужденно прошептал:
— За цветы мои извинения искренни.
— Но не за поцелуй, — жестко уточнила жена Кельнера.
— Но не за поцелуй, — согласился Фрэнк, и горячо добавил, — вы не можете запретить мне любить вас. Я знаю, вы никогда не будете моей, и я никогда не позволю себе причинить вам зло, но к поцелую мои извинения не относятся. Я хотел этого, я мечтал об этом.
Агна, не ожидавшая такой откровенности, изумленно посмотрела на Фоули, и приготовилась к новым объяснениям, но, увидев, с какой мучительной нежностью он смотрит на нее, окончательно смутилась и промолчала.
Накинув на плечо тонкую золотую цепочку вечерней сумочки, Агна Кельнер вышла из автомобиля, громко хлопнув дверью. Фрэнк подошел к девушке, и вытянул согнутую в локте правую руку в сторону. Не ответив на это приглашение, Агна пошла к центральным дверям, недоумевая над тем, зачем Фоули понадобилось оставлять «Опель» у черного хода. Спрашивать об этом вслух, ровно как и говорить с ним сверх самых необходимых фраз, Агна не собиралась. От морозного воздуха она почувствовала себя лучше, и надеялась, что вечер пройдет спокойно и благополучно. Фрэнк догнал ее, и теперь шел рядом, больше не предлагая ей… сопровождение. А Агне Кельнер отчаянно не хватало своего мужа.
* * *
— Фрау Кельнер, наконец-то вы пришли!
Магда Гиббельс пошла на Агну сразу же, стоило ей войти в большую залу, переполненную гостями, угощениями, официантами с шампанским и огромным множеством зажженных свечей. Зачем Гиббельс понадобились свечи, некстати соперничающие с электрическим светом в освещении душного зала, Агна не знала. Но первое впечатление было напрочь проиграно: желтые языки свечей, неудачно сочетаясь с огромными, яркими люстрами и светильниками, отдавали старостью, пылью и нафталином. Но не только свечи выглядели здесь, на «большом вечере», неуместно: оказалось, что и платье Агны — «слишком закрытое, чопорное и совсем некрасивое». Именно так выразилась Магда Гиббельс. И посмотрела на Агну зло и неприязненно, спрашивая ее взглядом холодных глаз, неужели во всем Берлине она не смогла найти платья получше? Фрау Кельнер улыбнулась как можно вежливее, и напомнила, что никаких указаний по внешнему виду выдано не было.
Это замечание только больше разозлило первую блондинку рейха, и, сверкнув глазами, она ушла к группе гостей, в которой дамы, судя по вырезам их платьев на груди и спине, были куда умнее Агны Кельнер.
Осторожно, под прикрытием бокала шампанского, осмотрев зал по кругу, Агна заметила в толпе Хайде. Его суетливая фигура металась от одного гостя к другому, и девушка, глядя на его хаотичные движения, поняла, что он не в себе. Но так, похоже, казалось только ей, потому что никто из присутствующих не обращал на Эриха, который выглядел как настоящий сумасшедший, никакого внимания. Хайде замер недалеко от Агны, а она, заметив его безумный, бегающий взгляд, почувствовала настоящий страх.
Не рассуждая, девушка повернулась к Фоули, занятому рассматриванием гостей у противоположной стены зала, и торопливо сказала:
— Потанцуем?
Вышколенный строгой отповедью Агны, произнесенной ею в салоне «Опеля», Фоули замер на месте, не смея двигаться. Вздохнув, Агна подошла к нему еще ближе, и сказала:
— Видите того мужчину? — она аккуратно указала взглядом на Хайде.
— Да.
— Надо потанцевать.
Фрэнк кивнул, и, предложив Агне руку, повел ее в центр зала. Над ними звучала незримая, классическая мелодия, которую исполнял живой оркестр.
Рука Фрэнка, не смея двинуться ниже, застыла на спине Агны. Девушка опустила ладонь на его плечо, и танец начался: официальный, церемонный и сбивчивый.
От слишком большого волнения, не в силах перестать смотреть на нее, Фрэнк вел Агну неуверенно и шатко. А она осматривала зал в поисках Хайде.
Он мелькнул снова всего один раз, — пробежал там, где до танца стояли Агна и Фрэнк, и снова скрылся среди гостей, занятый своим безумием.
«Он ищет Харри? Что он хочет? Или мне кажется?». Агна проследила за Эрихом до его исчезновения в толпе, и втянула душный воздух в легкие, тут же задохнувшись от обилия запахов, смешанных с сильной волной пота.
— Простите… — сжав рукой шею, сдавленно прошептала Агна.
— Что случилось? Вам плохо?
Не ответив, Агна выбежала из зала. К счастью, дамская комната нашлась довольно быстро, — за третьей дверью справа по длинному, гулкому от звенящего эхо, коридору.
Агна едва успела закрыть за собою дверь, как ее снова вырвало. Приступ длился дольше предыдущих, и спазмы в этот раз были гораздо сильнее. Выдержав несколько минут, и убедившись, что дурнота отступила, Агна подошла к раковине, вымыла руки, прополоскала рот, плеснула в лицо холодной водой, и застыла на месте, со страхом глядя на отражение Хайде в большом настенном зеркале. Развернувшись так быстро, как могла, она бросилась к двери, но Хайде, крепко зацепив девушку за плечо, вернул Агну назад и швырнул ее на пол.
— Сиди тихо, иначе не дождешься своего мужа!
Эрих размахнулся, но не ударил ее, — только оттащил, вцепившись в ворот платья, — который от этого начал душить Агну, — к высокой батарее. Больно ударившись, девушка застонала.
— Неприятно, правда? А представь как неприятно мне!
— Что вы хотите?
— Я мечтаю убить твоего мужа!
Хайде засмеялся, разглядывая девушку блестящими, безумными глазами.
— Мы дождемся Харри Кельнера вместе, я убью его, а потом подумаю что сделать с тобой!
— Нет! — громко крикнула Агна. — Помогите!
Сразу же после этих слов запертая дверь отлетела в сторону, и пуля, без сопровождения каких-либо слов, пробила грудь Хайде.
Эрих упал навзничь и захрипел, с ужасом глядя вверх, на подходившего к нему мужчину. Голова его, немного подрожав, не смогла повернуться в нужную сторону, и Хайде умер, так и не узнав, что его убил Герхард Зофт.
Агна, немая от ужаса, сидела на полу, прижавшись спиной к батарее, и молча смотрела на мертвого Хайде.
— Ну вот, дело сделано! Каждый выполнил свою роль.
Зофт подошел к Агне и поднял ее на ноги, с любопытством рассматривая глубину ее громадных глаз, наполненную каким-то невероятным сиянием.
— Я думала, это не вы… — прошептала девушка и потеряла сознание.
Зофт легко подхватил ее на руки, весело присвистнул, и вышел из дамской комнаты.
* * *
— Кто вы?
Агна всмотрелась в лицо мужчины, но не узнала его, и закрыла глаза, чтобы унять головокружение.
— Тот же вопрос я задаю себе относительно вас, фрау Кельнер.
Зофт сел на софу, обитую шелком, и замолчал, явно наслаждаясь и происходящим, и его неспешностью. Откинувшись на высокую спинку, он погладил светлый шелк бледного, едва желтого оттенка, и довольно улыбнулся. Затем взгляд его темно-серых глаз поднялся выше и остановился на Агне Кельнер.
Ее правое запястье, уже стертое тесным кольцом наручников, было надежно пристегнуто к спинке двуспальной кровати. Левая рука была свободна, и Герх считал, что это чертовски мило с его стороны, — оставить подобную свободу такой даме, как Агна Кельнер. Он не приводил ее в сознание насильно, — спешить ему было некуда, и вместо того, чтобы начать выбивать из девушки нужные ему ответы как можно скорее, Герхард заказал в эту комнату на последнем, третьем этаже «особняка на Кудамм», сохранившей и бывший до ремонта вид респектабельного гостиничного номера, и куполообразную, стеклянную крышу, роскошный ужин на двоих и несколько бутылок шампанского Dom Pérignon. Внизу, на первом этаже, гремел праздник по случаю открытия модного дома Гиббельс, и весь этот шум с пьяным хохотом и криками, смешанными с музыкой оркестра, как нельзя лучше подходил к мероприятию, организованному Зофтом здесь, в красивом номере некогда шикарной гостиницы Берлина.
Агна зашевелилась, снова приходя в себя, и с трудом посмотрела сначала направо, потом налево. Зофт знал, что она не притворяется, — ей и в самом деле было довольно паршиво. Но вот почему? Этот вопрос пока оставался открытым. Пользуясь моментом, он подошел к кровати и сел рядом с Агной, медленно изучая ее лицо и фигуру. То, на что он смотрел, нравилось ему, хотя он не мог сказать, что миниатюрные женщины привлекают его. Но в этой было такое любопытное сочетание дерзкой красоты и характера, что в какой-то момент Зофт понял, что он хочет поймать ее и долго-долго рассматривать.
Эти мысли вызвали на его лице улыбку, и Агна Кельнер громко сглотнула, глядя на него огромными, испуганными глазами. «Опять эта мертвая улыбка…» — подумала она, чувствуя, как все внутри сжимается от этой мысли.
Она попыталась сесть, но нога соскользнула по шелковому покрывалу, расшитому вручную роскошными цветами. Зофт потянул губы в новое подобие улыбки.
— Зачем вы убили Хайде? — спросила девушка, снова пробуя приподняться. О том, что она прикована к кровати, Эл думать себе запретила.
— Откуда вы его знаете?
Голос Зофта звучал вполне дружелюбно, словно он вел светскую беседу.
— Он участвовал в боксерском поединке с моим мужем. Потом допрашивал его.
Зофт изобразил на лице ужас и сожаление, хлопнул себя по коленям, и, подойдя к накрытому столику, откинул в сторону белую полотняную салфетку. Забросив в рот крупную ягоду темного винограда, он повернулся к Агне.
— Хотите?
При виде еды желудок Эл пошел громкими спазмами. Посмотрев на руку Зофта с зажатой в ней большой гроздью винограда, она отвернулась к высокому окну, за которым уже легла плотная, ночная тьма.
— Нет. Что вам нужно?
Герх ждал именно этого. Отрицания и несогласия. Что поделать, у его сегодняшней избранницы был скверный характер, и она почему-то считала, что может вот так грубо и резко говорить с мужчинами. Вернувшись к Агне, он снова сел на кровать, и поднес к ее губам виноград.
— Ешьте.
— Нет.
— Ешьте! Я хочу посмотреть!
Агна плотно сжала губы и отвернулась, но Зофт, схватив девушку, силой заставил ее открыть рот.
— Ешьте, Агна. Или мне называть вас «Элис»? «Элисон Эшби, сестра почившего от вашей же руки Стивена Эшби, соратника самого Освальда Мосли»?
— Я — Агна Кельнер, герр Зофт. Никакой Элисон Эшби я не знаю.
— Ну, это мы еще посмотрим, фрау Кельнер. В нашей сегодняшней встрече обязательно настанет момент, когда вы откровенно расскажете обо всем, что знаете. Но пока вы ешьте, не стесняйтесь. Хотите штрудель? Или куриную грудку под соусом болоньезе? Вы знаете, Грубер ужасный вегетарианец, а мне это совершенно не нравится. Я люблю вкусную еду.
Агна доела ягоду винограда, и смахнула слезу, бежавшую вниз по щеке.
— Что вы хотите?
— Для начала я хочу, чтобы вы поели. Впереди долгая ночь, а я не допускаю мысли, что банальный голод прервет наше веселье в самый неподходящий момент. К тому же, на вечере вы ничего не ели, и даже не выпили шампанского, — только покрутили бокал в руках.
Зофт еще говорил, любуясь своим собственным напускным изяществом, а Эл, смотря на него, уже решила, что Агна Кельнер не станет ему перечить. Ей нужно выиграть время, и постараться узнать, где она и как отсюда можно выбраться. Ищет ли ее Фоули? А Эдвард? Он уже приехал? Что с ним?
— Вы правы, герр Зофт, я очень хочу есть. Но мне нужно привести себя в порядок и помыть руки перед едой.
Последнее замечание, такое детское и невинное, развеселило Герха.
— Я позволю вам это, но только потому, что я очень давно не слышал, чтобы кто-нибудь здесь беспокоился о чистоте своих рук.
Зофт расстегнул кольцо наручника на запястье Агны.
— Идите. Через гостиную по коридору, первая дверь справа. Если задумаете звать на помощь, знайте: мы с вами находимся на самом верхнем этаже громадного здания, в котором гремит праздник фрау Гиббельс. Вас никто не услышит.
Выслушав эсесовца, который в этот вечер был одет в черный смокинг с черным галстуком-бабочкой, Агна, зашипев от боли, растерла правое запястье и поднялась с кровати. Чувствуя на себе пристальный взгляд Зофта, она молча прошла мимо него, но на выходе из спальни, повернувшись, спросила:
— Вы планируете спать со мной?
Зофт уставился на Агну Кельнер самым потрясенным взглядом, какой только могли позволить себе его мертвые глаза.
— Вы удивляете меня все больше и больше, фрау Кельнер. Я впервые наблюдаю, чтобы женщина была столь прямолинейна. Отвечаю на ваш вопрос «да». Я бы очень этого хотел.
Сохраняя спокойный тон, Агна пояснила:
— В таком случае мне понадобиться больше времени, чтобы привести себя в порядок.
— Не смею вам мешать.
Девушка кивнула, и медленно направилась в ванную комнату.
Дверь негромко скрипнула за ее спиной, и Эл, схватившись за край ванной, зажала рот рукой, удерживая рыдания. Слезы быстро сбегали вниз по щекам. Так прошло около двух минут. Зофт наверняка скоро придет проверить ее, нужно спешить.
Подняв голову вверх, она рассмотрела небольшое витражное окно. Круглое, с позолоченным замком слева, выполненное из матового стекла, в обычных обстоятельствах оно вызвало бы у Эл восхищение. Но сейчас девушка, больше не теряя ни секунды, стянула чулки, чтобы не поскользнуться на бортике ванной, над которой располагалось окно, и, встав на край, попыталась открыть окно. Защелка не поддалась, и ночное небо с редкой россыпью далеких звезд, бывшее за границей окна, безмолвно наблюдало за тщетными попытками Элис. А кроме него рядом с ней никого и ничего не было, да и быть не могло. Скользнув пальцами по кафелю, которым была выложена ванная комната, Элис спустилась вниз, осмотрелась, и, схватив непонятно как оказавшиеся здесь щипцы для колки льда, вернулась в окну. Витражное стекло было толстым, чуть выгнутым наружу, и Элис, крепко сжав щипцы в руке, развернула их вершиной к окну и начала бить в центральную точку стекла. Первые минуты, как она и думала, ничего, кроме приглушенного шума и впустую скользящих по стеклу щипцов, не получалось.
Стоя на бортике ванной, Эл оглянулась в поисках другого оружия, и с высоты увидела то, что не заметила раньше: кочерга для камина!
«Включи воду, ты забыла!» — закричал внутренний голос, поторапливая ее. Раскрутив кран на раковине, Эл снова полезла наверх, с облегчением слушая, как вода бежит в раковину шумным потоком. Немного отклонившись в сторону, чтобы не пораниться, она дважды неловко ударила кочергой по той же точке в центре стекла, и заметила на своих руках кровь. Быстро осмотрев пальцы и ладони, Элис провела рукой по кочерге, и глухо вскрикнула: кровь была на сгибе, в том месте, где плавный угол переходил в острое окончание. Помедлив секунду, Эл снова начала бить в стекло, уже с удвоенной силой. За шумом воды она расслышала скрип половиц, и остановилась, тяжело дыша. Бархатное платье вдруг оказалось душным и ужасно тяжелым.
Чтобы сбить жар и румянец, выступивший на щеках, Элис расстегнула высокий ворот платья и сделала глубокий вдох: дышать стало немного легче. Помедлив несколько секунд, она снова начала бить в стекло. Небольшие цветные осколки, отскакивая в разные стороны, рикошетом разлетались по комнате. Эл чувствовала, что устала, но продолжала бить, бить и бить, не взирая на дрожь в теле, головокружение, духоту и влажность от воды, и… понимание того, что эта попытка вряд ли окажется успешной. Собственно, именно эта мысль, помноженная на страх, заставляла ее продолжать.
Вот крупный осколок, гораздо больше всех предыдущих, отскочил в сторону, и, ударившись о борт ванной, упал вниз с гулким звоном. Эл остановилась, посмотрела на небольшую выбоину в стекле, и начала бить в ее центр, надеясь, что так шансов будет больше. За шумом воды, поглощенная своим занятием, Элис не услышала Зофта. Навалившись на дверь, он без особых усилий открыл ее, и Эл заметила эсесовца только тогда, когда дверная ручка с хрустальным набалдашником, громко ударившись о стену, разбилась вдребезги.
— Может быть, вам нужна помощь?
Зофт зашел в ванную комнату, прислонился к краю раковины, и, переведя насмешливый взгляд с девушки на воду, стекающую в раковину, закрыл кран. Элис посмотрела на него через плечо, удерживая кочергу двумя руками.
— Вы думаете, это поможет? Бросьте, Агна, я же сказал: звать на помощь бесполезно. Как и пытаться выбраться отсюда. Вы, конечно, миниатюрная, но даже вам вряд ли удалось бы пролезть в это окно. А до него еще нужно дотянуться, забраться наверх… а за ним что? Пустота и высота. Это бесполезно! Пойдемте лучше со мной. Мы поужинаем, поговорим…
Зофт протянул девушке руку.
— Не подходите!
Агна крепче сжала в руках свое оружие, чем вызвала у Зофта смех.
— Поистине, этот вечер не будет скучным! Я, признаюсь, такого не ожидал… тут так давно не было занятных женщин, фрау Кельнер. А те, что приходили, очень скоро готовы сделать все, что я хочу. Ну же, пойдемте. Вы устали, здесь душно…
Агна отрицательно покачала головой, и Зофт, двигаясь все так же медленно, как и прежде, приблизился к ней вплотную.
Его бедро коснулось ступни Агны, выставленной на бортик ванной. Он улыбнулся, и рука эсесовца, коснувшись пальцев на ноге девушки, неторопливо стала подниматься вверх, скользя по гладкой, обнаженной коже. Подняв подол ее платья, Зофт замер, и, чуть дрогнувшей рукой прикоснулся к внутренней стороне бедра Агны. И получил удар по голове. Застонав, он зажал рану, но тут же посмотрел на руку, залитую кровью, и заорал:
— Тварь!
Вывернув из онемевших рук Агны кочергу, он отшвырнул ее в угол, и навел на девушку пистолет со взведенным курком.
— Я хотел по-хорошему, но ты сама все испортила.
Агна Кельнер, смотря на дуло пистолета огромными глазами, сухо сглотнула. И перевела взгляд вниз. Зофт так и не узнал, о чем она тогда подумала, но в следующую секунду, рискуя быть застреленной, девушка схватила руку Зофта, в которой был пистолет, и, сжав ее изо всех сил, подняла выше, вынуждая эсесовца сделать выстрел. Пуля пролетела мимо Агны и попала в окно. Звон разбитого стекла и холодный ночной ветер вызвали у Агны страшную улыбку, и Зофт, размахнувшись, ударил ее по лицу. Агна упала в ванную.
— Я рад, что ты уже начала раздеваться, — с таким скверным поведением медлить дольше действительно не имеет смысла.
Агна посмотрела на Зофта со дна пустой ванны, и захохотала, показывая в смехе рот и зубы, измазанные кровью. И плюнула ему в лицо. Это стало последней каплей. Схватив девушку, эсесовец сорвал с нее расстегнутое платье, вытащил из ванной и потащил за собой.
* * *
— Как она «пропала»?
Кельнер остановился перед Фоули и снова нервно зашагал из стороны в сторону, проходя мимо автомобилей, припаркованных в ряд у черного хода. Фрэнк, вздохнув, повторил то же, о чем рассказал Харри уже дважды. Но Кельнер, по убеждению Фоули, был в таком бешенстве, что не слышал его.
— Я уже сказал, что Агна… фрау Кельнер заметила среди гостей какого-то мужчину, и сказала мне «надо потанцевать». Потом…
Харри остановился, и глядя прямо перед собой, в ночную темноту, тихо сказал:
— Если с ней что-то случится, я убью тебя.
Кельнер перевел взгляд на Фоули, и тот вздрогнул.
— Я… не думал, что существует реальная угроза… — говоря все тише к концу фразы, прошептал Фрэнк. — Простите, Харри, я… не принял ваше предупреждение всерьез.
Кельнер остановился, посмотрел по сторонам и подошел к Фрэнку.
— Я осматриваю первый этаж, вы — второй. Встречаемся у входа на третий, возле лестничного марша.
Фоули кивнул и испуганно посмотрел на Харри, заметив в его руке вальтер.
— Зачем?..
Не ответив, Харри поднял голову вверх, втянул воздух в легкие, и как следопыт, поймавший попутный ветер, быстро пошел вперед.
Посмотрев ему вслед, Фрэнк несколько секунд помялся на месте, и решил пройти на второй этаж с черного хода. Осмотр первого этажа мало что дал. Праздник разошелся в полную силу, и это было на руку Харри: необходимость замедлять скорость или, того хуже, вести светские беседы, чтобы не привлекать ненужное внимание пьяных и шумных людей, отпала. Все двери на первом этаже, кроме тех, что вели в женскую и мужскую уборные, были надежно заперты.
Но Кельнер все равно их осмотрел, и убедился, что эти двери никто, по крайней мере так, чтобы это осталось явным, не трогал.
Конечно, можно было усложнить свою задачу, и предположить, что за одной из этих дверей — Эл и тот, кто ее забрал. Но внимательный осмотр женской уборной убедил Харри в первых предположениях: все произошло здесь. Гильза и несколько капель крови, найденные Кельнером на полу, питая самые худшие страхи Харри, погнали его дальше, на третий этаж. Фоули уже был там. При виде блондина он покачал головой, давая понять, что на втором этаже ничего и никого нет. Выглянув из дверей, ведущих ко входу на этаж, Харри внимательно осмотрелся. Никаких голосов, музыки или смеха… ничего. Жестом указав Фоули идти налево, сам Кельнер посмотрел направо.
— Встречаемся на галерее.
Харри указал дулом пистолета в потолок, и, беззвучно шагая, пошел осматривать этаж по выбранной стороне. За одной из дверей он услышал какую-то возню, и схватился за ручку.
Заперто.
Отойдя назад, Кельнер навалился на дверь, одновременно с силой прокручивая ручку вправо. Дверь открылась и скрипнула, заверяя Харри, что у нее для него ничего нет. Проверив комнаты, оформленные как гостиничный номер старого образца, Харри шел к выходу, когда снова услышал приглушенные голоса. Остановившись, он прислушался. Сомнений не осталось: далекие, заглушенные расстоянием и перекрытиями, это были именно голоса. Мужской, — частый, и, насколько мог судить Кельнер, громкий, — и женский, совсем редкий, после которого мужской звучал еще громче. Подняв голову вверх, Харри продолжал слушать. Тишина была очень долгой. И когда после нее Кельнер расслышал удары, а за ними — глухие стоны, он сорвался с места.
Витражное стекло осыпалось к его ногам неожиданно, когда он, снова разделившись с Фоули, подходил к главному входу на галерею. Фрэнк, если не струсит, должен подойти к галерее со стороны небольшого зимнего сада. Смахнув стеклянную крошку с волос и шеи, Харри остановился и снова стал слушать. Ничего кроме холодного ветра и ночной темноты. Ветер рванул сквозь разбитое стекло, играя на новой, ранее скрытой от него территории. Просыпав еще немного битого стекла на плитку, которой был выложен пол галереи, он стих и перестал мучить холодом человека с белыми волосами, плавно шагающего к входной двери.
— Стесняться поздно, Элисон Эшби! Следовало бы сначала допросить тебя, но, я думаю, не ошибусь, если поменяю пункты своего плана местами. Что-то подсказывает мне, что так ты станешь гораздо сговорчивее, и все расскажешь сама!
Несколько минут назад Эл снова попыталась выбраться из номера, и даже успела добежать до двери. Но та оказалась надежно заперта, и теперь Зофт медленно шел на девушку, толкая ее к кровати, и с вожделением наблюдая за тем, как ненастоящая Агна Кельнер, на которой из одежды осталось только нижнее белье, послушно отходит назад, — шаг за шагом, — тем самым в точности выполняя его план.
— Кровь и ссадины, конечно, мало тебе идут. Но ты же сама меня вынудила, правда?
Не отвечая, Агна продолжала отходить к кровати. Она смотрела вниз, и чуть в сторону, наблюдая за своими босыми ногами и за шагами Зофта, глухо стучащими по ковру каблуками высоких, черных сапог. Эсесовцы ходили именно в таких, Агна Кельнер давно это знала, — с первого допроса в гестапо. «Делай, что хочешь, но молчи об Элисон и Эдварде!» — напомнила она сама себе. Слезы в ее глазах застыли у границы нижних век, и остановились за ненужностью, — сегодня было слишком больно, много больше того, что может выйти в слезах. Все тело Эл болело и ныло, а от новой, недавней пощечины, ее захлестнуло такой волной боли, что Элис была уверена, — она больше не выдержит. После всех тщетных попыток побега Элис впала в глубокую, непроницаемую задумчивость. Голова работала слишком медленно, и Эл больше не могла придумать ничего, что помогло бы ей сбежать от Зофта. Все прежние попытки оказались напрасными, а за каждой из них следовала боль и удары, удары и боль… И теперь, отходя к кровати, Эл мысленно говорила себе, — а на самом деле прощалась с собой, — зная, что даже если каким-то образом она останется в живых, прежней она уже не будет.
«Ничего не говори ему о себе и об Эдварде. Будет очень больно, Эл, но постарайся выдержать… я знаю, тебе очень страшно, и теперь ты уже боишься новых ударов Зофта, но… что же делать, renardeau?.. Приходит время уходить и прощаться, Эл… приходиться прощаться. Я знаю, ты хотела быть с Эдвардом долго-долго, «пока смерть не разлучит вас», но что делать… я знаю, ты очень хотела родить от него ребенка, и на самом деле, в самой глубине сердца, верила, что слова Кайлы — правда, и ты беременна, беременна, беременна!… Ничего не говори Зофту. Ты — Агна Кельнер, на этом — все.
Когда станет слишком больно — плачь. Я все равно буду знать, что ты не сдалась и не предала. Может быть, renardeau, это и есть самое главное во всей жизни? Ты любила и была любима. Это великое счастье, и я очень рада, что ты его испытала. А ваш малыш… у меня нет слов, что утешат тебя. Как знать, может не всем нам суждено узнать желанное нами счастье, но всем суждено что-то свое?… Все почти закончилось, Эл. Сейчас он изнасилует тебя. Ты будешь сопротивляться, я знаю, — потому что для тебя это одно из самых страшных… но когда станет слишком больно и страшно, когда станет невыносимо… прошу тебя, renardeau, найди способ закончить свою жизнь сама. Не умирай от его руки, умоляю тебя… когда станет невыносимо, сделай, пожалуйста, все сама…».
Агна коснулась изножья кровати, повернула голову, посмотрела через плечо, и выпрямилась, застывая перед Зофтом. Этот последний толчок, после которого девушка упала на кровать, доставил ему особое, жгучее удовольствие. Шелковая ткань кремовой сорочки, которая пока была на ней, поднялась от движения, обнажая ноги Агны полностью, по всей длине. Постояв над ней, Зофт заулыбался, и сделал так, как много раз видел в своих мечтах: раздвинув ноги Агны, он поставил колено между ними, и, ведя рукой снизу вверх — от тонкой правой щиколотки до бедра, тягуче медленно опускался вниз, на Агну, поглощая ее собой. Он все делал очень медленно. Не только потому, что торопиться было некуда, но и потому, что помимо тела Агны Кельнер он хотел ее душу. А душа эта, отраженная в ее удивительных, темных-темных глазах, его не желала. Чтобы понять это, не нужно было обладать громадным умом, — достаточно было посмотреть на выражение лица Агны, и на то, с какой гримасой отвращения и ненависти она отвернулась от него.
— Смотри на меня, когда я буду тебя брать… я хочу видеть в твоих глазах отражение каждого своего движения, каждого…
Девушка посмотрела на Зофта, и он замолчал, в ожидании глядя на нее. Кровь и ссадины, конечно, подпортили ее внешний вид, но он все еще хотел ее. Хотел впиться в эти полные, разбитые губы долгим поцелуем, и пить, пить, пить ее кровь… Агна Кельнер остановила на лице Зофта долгий, немигающий взгляд, медленно коснулась его щеки, а когда он закрыл глаза, она, подняв пальцы выше, к виску, вонзила длинные ногти в его кожу, и резко повела руку вниз, оставляя на лице Герха три глубоких борозды, которые наполнялись и исходили кровью сразу же, следуя за движением ее пальцев. Он ударил ее наотмашь, так сильно, что голова Агны, как тряпичная, замоталась из стороны в сторону. А потом девушка, раскрыв разбитые губы, снова плюнула ему в лицо, и ожгла таким яростным взглядом, что в гневе Герх выхватил пистолет из-за спины, и направил его на грудь Агны Кельнер. Он хотел дать ей последний шанс, — она еще могла попросить у него прощение, и он не стал бы нажимать на курок… По меньшей мере потому, что в эту секунду он уже сам был на мушке: чей-то пистолет холодной сталью дышал в его затылок.
Тот, кто держал пистолет, молчал.
Герх хотел заговорить, зная, что это лучше всего отвлекает противника, и повернул голову, но на том конце, где рукоять вальтера четко лежала в руке, были иного мнения. И Зофт, придушенный воротом собственной рубашки, отлетел к стене. Немного, — правда, совсем непонятно, почему, — отпружинив от нее, он остановился, удерживаемый рукой того же человека.
— Харри Кельнер!
Зофт поплыл в лице своей мертвой, страшной улыбкой и задохнулся от череды прицельных ударов. Кельнер не тратил времени и сил на слова. Озверевший до степени абсолютного молчания, он молча избивал Зофта, не давая ему времени ни на отдых, ни на удар, ни на возможность выставить защиту или сказать хотя бы слово. Харри был в такой ярости, что наверняка забил бы Зофта до смерти, если бы не Фоули. Фрэнк попытался остановить Кельнера, но он отбросил его назад и продолжил избивать эсесовца, который уже почти потерял сознание.
— Харри, остановитесь! Нужно идти! Агне нужна помощь!
Второе имя Эл, которое он, как и настоящее, все это время шептал про себя, когда звал ее и спрашивал, где она может быть, постепенно отрезвило Кельнера. Сделав еще один удар в тело, лежащее перед ним на полу, Харри подошел к Агне, застывшей на кровати в том же положении, — с раскинутыми в стороны руками, — и задохнулся от того, что увидел.
От природы кожа Эл была светлой, и следы многочисленных ударов Зофта выделялись на ней особенно, невыносимо четко. Эдвард смотрел на изуродованную кожу Элис так долго и пристально, что глаза зарезало от боли. Его тяжелый взгляд, отметивший каждую рану Эл и каждую деталь, со стороны выглядел еще более жутко: немигающий, и яростный, он словно хотел забрать все, что видел перед собой, — каждую рану Элис, каждую пролитую каплю ее крови, каждое ее страдание и слезу. Эдвард задрожал и на несколько секунд закрыл глаза. По его лицу побежали слезы, но он снова стал смотреть на ссадины и кровоподтеки. Все запоминая, его звериный взгляд медленно поднимался по телу Элисон вверх, подробно, до последней детали фиксируя каждый след, оставленный Зофтом на ее теле, следуя от кончиков пальцев — до волос, вьющихся на концах мягкими, сияющими кольцами.
Рассудок Милна помутился, кровь бешеным потоком забилась в голове, в горле, во всем теле. Он чувствовал, как его повело в сторону, когда он заглянул в лицо Эл. Разбитые губы, кровь, распухшее от ударов лицо… страшнее всего были ее глаза. Темно-зеленые, в полумраке комнаты, окруженной давно наступившей в Берлине ночью, они показались Эдварду совершенно черными. В них не было слез. А высохшие следы тех, что были, оставили на щеках Эл тонкие, длинные дорожки. Смешанные с кровью на щеках и висках, они страшно выделялись на ее лице. Взгляд Эл был устремлен вверх, но глаза ее смотрели в недосягаемую никому другому даль, не обращая внимания на то, что происходит вокруг. Губы, сухие и чуть раскрытые, шептали что-то неслышное. Вернувшись в реальность, Кельнер подошел к жене. Обняв ее, он наклонился к самому лицу девушки, и зашептал:
— Агна! Агна! Это я, Харри!
Эл не реагировала, продолжая смотреть вверх.
— Агна, это Харри! Все хорошо, теперь все хорошо!
— Она не слышит вас, Харри… нужно уходить, — повторил Фрэнк громче, и отвел в сторону взгляд, полный боли и сочувствия.
Что-то остановило Фрэнка на полпути, и он, вернувшись взглядом к Кельнеру, потрясенно замолчал.
— В-в-вы…— начал он, и замолчал: горло свело внезапной судорогой. — Ваша рука!
Кельнер, не понимая, посмотрел на него, перевел взгляд ниже, и увидел, что его левая рука, неестественно выгнутая, повисла плетью вдоль тела. «Доломал… адреналин, один из гормонов стресса» — подумал Эдвард, и усмехнулся. Боли он не чувствовал, и если бы не слова Фоули, заметил бы перелом еще позже.
— Так бывает… — медленно проговорил Харри и замолчал.
Фоули попятился и, отвернувшись от Кельнера, направил пистолет на Зофта. Но Герх, чуть-чуть не забитый до смерти, давно не двигался и вряд ли нуждался сейчас в таком наблюдении.
Поправив волосы Агны, Харри кивнул, и, продолжая смотреть на нее, тихо сказал:
— Вы поможете мне, Фоули? Подождите меня с Агной в машине. Я закончу здесь, и скоро приду.
Харри поднялся с кровати, осмотрелся по сторонам, и, не найдя платье, в котором была Агна, бережно завернул ее в покрывало, взял на руки и пошел к выходу через галерею. О том, как он все это делал с обвисшей, сломанной рукой, Фоули не хотел даже думать. С сожалением отведя от Зофта пистолет, Фрэнк последовал за Кельнером. Они спустились вниз молча, по широким ступеням изящно витой, мраморной лестницы, которая располагалась недалеко от того места возле черного хода, где были припаркованы обе машины Кельнеров: «Хорьх», на котором приехал Харри и Opel Kadett, который привез сюда Фоули и Агну.
Дождавшись Фрэнка, Харри передал ему Агну, и, подогнав «Хорьх» к подъездной дороге, вернулся к ним. Агна снова была с ним, у него на руках. Бережно поцеловав ее, он и Фрэнк вернулись к автомобилю. Следуя молчаливой просьбе Харри, Фоули сел на заднее сидение.
— Сидите тихо и ждите меня. Я скоро.
С этими словами он положил девушку рядом с Фрэнком, снял пальто, укрыл им Агну, и, тихо закрыв дверь «Хорьха», побежал к лестнице.
Оставшись с Агной, первые минуты Фрэнк сидел молча, почти не двигаясь. Судя по звукам, доносившимся из особняка, несколько лет назад построенного Шпеером, веселье было в самом разгаре. Сглотнув, Фоули не сразу решился посмотреть на девушку. Но все-таки сделал это. И от прямого взгляда, устремленного на нее, его желудок скрутило спазмами. Она молчала, по-прежнему пребывая в своем невидимом мире, и Фоули, который впервые за все это время осмелился посмотреть в ее глаза, заплакал.
* * *
Убийство Герхарда Зофта не заняло у Кельнера много времени. Вернувшись, Харри обошел гостиничный номер, внимательно осмотрел каждую из трех комнат, забрал платье Агны, брошенное на пол в коридоре, задержался взглядом на крови, которая была в ванной комнате повсюду, и пробитом пулей стекле витражного окна, и подошел к эсесовцу. Теперь понять, что это был сотрудник элитного подразделения, некогда основанного Гиллером, было очень сложно или почти невозможно. Ничто из того, что раньше было лицом Герха, больше его не напоминало. Каким-то образом из кровавого месива засветились глаза Зофта. Они долго изучали Кельнера и откровенно смеялись над ним, над его искаженным болью и ненавистью лицом.
— Вам не ск… скрыться, Кельнер. Ваш дом уже обыскали, у меня есть все доказательства того, что вы ш-ш-ш-ш… — зашелестел Зофт, то сплевывая на ковер, то сглатывая собственную кровь, перемешанную со слюной.
Приподняв голову эсесовца за волосы, Харри уточнил:
— Где доказательства?
Глаза Герха, почти полностью заплывшие, опять засмеялись. Уронив голову на ковер, он попробовал пошевелиться.
— Эрих Хайде был п-п-прав… я ему долго не верил… д-д-дурак… думал, он следит за мной, а он следил за вами… только у него ничего, кроме п-п-п…подозрений, а я все нашел! Но он п-п-п… привел меня к твоей жене, и я убил его, когда он выполнил свою роль.
Голова Зофта дернулась вверх. Не сумев удержать взгляд, он посмотрел прямо, на картину Дюрера.
— «Венецианская девушка»… как тебе, Кельнер? Вывезена прямо из Вены, из одного д-д-дома... — Эсесовец замолчал, собираясь с силами. — Но ты смотри, смотри… твою я…
Оставив Зофта, Харри подошел к знаменитой картине Альбрехта Дюрера. На первый, очень беглый взгляд, перед ним был оригинал. Прикрепленный к стене правой гранью рамы, он открылся перед Кельнером как перевернутая книга, слева направо. За бархатно-черным основанием рамы оказался сейф с кодовым замком. Не теряя времени на тщетные попытки подобрать комбинацию, Харри вернулся к Зофту.
— Код? — присев перед ним, уточнил Кельнер.
Зофт улыбнулся кровавой усмешкой, которая, правда, теперь уже не доставляла ему удовольствия потому, что это была не усмешка Агны Кельнер, а его собственная.
— Ты будешь долго гадать… ты можешь бить меня, и я скажу тебе, но где гарантия, что это будет верно? А стимула говорить правду у меня нет, ведь т-т-ы не выпустишь меня… по глазам вижу… не выпустишь…— шептал эсесовец. — А пока так… твоя сука сдохнет и вас найдут.
Кельнер выпрямился и посмотрел на Зофта сверху вниз. В одном эсесовец был прав: если Харри будет спрашивать его, то наверняка провозится слишком долго, а времени у него нет. Задумавшись, Кельнер оглянулся на сейф. Его мозг, взбудораженный всем происходящим, работал как безумный, и какое-то предчувствие, которое пока он не мог распознать, снова и снова напоминало о себе… «здесь все может быть либо очень сложно, либо очень легко, до абсурда… до абсурда!», — подумал Харри, отчего-то вспоминая историю о том, как Гиллер, бредивший тем, чтобы его «элитные» войска СС состояли только лишь из атлетически сложенных блондинов с голубыми глазами, увидев как-то на улице подобного мужчину, который был абсолютным воплощением грезы близорукого и мелкого Генриха, потребовал остановить машину и привести объект своих мечтаний к нему. Мужчину привели, опросили, отметили. Затем, воплощая мечту Гиллера, сделали эсесовцем без каких-либо проверок и экзаменов, а затем… — тут Харри всегда смеялся, вспоминая об этом, — оказалось, причем очень скоро, что новый образцовый воин великой Германии, — никто иной, как сутенер и преступник, ранее судимый за изнасилования.
Посмотрев на сейф, Харри перевел взгляд на Зофта, и, улыбнувшись ему, шепнул:
— Смотри.
Сейф открылся с первого раза, с готовностью показывая Кельнеру все, что в нем было: папки с личными делами Агны и Харри Кельнер, которые велись с 15 февраля 1933 года, — дня их свадьбы и первого дня в Берлине, фотографии, свидетельствовавшие о том, что за Агной долго и подробно следили, отчеты о местонахождении и действиях фрау Кельнер… Быстро просмотрев дела, Харри захлопнул папки, забрав все, что было в сейфе. Повернув картину Дюрера к стене, Кельнер снова подошел к Зофту.
— Ну, что скажешь, Герхард Пауль Зофт, неудавшийся страховой агент и сотрудник гестапо?
— Не думал, что догадаешься…
— Это было несложно, Зофт. В своем поклонении уродству вы и сами стали изрядными уродами. Но сделать день рождения Грубера кодом для сейфа…
Зофт облизал губы.
— Мои псы все равно вас найдут, найдут везде, куда бы вы не сбежали…
Харри, улыбаясь, согласился.
— Я давно знаю, что вы охотитесь за своими врагами далеко за пределами Германии. Буду иметь ввиду.
Став серьезным, Кельнер сказал:
— За каждое страдание моей жены.
Пуля, выскочив из пистолета, разворотила висок Зофта и, прошив его голову насквозь, вышла с другой стороны черепа Герхарда Пауля. Сотрудник тайной полиции, бравый эсесовец, умер мгновенно, уставившись своими оловянными, раскрытыми глазами в высокий белый потолок гостиничного номера. Тщательно протерев «Вальтер», Харри вложил его в раскрытую руку Зофта, еще раз убедился, что Герх мертв, и, взяв документы, вышел прежней тропой, — через галерею.
* * *
— К-к-куда вы теперь? — испуганный новостью о том, что тело мертвого Зофта осталось в номере, а за Агной и Харри ведется охота, спросил Фоули.
Кельнер пожал плечами и поднес к губам Агны фляжку с водой. Сделав пару глотков, она посмотрела на мужа и закрыла глаза. Погладив девушку по волосам, Харри наклонился и поцеловал ее.
— Спасибо за помощь, Фрэнк. Вы мне очень помогли, — тихо сказал Харри, задумчиво осматривая пустую загородную трассу, на обочине которой был припаркован «Хорьх», а за ним — «Опель».
— Берите «Опель». Он абсолютно новый, мы только недавно купили его для Агны.
Кельнер снова замолчал, и тихо сказал после долгой паузы, глядя на жену.
— Я знаю, вы ее любите.
— Я…
— Поэтому я и просил вас быть с ней на вечере. Спасибо, что берегли Агну.
— Плохо, плохо берег! — закричал Фрэнк, ударяя рукой по рулю.
Успокоившись, он спросил:
— Могу я еще вам помочь?
Харри отрицательно покачал головой.
— Возвращайтесь в Берлин и живите как обычно. Но будьте аккуратны: ваше общение с нами могут раскрыть, если уже не раскрыли, и… прошу вас, помогите Кете.
Фоули кивнул.
— Я знаю, как отвязаться от них, Харри. Я — разведчик. — Фрэнк посмотрел на Кельнера в зеркало заднего вида. — Ми-6.
Горькая, кривая усмешка показалась на усталом лице Кельнера. Коротко взглянув на Фоули, он снова обратился взглядом к лицу Агны, продолжая гладить ее мягкие, мягкие волосы.
— Прощайте, Фрэнк.
Фоули вздрогнул. Резко повернувшись к Кельнеру и Агне, он посмотрел на девушку.
— Я никогда, ни за что не причинил бы ей вред! Если бы я знал, если бы я только знал!
В машине снова повисла долгая пауза.
— Я знаю, что не имею этого права… но вы могли бы сообщить мне о состоянии Агны?
— Да.
— Благодарю.
Помедлив, Фрэнк резко открыл дверь «Хорьха» и почти выбежал из автомобиля. Он долго стоял возле «Опеля» даже после того, как Харри Кельнер, со всеми возможными удобствами устроив на заднем сидении Агну, пересел на место водителя, развернул машину и повел ее к выезду из Берлина.
* * *
— Вашей супруге нужен хороший уход, мсье Бенуа. Я рекомендую оставить ее в нашей больнице на неделю.
Главный врач парижской клиники «Отель-Дье» посмотрел на высокого блондина, молчаливо застывшего у окна, и задал тот вопрос, который терзал его уже несколько дней. — Почему вы так сильно затянули с визитом к врачу? Я не имею ввиду, что вы должны были привезти ее именно к нам, хотя наша клиника является старейшей во всей Франции, но… полученные ушибы и гематомы, трещины в ребрах… — доктор Фабр надул щеки, — в конце концов, беременность, — это вам не шутки!
— Уверяю вас, доктор, я приехал сюда так быстро, как только…
Последняя фраза Фабра, пробившись сквозь мрачную задумчивость мсье Бенуа, наконец-то дошла до него.
— Какая беременность? Что вы сказали?
Старый седой доктор, который выглядел так, будто работал в этой больнице с первого дня ее основания в тысяча шестьсот пятьдесят первом году, сочувственно хмыкнул.
Он не знал об этом Бенуа ничего, — кроме тех скупых сведений, что тот сам решил о себе сообщить, — но почему-то, по совершенно необъяснимой причине, каждый раз, смотря на него, доктор Франсуа Фабр очень сочувствовал ему. Блондин оглянулся на врача, врезая в его морщинистое лицо требовательный взгляд голубых, острых глаз, и отошел от окна, немного задев на повороте стекло левой рукой. Это не было неуклюжестью, но лишь подтверждало давние наблюдения Фабра: в первые дни после получения серьезных травм или, — как в случае Бенуа, — наложения гипса на сломанную руку, пациенты, несмотря на испытываемые ими боль и неудобства, часто забывают о травме и продолжают двигаться так же, как раньше. Отсюда — разбитая посуда, ушибы и прочие, не слишком приятные, ситуации.
— Ваша жена, мсье Бенуа, — Фабр развел руками, — беременна. Самый ранний срок. Опасность для ребенка была, но, к счастью, миновала...
Блондин выбежал из кабинета главного врача и сбежал по лестнице вниз. Едва не сбив по пути двух медсестер, и дополнительно прибив о косяк руку в гипсе, которую, как подтвердили здесь, в «Отель-Дьё», он все-таки доломал до конца тогда, когда избивал Зофта, Бенуа, покачиваясь и задыхаясь, остановился на пороге палаты, в которой лежала Эл. От звука распахнутой двери, ударившейся о стену, она проснулась, и, медленно поворачивая голову, посмотрела по сторонам. Заметив Эдварда, Элис улыбнулась и тут же поморщилась от боли.
— Доброе… — начала она и остановилась, — не знаю, сколько сейчас времени? Утро или день?
Эд зашел в палату, плотно закрыл за собою дверь, и подошел к Элис.
— Почти полдень, renardeau, — шепнул он, рассматривая ее лицо.
От ласкового слова, которым Эдвард называл ее, на глаза Элис выступили слезы. Она отвернулась к окну.
— Что такое? Где болит?
— Я… думала, что больше не услышу это, — с трудом проговорила она, — я думала…
Милн обошел кровать, и сел в кресло, в котором проводил все ночи, пока Элис была в больнице.
Наклонившись к ней близко-близко, он прошептал дрогнувшим голосом:
— Услышишь, Эл. Еще много-много раз.
Из глаз Элис снова побежали слезы. Милн бережно стер их кончиками пальцев и улыбнулся.
— У меня для тебя новость, Элисон Эшби.
— Какая?
— У нас будет ребенок. — Милн замолчал, пробуя слова, словно сам не верил в то, что сейчас говорил. — Ты беременна, Эл. Доктор только что сказал мне.
— Но… — начала Элисон, и тут в ее памяти возникли слова Кайлы: «вот увидите, я права!», — …это правда?
Милн кивнул.
— Разве ты не знала?
Элис усмехнулась.
— Прости… так глупо! Кайла сказала мне о том, что я беременна в тот вечер, когда… когда… ты провожал их, а я поехала с Фоули на тот вечер.
Эл закрыла глаза и сделала глубокий вдох, отгоняя страшные, на мгновение мелькнувшие в памяти, воспоминания о Зофте.
— Но я не поверила ей, я… запретила себе думать о том, что… боже…
Закрыв лицо ладонями, Элис заплакала.
— Тише, тише, моя любовь. Все хорошо. У нас будет ребенок, мальчик или девочка… все хорошо.
Эл обняла Милна и долго молчала.
— Я сама хотела сказать тебе… когда бы я убедилась, я сказала бы тебе сама.
— Скажи, Эл, — почти беззвучно, севшим голосом шепнул Милн. — Скажи сама.
Набрав в грудь воздуха, Элис произнесла:
— Эдвард, я беременна. У нас будет ребенок.
От этих слов она задрожала, и Милн обнял Эл еще крепче. Плавно раскачивая, он стал утешать боль Элис, их общую, большую боль.
Очень долго они молчали, привыкая к громадной перемене в их общей жизни.
— Ты рад?
Эл посмотрела в глаза Эдварда.
— Как никто, — хрипло сказал он, нежно целуя ее щеки, глаза, разбитые губы, углы губ, курносый кончик носа и след на левом виске, когда-то оставленный пулей Стивена Эшби.
* * *
— «Мсье Бенуа»? — спросила Эл, осторожно улыбаясь. Она взяла Эдварда под руку, и, положив на его плечо левую руку, прижалась к нему и сделала небольшой, еще не слишком уверенный шаг.
Сегодня, после пяти дней в одиночной, замкнутой палате, ей наконец-то разрешили ненадолго выйти на воздух. Эдвард, выполняя требование врача, настаивал на том, чтобы провезти Эл по галерее и саду больницы в инвалидном кресле, но она, молча посмотрев на его загипсованную руку, лишь приподняла бровь, молча спрашивая, как он планирует осуществить этот причудливый вояж? В конце концов, на них махнули руками и отпустили гулять так, — медленными фигурами по парковым аллеям и переходам.
— Это девичья фамилия моей мамы, — тихо сказал Милн, разглядывая яркое, синее небо в белых облаках. — Она не связана с разведкой и моими прошлыми заданиями… может быть, даже сам Баве ее не знает…
— Твоя мама… — зачарованно произнесла Эл. — Ты никогда не говорил о ней. Как ее зовут?
Эдвард остановился и замолчал, глядя себе под ноги. Все эти дни он держался как мог, но, не переставая вспоминать рассказанное Эл о том вечере, приходил в такое бешенство, что сдерживаться становилось все сложнее. Вот и сейчас от простого вопроса Элис его память пронзил яркий, солнечный день. Дядя, сообщивший о гибели родителей… загородная дорога — вся в крови, как светлые волосы его мамы… Произнести ее имя вслух не получалось. Из раскрытого рта Эдварда вылетала только немота. И земля под ногами перестала быть твердой. На миг ему показалось, что он — все тот же, — нескладный мальчишка со слишком длинными руками и ногами, застывший в тишине пустой дороги. Он все знает, но боится думать об этом. «Травмы, несовместимые с жизнью» — так говорят врачи о его погибших родителях. Так он сам говорил о каком-нибудь очередном случае, когда учился в Гайдельберге на медицинском, — целую жизнь и вечность назад. Но он смог. Смог совместить свои травмы с жизнью… тогда почему сейчас так больно? Так невыносимо, ужасно больно?... И Эл, испытавшая всего несколько дней назад весь этот ужас, вздрагивающая по ночам от любого шороха, и бормочущая во сне одну и ту же фразу, — «Харри, я была против, я была против…», — смотрит на него сейчас своими небесными глазами, гладит по волосам и называет по имени.
— Мадлен, — еле шепчет он и замолкает: Эдвард Милн и так сказал уже слишком много.
Так нельзя, не нужно. Это никому не интересно, и ты должен быть сильным… ты должен молчать! Но вот с ним, сильным, сейчас что-то случилось, и, обнимая Элис до боли, он плачет.
* * *
В больнице «Отель-Дье» они пробыли еще два дня. И все это время Элис и Эдвард говорили. С краткими, раздражающими Эл перерывами на лечение, сон и еду.
А еще больше они молчали. Эдвард рассказал Элис о родителях, — Мадлен и Элтоне Милн. Рассказал скупо, потому что был уверен, что все это ей тоже не нужно, как не было нужно никому и никогда до нее.
Но Эдвард ошибся.
Элис был нужен он. Весь он, со всей его громадной, кровоточащей болью. Эл не испугалась и не убежала от нее: только внимательно слушала, много плакала, и задавала редкие вопросы, слова для которых подбирала очень долго, — чтобы не ранить Эдварда еще больше. Эд был ошеломлен и долго не верил в происходящее с ним. Все это внимание и тепло, вся эта невыразимая нежность, от которой становится только больнее, все эти слезы о его боли — для него? Он нужен? Он важен? Эдвард даже спросил об этом Эл, уже не боясь показаться самым глупым на свете. Элис улыбнулась, обняла его и сказала очень просто:
— Я люблю тебя.
* * *
— Я не могу, не могу отпустить вас из разведки! Это немыслимо! — бушевал Рид Баве в своем лондонском кабинете в Форрин-офис.
Пройдясь по кабинету еще пару раз, он повернулся к Милну и сказал, что тот сошел с ума.
— Будет война! Вы понимаете, как вы нам нужны?!
Эдвард проводил взглядом взбесившегося начальника, который отказался подписывать их заявления об увольнении, и повторил:
— Вы можете не подписывать заявления и не принять наши отставки, но это ничего не меняет. Я и Элисон уходим из разведки.
— Нет! Подумайте еще раз, снова! — орал Баве, не смущая себя в громкости.
— Уже.
Милн поднялся со стула и пошел к двери.
— Неужели вам наплевать на судьбу своей страны?! — обратился Баве к нерушимому аргументу.
— Нет. Вернуться в Германию мы не можем, вы это знаете. И своей стране, как вы выразились, мы поможем здесь, в Лондоне, если возникнет такая необходимость. А сейчас, — Милн всерьез намеревался уйти, даже взялся за дверную ручку, — я нужен своей жене. Она и так отдала слишком много для проверки вашей гипотезы о том, как хорошо сработает Агна Кельнер в роли приманки.
— Но это сработало! И она вам не жена! — возразил Баве.
— И правда.
Милн улыбнулся, и это взбесило генерала еще больше. Не в силах больше вести с ним пустые перепалки, Баве махнул рукой, приказывая ему покинуть свой кабинет.
* * *
Выйдя от Баве, Милн свернул к магазину. Пробыл он там недолго, всего около семи минут, и только потому, что перед ним было несколько покупателей. Дальше его путь лежал на Клот-Фейр-стрит, — в двухэтажную квартиру, которой владела Элисон Эшби. Эти апартаменты казались ему не слишком подходящими для мелкого Милна, который, конечно, еще не родился, но которого он с нетерпением ждал. Эл была в этом отношении более сдержанна, и не раз, после очередного приступа токсикоза, говорила ему, что если бы все эти прелести происходили с ним, он бы вряд ли радовался как мальчишка встрече с… мальчишкой. Правда, после этих слов на лице Элис расцветала улыбка, так что вся ее грозность тут же терялась.
— Что сказал Баве? — Эл не без оснований думала, что генерал не примет их отставку.
— Сказал, что нужно кое-что исправить. Но я это знал и без него, просто ждал подходящего момента, — ответил Эд с улыбкой.
— Что исправить? Снова Берлин? Это невозможно!
Элис со страхом посмотрела на Милна.
— Нет, не Берлин, — с лукавой улыбкой ответил Эдвард, вытаскивая из кармана свою покупку и задерживая ее в руке. — Лондон. В новом качестве.
— Ничего не понимаю, Эд! Говори точнее!
Милн выпрямил и без того прямую спину, расправил плечи и посмотрел на Элис сверху вниз. Глаза его светились шуткой и теплом. Не сумев выдержать до конца мистическую паузу, он протянул Эл в едва дрожащих пальцах раскрытый черный футляр.
— Элисон Эшби, ты выйдешь за меня?
От удивления ее зеленые глаза стали еще больше. Взглянув на кольцо, выполненное в ее любимом стиле ар-деко, Элис посмотрела на Милна.
— Эдвард Милн, я замужем за тобой с тысяча девятьсот тридцать третьего года!
Эл улыбнулась, поднялась на носки, и поцеловала Эдварда в щеку.
— Да. Конечно, да.
Этой же ночью, когда Эл уже спала, из передатчика, который Эдвард «забыл» отдать в Форрин-офис, в Берлин, по закрытому каналу связи, улетела краткая шифровка, которая гласила, что с Элисон Эшби все хорошо. Фоули, который толком не спал уже бог знает какую ночь, принял сообщение, и уставился на лист с расшифровкой удивленными, измученными бессонницей, глазами. До его мозга, пропитанного кофе и сигаретами, смысл послания доходил довольно долго. Но в этом его вряд ли можно было строго судить. В конце концов, он не знал никакой «Элисон Эшби».
— Фрэнк, ты дурак, — спокойно констатировал Фоули через несколько минут, когда ему наконец-то стал понятен смысл фразы. — Но все хорошо.
И все действительно было хорошо. Несмотря на то, что Берлин пока продолжал оставаться нацистским. Фоули работал в английском консульстве до окончания войны, и помог, — помня о Мариусе, Кайле и Дану, — многим евреям избежать смерти и концлагерей. В этом немалую роль сыграла Кете Розенхайм. Несколько раз она, сопровождая детей по программе «Киндертранспорт», — которая первого сентября тысяча девятьсот тридцать девятого года еще действовала, — могла спастись и остаться в Великобритании. Но Кете снова и снова возвращалась в Берлин, и вместе с мамой бежала из него только тогда, когда ей самой грозила явная смертельная опасность.
Ханна Томас, чья семейная жизнь не удалась, развелась с мужем, и снова стала фройляйн Ланг. Работу в больнице лагеря Дахау она оставила в тот же день, в который Харри Кельнер забрал Дану Кац. Что стало с Ханной дальше — неизвестно. Следы ее то терялись, то снова появлялись то в Германии, то в Австрии. Ходили слухи, что после развода, чрезвычайно отчего-то печальная, она выглядела особенно прекрасной, и снискала еще больший, нежели прежде, успех у настоящих арийцев.
Мариус, Кайла и Дану Кац благополучно добрались до Ливерпуля. Дверь двухэтажного уютного дома им открыла Кэтлин Финн.
И если из загадочной фразы, которую Агна Кельнер попросила Кайлу передать ей на словах, сами путешественники ничего не поняли, то ее тетя услышала в этих словах просьбу позаботиться о гостях. Так Кэтлин, которая уже очень давно не получала от своей племянницы никаких новостей, узнала, что она жива и с ней все в порядке. Расплакавшись, она пригласила гостей в дом. И в скором времени он снова стал живым и настоящим: в нем теперь жила большая семья с двумя детьми, — четырнадцатилетним Мариусом и маленькой Майей, которая родилась в феврале тридцать девятого года.
Что касается разоблачения Харри и Агны Кельнер, устроенного Герхардом Зофтом, то без Герха, чье тело обнаружили в гостиничном номере только на вторые сутки после большого праздника, оно рассыпалось, и, столкнувшись с разграбленным домом Агны и Харри, — уже вторым по счету, — перешло в слухи о гибели супругов Кельнер.
И пусть тела их не были найдены, но дом-то был разграблен и разрушен точно, а значит, уверяли друг друга клиентки модного дома фрау Гиббельс, супругов Кельнер постигла та же участь. Тем более, что в мастерстве гестапо прятать трупы неугодных людей никто не сомневался.

|
Anna Schneiderавтор
|
|
|
h_charrington
Показать полностью
Часть 1. Здравствуйте! Если узнавая историю отношений Ханны и Харри, я еще порой испытывала к ней сочувствие, то поступок Ханны в предыдущей главе, когда она прилюдно начала бить Эл по ее бездетности, напрочь перечеркнул всякое мало-мальски доброе (?) чувство к ней. Знаете, у меня никогда не было очарования Ханной. Даже тогда, когда я была в начале работы над текстом, и было несколько вариантов для нее, и иногда я сама не понимала: а куда ее заведет? Многие, читая, отмечают именно тот момент сочувствия: вот же, Ханна протянула платок. Да. Но... так много этих "но" и до, и после платка! И внутренне у меня это ощущение преграды не проходило в отношении Ланг. Потому что она не просто ревнует (с кем не бывало?), она готова уничтожить Агну. Все вывернуть, все извратить, изгадить, подменить. Она надрывно орет Харри о том, что любит его, но это не так. Может, в ее понимании это и "любовь"... но истинная любовь, даже не получая ответа и сгорая в безумстве и горечи, не допустит зла в отношении того, кого любят. И той, "другой", которую, в этом случае, любит сам Кельнер. Вот эта душевная низость, развращенность и распущенность, грязь, выросшая на крови и пропаганде с трибун о "расе господ"... Это так омерзительно. Это останавливает меня от всякого сочувствия к Ханне. Хотя, да, — она подала платок. И тем ужаснее то, что сделалось (по ее собственному допущению, в первую очередь) с ее же душой. Она способна чувствовать. И чувствовать глубоко. И, думаю, была способна на любовь. А вышло это все вот такой мерзостью. Это уже далеко за границами ревности и зависти. Это мнение о том, что Ханне все можно. И она, чем дальше, тем больше это видно, может не остановиться ни перед чем. Собственно, о Кельнере, которого, по ее словам, она так любит, Ланг думает меньше всего. И эта беспринципная вседозволенность, как черта времени, очень пугает. Сама выбрала встать на колени, приветствуя то ли идола-фюрера, то ли идола-возлюбленного, которым обоим, как оказалось, нет до нее дела. А она и себя в грязи изваляла, и своего жениха, и там, где она надеялась выказать почтение и раболепное служение, попросту вскрылся позор и вся ее низость. Но Эл верно говорит после приступа смеха: страшно. Страшно это все. Вот мы видели ужасы Хрустальной ночи, а что в это время происходит с "благонадежными" гражданами? Они сами себя изваляли в грязи. Во всех тех случаях, когда они позволяют себе судить о представителях других наций как о второсортных, когда превозносят свою "арийскую" расу, когда морщат носы, что беспорядки заставили их изменить маршрут до работы, когда сетуют, что не могут больше закупать ткани по выгодной цене, когда утопают в роскоши, награбленной у тысяч обездоленных людей и выбирают - изо дня в день - не замечать кошмара вокруг. Поэтому фигура Ханны в финале свадьбы вся исполнена символизма. В Ханне, очевидно, собраны все те немки, которые "понятия не имели, что происходит", ну как же, и искренне радовались переменам в жизни. Но при этом нам вовремя напоминают, что Ханна, между прочим так, работает в концлагере. Она даже не может в полной мере быть той, которая "ничего не видит, ничего не слышит". Она никак не "жертва режима", а его прямое орудие. Как вы правы! Я согласна с Элис: это безумно страшно. Наблюдать все это, быть внутри такого "общества". А сколько копий сломано о тезисы "как немцы, такая просвещенная нация, дошли до такого"? Вопрос открыт. У нас И СЕЙЧАС нет ответа. Поразительно и то, что война, вроде как, окончилась, а никто ни за что не ответил. Меня беспредельно изумляет то, что эти твари рукопожатны в мире! Я просто не нахожу для этого слов. И они нам говорят о культуре? Знаем мы вашу культуру с примесью "Циклона-Б". Это не перестает меня поражать. И все эти фразы про "не знали", "нас использовали"... такая ересь! Кого они хотят обмануть? Рекомендуют себя немецким качество и "порядком"? Ну так и в лагерях был порядок: печи работали, "люди" ходили на работу, зондеркоманды исправно, каждый день, исполняли свои "обязанности"... Я в такой растерянности. Это как дверь в ад. Начинаешь думать об этом, и не можешь ни понять, ни осмыслить. Ну как такое было возможно? И, что не менее важно, как "потом" все стало внешне опять нормально, без лагерей? Я не думала над тем, является ли Ханна каким-то собирательным образом. Она так рвалась в текст, она не ушла даже тогда, когда я думала, что история будет с ней прощаться. Она смогла вытянуть до конца. И никакая она, конечно, не жертва. Она тварь. Красивая на лицо, абсолютно безжалостная ко всему человеческому. Не только к Агне, как к "сопернице", но к самому средоточию морали и человечности. И я даже думать не хочу о том, что Ханну сделало такой. Да, ее жизнь счастливой не назовешь. Но она сама, как и каждый из ее единомышленников, свернула на эту дорогу. И таким — память, чтобы помнить, и вечный, вечный позор и презрение. И сейчас я думаю еще и о том, что, имей она власть над Харри, она бы и перед прямым издевательством над ним не остановилась. Сломать душу человека, низвести его до состоянию твари, — это ее сторона. Ни о какой любви речи здесь нет. Но мысли о том, как "люди" могли жить и "не знать", меня не оставляют. Невозможно было не знать. Но "не знать" было удобно. Или они просто, тупо, выбрали то, на что им указали. И завыли только тогда, когда германские города стали рушится под ударами с воздуха. А бравый Геринг со своим "Люфтваффе" ничего не смог сделать. Они были уверены в своей силе, в своей победе (как будто кто-то на них нападал) и просто встали на сторону "сильного". А потом, к маю 1945-го завыли. И стояли в очереди за супом, который им раздавали на полевых кухнях наши, советские люди, наши солдаты. 1 |
|
|
Anna Schneiderавтор
|
|
|
h_charrington
Показать полностью
Часть 2. Надрывная надежда Эл и Эда найти Кайлу, Дану и Мариуса рвала сердце. Рассудок отметает всякий шанс, что даже если они живы, то их можно найти, но дело в том, что если прекратить поиски, это будет ведь как предательство. Надо искать, потому что так велит совесть. Надо не опускать рук, потому что иначе никак. Иначе чем они будут отличаться от тех, чья жизнь вошла в свою колею, как будто и не было ночных погромов, убийств и насилий? Да. Искать негде, и, кажется, бесполезно. А не искать — еще страшнее. Потому что это может значить ровно то, о чем писала Эл в своих "записках" к Стиву, в самом начале: она, Элис, стала как они. А это — все. Крышка гроба. Без преувеличений и пафоса. И дальше идти некуда. Вот это — самое страшное. Не смерть в войне, от руки нациста, а это предательство и переход на их сторону. Неужели это правда Кайла? Вряд ли Элис бы настолько размечталась, да еще в такой тревожный момент, под глазом Зофта, чтобы нафантазирвоать себе воплощение мечты. Кайла жива... а что ее ребенок? А муж?.. Дай Бог, их встрече ничто не помешает! Не люблю забегать вперед, но да, это правда Кайла. И я безумно рада, что линии этих, таких важных в "Черном солнце" героев, не оборвались в погромах. Агне в этих главах приходилось худо, но с каким достоинством она выстояла! И перед шакальими укусами Ханны, и перед тигриными ухватами Зофта. Им даже известно про Стивена... вот это страшно. Потому что проблема не в том, как упорно Эл и Эду удастся держать лицо на их вопросы что с подвохом, что в лоб, а в том, что в Третьем Рейхе не работает призумция невиновности, и что им стоит забрать их в Гестапо и сделать все, что захотят, просто "ради проверки"? Разве Зофту и тем, кто за ним стоит, так уж нужно чистосердечное признание Эл, что она убила Стивена, чтобы обвинить ее в этом? Но пока он медлит и даже вроде сбит с толку ее выдержкой. Как она посмотрела на него! КАк она держалась! Неимоверно горжусь ею. И Эдом, который успел найти важные бумаги. Спасибо вам! Да, от той юной, в начале истории, Эли и Агны многое осталось. Осталась такая важная доброта и трепетность, неуспокоенность сердца. А вместе с тем появилась и сила, которая теперь позволяет Эл выдерживать и такие встречи: с Ханной, с Зофтом. И хотя закалка эта стоила Эл очень и очень дорога, эта ее стойкость чрезвычайно важна. Эл не просто красивая девочка, в которую когда-то с первого взгляда влюбился Эд. Она теперь та, кто способен не просто держать удар, но и отвечать противнику. Она не подведет Эдварда. Такой Эл он может доверять, и доверяет, всецело. И это уже не столько именно про любовь, сколько про такую громадную близость и единение, когда ничего не нужно объяснять тому, кого любишь, — и так все ясно. Он и сам все понимает, по одному только взгляду или молчанию. Конечно, Зофту ничего не стоит забрать Агну и Харри в гестапо. Ему и повод для того почти не нужен. Но штука в том, что Зофт сам озабочен соблюдением приличий. Он, все же, думая о том, что Харри накоротке с Гирингом, опасается действовать прямо. Но очень старается. Эдвард, как воробей стреляный, в таких моментах вызывает уверенность. И азарт от него тоже никуда не отходит. И даже когда за него бывает страшно, все равно не покидает уверенность: ну нет, и сейчас выберется. Такие эпизоды напоминают нам, что их задача не просто выжить в Берлине в 30е годы, но и всеми силами помочь если не предотвратить, то разгадать грядущую войну и сделать все возможное, чтобы ее жертв стало как можно меньше. Что могут два маленьких человека, затерянных в самом жерле мясорубки? А все же даже если два человека спасут еще двух человек или хотя бы одного, разве это можно назвать "малым"? В масштабах всего мира и мировой войны спасение даже "только" одного, конечно, "немного". И, может, смехотворно. Но не для этого одного человека. Не для беременной женщины, которая абсолютно потрясена и напугана всем происходящим, и не знает, где Дану. И не для мальчика, которого нацисты считают не более, чем грязью. Спасибо! 1 |
|
|
Знаете, у меня никогда не было очарования Ханной. Даже тогда, когда я была в начале работы над текстом, и было несколько вариантов для нее, и иногда я сама не понимала: а куда ее заведет? Многие, читая, отмечают именно тот момент сочувствия: вот же, Ханна протянула платок. Да. Но... так много этих "но" и до, и после платка! Да, до очарования образом там далеко, и "сочувствие", которое она проявляет, можно сравнить с тем, как в карикатурных фильмах карикатурные злодеи показаны страстными любителями кошечек или собачек. Какие-то поверхностные душевные порывы не чужды и психопатам, и попросту мерзавцам, и, думаю, в сцене, где Ханна подходит к Эл с этим платком, там у Ханны больше какого-то глубинного страха перед тем, чего она никогда не сможет понять, чем реально вот сочувствия. И тот самый страх столкновения с чем-то большим, что есть в тебе, мог бы ее отрезвить, заставить пойти иной дорогой... Но нет. Не вышло. Минутная вспышка почти что благоговейного ужаса снова затоптана животной ревностью и тупой страстью. Может, в ее понимании это и "любовь"... но истинная любовь, даже не получая ответа и сгорая в безумстве и горечи, не допустит зла в отношении того, кого любят. О да, конечно. Я в каком-то из отзывов делилась соображениями о том, что у Ханны могло просто не быть понимания, что такое настоящая любовь, и та страсть, похоть и собственническое чувство могут быть ею приняты за то, что она "любит", а поскольку эта звериная жажда не находит удовлетворения, то, значит, еще и "страдает", и ей как "жертве" позволены любые средства для достижения ее "великих" целей. Ну да, ну да... Честно скажу, я отнюдь не сторонник того, чтобы объяснять все-все особенности поведения и мировоззрения человека исключительно травмами, пережитыми в детстве. Нам дана волшебная способность изменяться. Учиться на своих ошибках. Переживать опыт и взрослеть, что в 5 лет, что в 50. Поэтому просто сказать, что у Ханны не было перед глазами примера "истинной любви", и списать на такую вот "необразованность" всю ее чудовищную гнильцу, никак невозможно, на мой взгляд. Ведь даже если и так, та самая "истинная любовь" сподвигла бы ее к изменениям. Она бы видела Харри Кельнера как отдельного человека, личность, достойную счастья - такого, какое он обретет и будет беречь, она бы отпустила его. И точно не пыталась бы навредить Эл. Однако ее линия из раза в раз приводит ее на те же грабли наступать, и вот в тех двух главах, которые я успела еще прочитать, Эду и вправду пришлось уже почти к шоковой терапии прибегнуть, чтоб ее хоть как-то встряхнуть. Казалось бы, по сравнению с мировым масштабом бедствия, с которым имеют дело Эд и Эл, какая-то там истеричная ревнивая бывшая любовница просто мелюзга, вошь. Но какая же она назойливая, и сколько уже крови подпила! А сколько копий сломано о тезисы "как немцы, такая просвещенная нация, дошли до такого"? Вопрос открыт. У нас И СЕЙЧАС нет ответа. Поразительно и то, что война, вроде как, окончилась, а никто ни за что не ответил. Меня беспредельно изумляет то, что эти твари рукопожатны в мире! Я просто не нахожу для этого слов. И они нам говорят о культуре? Знаем мы вашу культуру с примесью "Циклона-Б". Это не перестает меня поражать. И все эти фразы про "не знали", "нас использовали"... такая ересь! Кого они хотят обмануть? Рекомендуют себя немецким качество и "порядком"? Ну так и в лагерях был порядок: печи работали, "люди" ходили на работу, зондеркоманды исправно, каждый день, исполняли свои "обязанности"... Я в такой растерянности. Это как дверь в ад. Начинаешь думать об этом, и не можешь ни понять, ни осмыслить. Ну как такое было возможно? И, что не менее важно, как "потом" все стало внешне опять нормально, без лагерей? Признаюсь, сколько я ни пыталась найти ответ на этот вопрос, ничто меня до конца не удовлетворяет, кроме мнения, что люди, по природе куда легче склонные ко злу, чем к добру, получая возможность творить зло и не нести за это ответственность, будут это делать с большой охотой, потому что видимых выгод больше, чем если держаться (еще и рискуя положением и даже жизнью) за совесть и моральные принципы. Полагаю, в моменте у многих просто не возникал вопрос "а правильно ли это?", они видели перспективы и выгоды - даже в убийстве 36 000 евреев - и шли на это, вовремя позволяя себя закрывать глаза и морщить носы. Тут часто гооворят о бедственном положении Германии после 1МВ. Помню, нам учительница истории рассказывала, что инвалиды, вернувшись с войны, совершали самоубийства, чтобы их вдовам и сиротам выплачивали пособия большего порядка, нежели по инвалидности кормильца. Но что, интересно, во Франции, половину которой истребила Германия в 1МВ, в России, которую мало что в 1МВ использовали как пушечное мясо, так добили напрочь революцией и Гражданской войной, не было отчаяния и бедственного положения? Но как-то не докатились до "окончательного решения еврейского вопроса", восстанавливая свои экономики. Как-то не дошли до полнейшей бесчеловечности, пробивая себе "дорогу в будущее". Да, и меня еще всегда поражало, как много раздуто причитаний вокруг послевоенной судьбы Германии. Ах, их делили на зоны оккупации, ах, им построили Берлинскую стену!.. Какое "варварство" по сравнению с тем, что Германия творила со странами и народами, которых как катком сметала во время 2МВ... Ах, бедная Германия, платила непосильные репарации. А сколько она награбила и уничтожила богатств тех страх, на которых напала в 1МВ? Поэтому... для меня это сводится к природе зла. Ненасытной, пугающей воронке, которая засасывает все глубже и глубже, давая мнимую эйфорию от чувства вседозволенности, сытости и удовлетворенного самолюбия. Читала "Доктора Фаустуса" Манна. Там в целом приводится вот к такой метафизической проблеме добра и зла. Сделка с дьяволом, бессмертная душа (совесть, мораль, ценности) в обмен на временные привилегии, достаток и славу. Там гг - гениальный композитор, Фауст 20 века, и в нем вот отражается судьба Германии. Но, знаете, меня еще напрягало всегда вот это превозношение образованности и культурности немцев. Ах, они там все поголовно играют на пианино и читают философов. Не проводила собственных исследований, спорить не буду, но и не буду держаться за это утверждение как за что-то, что может быть исползовано хоть каким-то боком как, прости Господи, "смягчение" их вины. Сволочь - она сволочь и есть. Вне зависимости от того, играет она на пианино или нет. Казалось, что феномен еврейских оркестров, которые играли на скрипках, пока других заключенных умерщвляли в газовых камерах, должен наоборот свидетельствовать о полнейшей, окончательной извращенности и вырождении этой "великой немецкой нации". Но до сих пор находятся те, кто говорит, какой у них тонкий вкус. Или еще пример слепоты и глухоты к историческому опыту: в школе одноклассница как-то пришла в ожерелье со свастикой. И когда мы к ней подошли с намерением разложить по понятиям, она на голубом глазу утверждала, что "это древний языческий символ солнышка, чего пристали, быдлота". Символ-то древний, но забывать, или даже отрицать, что он был раз и навсегда запятнан кровью миллионов?.. Я даже не знаю, как это комментировать. 1 |
|
|
[отзыв к главам 3.12-3.13]
Показать полностью
Здравствуйте! Спасибо, что подарили нам это чудо воссоединения с Кайлой. Что оставили ее в живых, что сохранили ее малыша. Когда столько боли, и история идет к финалу, не ожидаешь уже и проблеска света (разве что вспышки ракеты, которая взорвет все к чертям), однако такой вот дар напоминает нам о том, как в жизни ценно подлинное чудо. И оно случается. Быть может, в реальной жизни даже чаще, чем в искусстве. Да, Кайла пережила тяжелейшее потрясение, Дану либо погиб, либо все равно что приговорен к смерти, оказавшись в концлагере. Да, даже в этих обстоятельствах открывается возможность еще одного чуда, и еще, и еще, но узнаем ли мы о нем - неизвестно. И пока уже сама Кайла может взять на себя подвиг надежды и ожидания встречи, молитвы и веры, чтобы не впасть в глубочайшее отчаяние хотя бы ради малыша. Ему ведь тоже очень страшно, и какое мужество нужно матери, чтобы не поддаться внешим страхам и оградить от них ребенка... А он... пинается. Растет. Господи, как трогательно - особенно вот такой яркой вспышкой жизни вопреки всему посреди всей этой мглы. И тут же рядом - несчастная Эл... Я ей очень и очень сочувствую. Ей самой себя страшно: как, спрашивает она себя, я могу искренне помогать Кайле, если сам факт, что она ходит с ребенком под сердцем, а я этого лишена, вызывает во мне приступ боли, и зависти, и горя? И рука одернулась, и снова пришло страдание. Там, где надо радоваться за другого, поддерживать, верить в лучшее, все вдруг, как по щелчку пальцев, застилает собственная, кровная боль, и больше ничего не остается. Весь мир потух, и осталась одна Эл, окаменевшая на кровати, один на один со своим неизбывным горем. И даже Эду она не в силах его поверить. Интересно, что сама просит от него откровенности, но уже в который раз не делится с ним своими переживаниями. Она сильная и гордая, и, конечно, опасается ранить его своими переживаниями или обременить, или, хуже, подтолкнуть к решительным действиям (как когда он ходил угрожал Гирингу), которые могут повредить ему. И... еще ведь, как удивительно точно отражена печальна правда жизни: стоит хоть чуточку всковырнуть давнюю, непроболевшую до конца обиду, как она тут же восстает пламенным драконом. Ну вот, казалось бы, давно уже исчерпан вопрос верности Эда, его отношения к Ханне. Но стоит ему только упомянуть, что схватил Ханну за руку, как у Эл все отключается. Она уже не вдумывается в разницу между "схватил" и "взял". Она уже не слышит, что он схватил ее, чтобы уберечь Эл. Мир погас и осталась картинка: Эд и Ханна вместе, а она, Эл, одна. Крах. Почти безумная, иррациональная ревность, боль, желание рвать и метать под наносным смиренным молчанием. Эд видит, что он не может просто так успокоить Эл. Словами до нее не достучишься. Когда болит сердце, разумные увещевания только больше бесят и доводят до крайности. Единственное, что работает в этот момент - это взять (или уж схватить) как можно крепче, прижать к груди и говорить о любви. О том, что Эл - единственная, о том, что без нее жизнь не мила. Она так хочет это услышать, и, пусть это выглядит глупым, но такая уж правда о нас - нам важно это слышать. Поступки, дела - безусловно, в этом вся суть, но какое волшебство творит одно только слово любви... Эд учится произносить это слово. И не одно. Он любит - и в этих главах обнаруживает еще одну грань любви. Способность принимать и облегчать чужую боль. Он ненавидит свою слабость, ненавидит свои раны, он умеет с ними жить - но не знает, кем бы он был без них. Для него они - уродство, которое нужно скрыать от посторонних глаз. И тут он видит, как Эл умеет утешать. Как она умеет быть стойкой в чужом горе, как умеет вобрать его в себя как свое и не сойти с ума. Какая сила духа! Момент, когда Эд смотрит на Кайлу, и на его лице отражается боль, невероятно сильный. В жизни, которую ведет Эд, уение не показывать своих чувств считается достоинством, силой, но как ему самому от этого тяжело! И вот момент, когда он задумался "об Эдварде Милне", был таким значимым... и знаковым. Все это время он был озабочен такими вещами как не провалить миссию, защитить Эл, попробовать хоть немного сделать ее счастливой... А теперь он задумался будто впервые, а может ли быть счастлив он? Конечно, "счастье" - слишком громное и приторное слово для Эда и Эл, которые живут на острие ножа. Но он задумалсь об облегчении, об утешении. Об исцелении и покое. Как это дорого, когда такой закрытый и наполовину окаменевший человек может хотя бы мысль допустить о том, что его жизнь (или отношение к ней) может измениться... Пусть даже перед лицом смерти. А когда еще? "Приключение" с Ханной, как я сказала, было уже сродни шоковой терапии. Клин клином, так сказать. А ну-ка иди, если такая честна и правоверная, а ну-ка выкладывай все свои подозрения! Но там, где все построено на страхе, уже нет места честности и справедливости. И страх Ханны показывает, что и по ней, видимо, ездили. И ее, может, на скамью клали... Вопрос только, какими средставами она нашла взаимопонимание со следствием. Вопрос риторический. И пережитое, видимо, никак не помешало ей и дальше работать в концлагере (а может, ее туда после знакомства с гестапо и закинуло), носить белое пальто и пытаться растоптать чужие жизни. Жестокость порождает жестокость. И не перестаю "умиляться", как каждый раз она кричит о том, чтобы Харри был осторожен, а потом делает все, чтобы навредить ему и его жене. Сколько раз понадобится Ханне перебегать дорогу Кельнерам, чтобы грабли ей уже лоб расшибли?.. Да, очень классный момент с обменом шпильками Эда и Зофта. "Не ожидал увидеть вас здесь". А Зофт в общем-то хорошо держит мину при плохой игре, его разоблачили, а он и ухом не повел, мол, "так надо", или "я знаю, что вы знали, что я знаю, что вы знаете". Интересный он противник, учитыая, что он пытается соблюдать правила игры. Это не похотливый эсесовец и не чиновник, пользующийся своим положением, и не ревнивая стерва. Мне кажется, ему самому доставляет удовольствие изощренное этот интеллектуальный поединок с супругами Кельнер. И он хочет сам их подловить, расколоть, не силовыми методами, а чтобы как в шахматной партии кто-то совершил бы ошибку. Наконец, визит Агны к заказчице выдался действительно тошнотворным. Вот оно - говорить с возмущением о погромах только потому, что они вышли слишком уж громкими и затратными! Говорить спокойно о гибели 36 тысяч людей, переживая о финансовых издержках. И это уже не Ханна, это "достопочтенная дама", которая уж точно родилась и выросла не после 1МВ, когда бедненькие немцы так "страдали", а в самый расцвет Германской Империи, ее "культуры" и "благонравности". Вот вам и благонравность. Как "радуют" и господа англосаксы. Центр отмахивается от посланий своих шпионов, а официальный представитель комитета, который занят не много не мало спасением детей чопорно говорит: "Вас это не касается, ваше время истекло". Мне кажется, даже Гиббельс так резко не давал Эдварду поворот от ворот. Омерзительно и низко. Но британцы же уверены, что Чемберлен "привез им мир". И спасаем только тех евреев, которые не слишком похожи на евреев. Чтоб, прости Господи, "глаз не мозолили" английским аристократикам. Какое же позорище.... Если про Францию Кейтель сказал, подписывая капитуляцию, "и они у нас выиграли?", то про Англию ему следовало бы сказать: "Разве они вместе с нами не проиграли?.." Столько ведь подыгрывали... И занятно, что под словом "восток" Эд и Эл даже не помышляют об СССР. Видимо, настолько невероятным был все-таки план Гитлера воевать против самой большой в мире страны, что в головах не укладывалась такая возможность в принципе. На этот счет есть разные точки зрения, но говорят, что и Сталин не верил донесениям наших агентов, что Германия планирует воевать на два фронта и наступать на СССР. По крайней мере, начинать наступление в разгар лета, когда до осеннего бездорожья рукой подать. Но Гитлер был уже слишком самонадеян. Блицкриг, ну да, ну да... Спасибо большое! п.с. Поняла, что в прошлом отзыве не упомянула сцену с милым нашем Белым Лунем. Очень ценен его взгляд со стороны как на Эда, так и на трагедию с Эл. Честно, когда он выдал этот монолог о том, как Эл попала в больницу, и как он пытался, но не мог спасти их ребенка, довел меня до слез. При минимальных описаниях переживаний и чувств героя, один этот монолог передает всю боль старого врача, который всю жизнь видит чужие страдания и лишь малую часть их способен облегчить. Вечный разрыв между тем, к чему призван, и тем, что действительно может сделать, и не потому, что мало старается (он всего себя отдает своему служению), но потому что такова жизнь, такова судьба, таково несовершенство науки и хрупкость человека. Но трезвое понимание, что врач не всесилен, даже самый опытный, не дает нашему Луню отрешиться от чужого горя и просто развести руками. Прошло уже пять лет, а он помнит Эл, помнит ее боль и причитается к ней своей болью, ибо в том, как он говорит о ней, такой надрыв... и горечь. И, думаю, для Эда эта вспышка откровенности стала утешением. Даже большим, чем он мог бы признать на первых порах. Знать, что по твоему горю плачет искренне еще один человек - утешение, очень большое утешение. п.п.с. Спасиб за упоминание Гейдриха, сейчас нашла время и постаралась подробнее узнать о том, что это за человек. Чтение вашей истории как всегда располагает к самообразованию. 1 |
|
|
Anna Schneiderавтор
|
|
|
h_charrington
Показать полностью
Здравствуйте! там у Ханны больше какого-то глубинного страха перед тем, чего она никогда не сможет понять, чем реально вот сочувствия. И тот самый страх столкновения с чем-то большим, что есть в тебе, мог бы ее отрезвить, заставить пойти иной дорогой... Но нет. Не вышло. Минутная вспышка почти что благоговейного ужаса снова затоптана животной ревностью и тупой страстью. Согласна с вами, именно такой там страх. Страх перед неведомым, тем, что гораздо больше слов. И Ханна, верная себе, не удерживается от вопроса о Харри. Все ли с ним в порядке? Думаю, этот жест с платком был в чем-то искренним, но он, как вы и сказали, не повел Ханну дальше. Точнее, не вернул ее обратно. И все покатилось дальше, под гору. Я в каком-то из отзывов делилась соображениями о том, что у Ханны могло просто не быть понимания, что такое настоящая любовь, и та страсть, похоть и собственническое чувство могут быть ею приняты за то, что она "любит", а поскольку эта звериная жажда не находит удовлетворения, то, значит, еще и "страдает", и ей как "жертве" позволены любые средства для достижения ее "великих" целей. И при этом Ланг очень высокого мнения о себе. Но если отставить в сторону ее красивую внешность, такую правильную по тем временам, то что останется? Горечь? Ярость? Злость, ставшая озлобленностью? Повторю, она, как и всякий другой человек, могла пойти иным путем. Но выбор ее, как и выбор другого, всегда, конечно, свободен. И ее самомнение о себе, что примечательно, основано тоже, в общем-то, только на собственной внешности. В этом смысле яркий момент — тот, где Кельнер подвозит ее до дома, а она всю дорогу уязвлена тем, что он реагирует на нее сухо, не так, как она к тому привыкла. И если круг ее собственных интересов и ценностей узок настолько, то стоит ли удивляться тому, что она всё судит лишь внешне? Сама не обладая почти никаким душевным содержанием. И на основе своих нынешних "страданий", она, видимо, решает стать судьей и решать: кого миловать, а кому — голова с плеч. Все ее истерики и метания утомляют. Будь иное время, не такое опасное, Харри сказал бы ей гораздо более открыто гораздо больше "хороших" слов. Но время не то. С ней ему тоже приходится сдерживать себя. Честно скажу, я отнюдь не сторонник того, чтобы объяснять все-все особенности поведения и мировоззрения человека исключительно травмами, пережитыми в детстве. Нам дана волшебная способность изменяться. Учиться на своих ошибках. Переживать опыт и взрослеть, что в 5 лет, что в 50. Поэтому просто сказать, что у Ханны не было перед глазами примера "истинной любви", и списать на такую вот "необразованность" всю ее чудовищную гнильцу, никак невозможно, на мой взгляд. Ведь даже если и так, та самая "истинная любовь" сподвигла бы ее к изменениям. Я не задумывалась так четко о том, чем объяснить поведение человека. Но тема с детскими травмами кажется очень узкой и заезженной. Сколько можно? Нам и Гитлера впихивают в рамочки несчастного, непонятого художника. Вот прими его тогда в венское училище, вот было бы всё хорошо... А если нет? Все? От одной неудачи, пусть и болезненной, сломался и пошел всех жечь и ломать? Как же это уродливо и отвратительно. Только твари способны на такую лютую месть, истинные твари. И не надо никаких объяснений — нет их, не существует в таких случаях. Неважно, был ли у Ханны счастливый опыт любви или нет, а действует она ровно так же. Мстит, гадит, и в этой своей пакости не хочет видеть никаких границ. Дай такой волю, и была бы еще плюс одна Ильза Кох. Есть люди, которые, к примеру, не познают в своей жизни счастливую любовь. Не знаю, почему так, но бывает. И что, теперь всем мстить? Кто виноват в твоей боли? Никто. Может, и ты не во всем виноват, и есть еще какие-то иные факторы, но винить других, "мстить" им, — это гадость и низость. Но какая же она назойливая, и сколько уже крови подпила! Да, очень много сил и души уходит на нее, к сожалению. И поразительнее только то, что до сих пор, даже после почти визита в гестапо, она не успокаивается. Совершенно сошла с ума, я думаю. И не хочет остановки. Признаюсь, сколько я ни пыталась найти ответ на этот вопрос, ничто меня до конца не удовлетворяет, кроме мнения, что люди, по природе куда легче склонные ко злу, чем к добру, получая возможность творить зло и не нести за это ответственность, будут это делать с большой охотой, потому что видимых выгод больше, чем если держаться (еще и рискуя положением и даже жизнью) за совесть и моральные принципы. Полагаю, в моменте у многих просто не возникал вопрос "а правильно ли это?", они видели перспективы и выгоды - даже в убийстве 36 000 евреев - и шли на это, вовремя позволяя себя закрывать глаза и морщить носы. Тут часто гооворят о бедственном положении Германии после 1МВ. Помню, нам учительница истории рассказывала, что инвалиды, вернувшись с войны, совершали самоубийства, чтобы их вдовам и сиротам выплачивали пособия большего порядка, нежели по инвалидности кормильца. Но что, интересно, во Франции, половину которой истребила Германия в 1МВ, в России, которую мало что в 1МВ использовали как пушечное мясо, так добили напрочь революцией и Гражданской войной, не было отчаяния и бедственного положения? Но как-то не докатились до "окончательного решения еврейского вопроса", восстанавливая свои экономики. Как-то не дошли до полнейшей бесчеловечности, пробивая себе "дорогу в будущее". Да, и для меня этот вопрос открыт. А может, при наступлении нацизма, для таких, "более склонных" ко злу, и выбора не было? То есть и вопроса не стояло: плохо или хорошо? Выгодно, — вот и ответ. Сколько было уверено в победе "германского гения", в "расчистке новых территорий"... Гитлер и Ко орали с трибун о том, что "ничего не бойтесь, всю ответственность я возьму на себя!", — уверенные в том, что всё им не просто сойдет с рук, а зачтется как праведная цель в очищении пространства. Странно обо всем этом говорить, когда у самой (то есть у меня:) немецкая фамилия. Но всю эту "риторику" ненавижу люто. Просто какая-то внутренняя ненависть просыпается. Согласна с вами в ваших размышлениях о немцах. Меня умиляет еще и то, что они нам на полном серьезе заявляли, что зачем это мы к ним пришли? А Геринг вообще в своих речах дошел до того, что какие-то советские люди (недолюди, конечно же, по их размышлению культурных людей) не имеют права (!) судить их, немцев и национал-социалистов. То есть настолько все человеческое было выхолощено в этих уродах. То есть убивать людей миллионами, грабить их, насиловать — они, "великие" и "культурные" имеют право, а судить их не может никто. На такое даже не знаю, что ответить. Жалею, что Геринг сумел сам убиться. Хотелось бы, чтобы его, как большинство его единомышленников на том первом суде, вздернули. Веревка бы только оборвалась: толстый был непомерно. Но ничего, подвязали бы снова. Мне хочется верить, что мы никогда не дойдем до таких "окончательных решений". Меня, со временем, стало поражать другое: как обескровлен, как разрушен был СССР войной. И как быстро восстановлен! Параллельно с этим шла насмерть гонка по разработке ядерного оружия. А в 1961 г. не кто-нибудь, а мы — первые в космосе. Всего через 16 лет по окончании такой войны... Раньше я смотрела на снимки моделей в платьях Диор, прилетевших в Москву в то время, с сочувствием к нашим женщинам, одетым в самые простые платья. А теперь хочется сказать: идите на ... со своими платьями, в свою Францию. Где бы они все были, если бы не СССР? Но страх в том, что им там, на той стороне, нравилось. И ничего не казалось страшным. А что такого? Спасибо за отзыв! 1 |
|
|
Anna Schneiderавтор
|
|
|
h_charrington
Показать полностью
Часть 1. Здравствуйте! Спасибо, что подарили нам это чудо воссоединения с Кайлой. Что оставили ее в живых, что сохранили ее малыша. Когда столько боли, и история идет к финалу, не ожидаешь уже и проблеска света (разве что вспышки ракеты, которая взорвет все к чертям), однако такой вот дар напоминает нам о том, как в жизни ценно подлинное чудо. И оно случается. Я просто не могла лишиться Кайлы. Пусть она не главная, но очень важная героиня. То же касается и ее ребенка. Даже если все это, может, выглядит неправдоподобно, — плевать. Вокруг и так слишком много смертей и пожаров. Но Кайла будет жить. В конце концов, правдоподобие самой жизни иногда очень "хромает": есть в нашей истории воины, прошедшие через 17 концлагерей, и не сломленные этим ужасом. Господи, как трогательно - особенно вот такой яркой вспышкой жизни вопреки всему посреди всей этой мглы. И тут же рядом - несчастная Эл... Я ей очень и очень сочувствую. Ей самой себя страшно: как, спрашивает она себя, я могу искренне помогать Кайле, если сам факт, что она ходит с ребенком под сердцем, а я этого лишена, вызывает во мне приступ боли, и зависти, и горя? И рука одернулась, и снова пришло страдание. Это то же отчасти, что испытывает Росаура: личное (как всегда, но в такие времена это особенно) очень переплетено с "внешним". И хотя опасность — везде и всюду, вокруг Эл и Эда, личное отменить невозможно. Потому что оно и есть ты. И даже понимая, что мир уже слетает в темноту, забыть свое не можешь. И заглушить такую боль окончательно вряд ли возможно. Даже если потом будут другие дети, этот, не рожденный малыш, останется самим собой, тем же самым малышом, что умер. И тут же поднимается неусыпно другая волна: следить за собой, соблюдать осторожность, — все то, что уже вшито под кожу у Элис, и у Эдварда. И хорошо, что в такой момент рядом с Эл была Кайла. Даже если она что-то и подозревает (хотя я не думаю), то в любом случае никому не выдаст ни Агну, ни Харри. Интересно, что сама просит от него откровенности, но уже в который раз не делится с ним своими переживаниями. Она сильная и гордая, и, конечно, опасается ранить его своими переживаниями или обременить, или, хуже, подтолкнуть к решительным действиям (как когда он ходил угрожал Гирингу), которые могут повредить ему. И... еще ведь, как удивительно точно отражена печальна правда жизни: стоит хоть чуточку всковырнуть давнюю, непроболевшую до конца обиду, как она тут же восстает пламенным драконом. Ну вот, казалось бы, давно уже исчерпан вопрос верности Эда, его отношения к Ханне. Но стоит ему только упомянуть, что схватил Ханну за руку, как у Эл все отключается. Она уже не вдумывается в разницу между "схватил" и "взял". Она уже не слышит, что он схватил ее, чтобы уберечь Эл. Да, интересный перевертыш: просьба об откровенности и уже, в самом деле (как в случае с примеркой платья Ханной и "упреком" Агны в бездетности), не первая — с одной стороны, причем со стороны Элис, которая раньше, сама по себе была гораздо откровеннее, и Эд даже гордился своим умением легко "читать" ее лицо и эмоции, и нежелание рассказать Милну о том, что ее саму беспокоит. Но, думаю, Эдвард из проницательности, плюс-минус все знает. Конечно, это не скытность Эл, равная отстранению, а нежелание увеличивать и так то горькое и страшное, что есть. Только вот, конечно, от молчания ей легче не станет. Да и с кем еще ей всё делить, как не с Милном? Громадная радость (если уместно употребить это слово в данном контексте) в том, что они вместе не только как влюбленные, они вместе и на одной стороне и в жизни, и в миропонимании, в том деле разведке, о которой даже любимому не скажешь, нельзя. А понять это другой, сам не бывавший по эту сторону разведки, не сможет. К тому же, Элис уже не та девочка, прибежавшая в страхе в комнату Милна в первую ночь в Берлине. И думаю, теперь Эд не всегда может похвалить себя за умение "читать" Эл. Ну а что касается Ханны... тут все то же: та рана, как потеря ребенка, в какой-то степени всегда будет открытой. Это признали в том примирении после вечера с танцем и Софи, оба: и Эд, и Эл. Да и глупо было бы делать вид, что этого не было. Кто-то, конечно, выбирает и такой ход, но смысл? Глухой, постоянный стук-напоминание и саму память — не отменить, как ни старайся. Честность гораздо лучше в такой ситуации. Эд видит, что он не может просто так успокоить Эл. Словами до нее не достучишься. Когда болит сердце, разумные увещевания только больше бесят и доводят до крайности. Единственное, что работает в этот момент - это взять (или уж схватить) как можно крепче, прижать к груди и говорить о любви. О том, что Эл - единственная, о том, что без нее жизнь не мила. Она так хочет это услышать, и, пусть это выглядит глупым, но такая уж правда о нас - нам важно это слышать. Поступки, дела - безусловно, в этом вся суть, но какое волшебство творит одно только слово любви... Слова, правда, здесь не работают. Ну что он скажет? Все то же: то было ошибкой, а все, что у нас — и было, и есть одно настоящее? Эл это умом знает, она это слышала от Эдварда не раз, и, думаю, верит ему. Но боль, острую и сердечную, все это не отменяется Потому что рана всегда будет открыта. А доверие уже было основательно нарушено, и в той темноте они уже оба были. А скатиться в темное нам, не таким уж и уверенным в себе, всегда гораздо быстрее и проще, чем удерживаться в луче света. Поэтому выход один — быть рядом и ждать, когда стихнет приступ боли. И снова врачевать рану. Ну а слова... да, так вот удивительно они действуют на нас. Все всё знают про "смотри на дела и действия", но слова способны как исцелить, так и погубить. Притом, что это не просто слова, это — истинная правда для них двоих. В форме слова. Он ненавидит свою слабость, ненавидит свои раны, он умеет с ними жить - но не знает, кем бы он был без них. Для него они - уродство, которое нужно скрыать от посторонних глаз. И тут он видит, как Эл умеет утешать. Знаете, я думаю, Эд не ненавидит свои раны. Он их принимает. Да, возможно, он хотел бы, чтобы ни их, ни того опыта, что они ему принесли с собой, у него не было. Но без них он не был бы таким, каким мы его знаем. А может, сложись его жизнь более благополучно, он вырос бы рафинированным болваном? А потом, как Стив, решил бы, что и ему "все можно"? А что? Деньги, положение есть. Бороться "за место под солнцем" не нужно. Вообще ничего не нужно, — безбедное существование обеспечено на всю жизнь капиталом от родителей. Я не знаю, где эта золотая середина между правильным неравнодушием сердца и души и абсолютным равнодушием ко всему, возникшим из-за привычки к достатку. Мы так часто привыкли считать, что любви много не бывает. Но я смотрю на ту же дочь Делона и меня берет ужас, отвращение. Ей не на что жаловаться в своей жизни. Она, в отличие от своего отца, не знала бед или нужды. Отец ее обожал. А выросло на этом обожании чудовище. Монстр, приложивший руку к тому, что последние годы его жизни, судя по всему, были полны и горечи, и боли. И при этом, кажется, абсолютное непонимание того, кем был ее отец. Да, для нее он, прежде всего, папа. И потом "Ален Делон". Но такая душевная тупость... это так страшно. Безумно. Боль свою Эд скрывает из соображений того, что знание о ней никому не сделает лучше. Но и сам он, под ее гнетом, как мы видим, уже не выдерживает. Все это глубоко личное, опять же, совсем "не к месту", когда такая обстановка вокруг. Но сама мысль о том, что он, после всех этих лет абсолютного молчания, может быть принят и понят, а не отвергнут... Я думаю, для него это не меньше, чем потрясение. И я очень рада, что такая мысль пришла к нему, не оставила его в покое, а растревожила. Во имя дальнейшей жизни и любви, как бы странно это ни звучало на пороге войны. 1 |
|
|
Anna Schneiderавтор
|
|
|
h_charrington
Показать полностью
Часть 2. "Приключение" с Ханной, как я сказала, было уже сродни шоковой терапии. Клин клином, так сказать. А ну-ка иди, если такая честна и правоверная, а ну-ка выкладывай все свои подозрения! Но там, где все построено на страхе, уже нет места честности и справедливости. И страх Ханны показывает, что и по ней, видимо, ездили. И ее, может, на скамью клали... Вопрос только, какими средставами она нашла взаимопонимание со следствием. Вопрос риторический. Да, вопрос более, чем риторический. Тот, на который ответ не важен и не интересен. Именно потому, что всей своей сутью Ханна вызывает, может быть, сожаление (как человек, свернувший не туда), но не сочувствие. Я знала, что она как-то использует тот случай с подменой чемоданов. Это была бы не Ланг, упусти она такой повод задеть и зацепить. Но до того, как описала эту встречу Харри и Ханны под аркой, не знала, как именно. И, опять же, радуюсь наблюдательности Милна, заточенной годами разведки. Ведь он мог ее и не заметить. Да, очень классный момент с обменом шпильками Эда и Зофта. "Не ожидал увидеть вас здесь". А Зофт в общем-то хорошо держит мину при плохой игре, его разоблачили, а он и ухом не повел, мол, "так надо", или "я знаю, что вы знали, что я знаю, что вы знаете". Интересный он противник, учитыая, что он пытается соблюдать правила игры. Это не похотливый эсесовец и не чиновник, пользующийся своим положением, и не ревнивая стерва. Мне кажется, ему самому доставляет удовольствие изощренное этот интеллектуальный поединок с супругами Кельнер. И он хочет сам их подловить, расколоть, не силовыми методами, а чтобы как в шахматной партии кто-то совершил бы ошибку. Все верно, — Зофт не так прост, как хочет казаться. Это не обезумевший то ли от вспышки влюбленности в начале, то ли похоти, Биттрих. Это не новенький эсесовец, вчера взятый из "Гитлерюгенд", и пугающийся собственной тени. Это даже не Хайде, слишком взбешенный по эмоциям, чтобы всерьез противостоять Харри. Это именно противник. Умный. Потому что те твари во многих случаях были умными. И да, Зофт жаждет победы. Но еще — отменной игры. А она предполагает все эти словесные "не ожидания". Наконец, визит Агны к заказчице выдался действительно тошнотворным. Меня до сих пор это очень интересует: а как себя вели тогда немцы? Простые немцы, рядовые немцы? Все нравилось, ничего не волновало? Это тоже, во многом, вопрос без ответа. Тем более, что после нашей Победы они быстренько переквалифицировались в сплошь тайное сопротивление, которое с 1933 по 1945 было всегда резко против Гитлера. Ну-ну, знаем. Центр отмахивается от посланий своих шпионов, а официальный представитель комитета, который занят не много не мало спасением детей чопорно говорит: "Вас это не касается, ваше время истекло". Мне кажется, даже Гиббельс так резко не давал Эдварду поворот от ворот. Омерзительно и низко. Тут, в случае с новым героем, с Фоули, я могу только посоветовать подождать. Очень мне интересно узнать ваше мнение о нем после всех событий. Ну а Центр — на то Центр. Оттуда, с Форрин-офис в Лондоне, видно лучше обстановку в Германии. Вон, даже Милна, в делах почти всегда предельно выдержанного, довели до кипения. И спасаем только тех евреев, которые не слишком похожи на евреев. Чтоб, прости Господи, "глаз не мозолили" английским аристократикам. Какое же позорище.... Да. Я когда читала реальные данные об этой программе "Киндертранспорт", поверить не могла этому. Но очевидцы, которых просили рассказать о ней, подтверждали слова друг друга: дети внешне должны были внешне походить на евреев. Еще — здоровыми, придежными в поведении и учебе. Не инвалидами какими-нибудь, конечно же, ну что вы! И в этом — расчет, а не настоящая помощь. Причем, семьи могли отправить по этой программе только одного ребенка из семьи. А семьи тогда, как правило, были многодетными. И понятно, что ожидало оставшихся в Германии. И занятно, что под словом "восток" Эд и Эл даже не помышляют об СССР. Видимо, настолько невероятным был все-таки план Гитлера воевать против самой большой в мире страны, что в головах не укладывалась такая возможность в принципе. Я думаю, и война Гитлера против Англии и Франции тогда еще тоже могли выглядеть невероятным. Как? Как это возможно? А между тем "блицкриг" настолько отбил Гитлеру даже его больные мозги, что эту кальку он приложил и на СССР, с его громадными территориями. Как сказал Геринг: у нас было очень много информации о состоянии СССР перед войной. Численность населения, подготовка, запасы, ресурсы... одного мы не учли и не могли знать: советского солдата, который так яростно сражался за свою землю. Так, что и смерть не останавливала. На этот счет есть разные точки зрения, но говорят, что и Сталин не верил донесениям наших агентов, что Германия планирует воевать на два фронта и наступать на СССР. По крайней мере, начинать наступление в разгар лета, когда до осеннего бездорожья рукой подать. Да, многие говорят, что Сталин не верил. И донесениям многих разведчиков, и даже тому, что, конечно же, не просто так ранее был заключен пакто Молотова-Риббентропа. Не верил он и донесениям Зорге. А уж Зорге — какой разведчик! Могли его вытащить из тюрьмы, а вытаскивать не стали. Он тоже, кстати, называл точную дату: 22 июня 1941. А Сталин думал, что он двойной агент. А Зорге умер в тюрьме, но своих не сдал. Поняла, что в прошлом отзыве не упомянула сцену с милым нашем Белым Лунем. Очень ценен его взгляд со стороны как на Эда, так и на трагедию с Эл. Честно, когда он выдал этот монолог о том, как Эл попала в больницу, и как он пытался, но не мог спасти их ребенка, довел меня до слез. Спасибо вам за такое неравнодушие! Я тоже очень люблю этот горький момент. Это сочувствие старого человека, опытнейшего врача. Чего и кого он, действительно, не видел в своей жизни? А Эл, эту девочку, запомнил. И столько сострадания к ней, к Эдварду. К чужой жизни, которая столкнулась с таким непоправимым горем. На таком сердце и на таком умении сопереживать, и держится, думаю, во многом, наш мир. А Гейдрих, кстати, — из тех самых очень "культурных" нацистов, о которых вы писали в недавнем отзыве. И скрипка, и фортепиано... Образцовый на всю сотню. А вместе с тем, — не человек, а чудовище. Спасибо вам! 1 |
|
|
отзыв на главы 3.14-3.15, 1 часть
Показать полностью
Здравствуйте! Вот, я снова плачу. Вообще я очень ценю моменты, когда искусство вызывает во мне такую реакцию. Это настоящие переживания, они как ничто показывают, как искусство проникает в жизнь и обнажает самые сокровенные и красивые, осмысленные и значимые её моменты. Над чем я плакала в этот раз? Во-первых, конечно же, сцена встречи Мариуса и Эл. Вначале я была обескуражена, как это, он ее не узнает, а еще так озлоблен, что готов растерзать своих спасителей!.. Но что еще можно было требовать от человека, на глазах которого убили мать? И не просто не дают ему прожить горе, а вокруг во всеуслышанье объявляют, что "ничего такого" не было... какая гнусность, какая ложь... Мальчику 12 лет, он не способен думать о целесообразности, безопасности, благоразумии... И, может, он честнее и искреннее всех собравшихся. Это взрослые могут запирать сердце на замок, зашивать рот суровой ниткой, и в страшном мире Берлина конца 30-х, где все говорят шепотом, а лучше - вообще молчат, нам просто необходим был этот крик разгневанного, обездоленного ребенка. Именно уже подросшего, в котором потеря вызовет не только горе, но и гнев. Который будет уже понимать прекрасно, что происходит, без тонкостей и политики, но в самой что ни на есть правде жизни: там звери. Здесь люди. Да, он натерпелся страха, но гнев выжег страх, гнев оказался сильнее шока, и ребенок, эта чистая душа, уже способен испытывать такую лютую ненависть, что иным бы поучиться у него. Потому что ни о каком "примирении" и уж тем более "принятии" зверства речи быть не может. И когда сейчас я порой слышу о попытках говорить о преступлениях нацистов "помягче", у меня волосы дыбом встают. Как видим, в те времена взрослые, осознанные, зрелые люди вообще не смели назвать это "преступлениями", по крайней мере вслух (и самое страшное, что многие ведь и вправду не считали происходящее таковыми?...), так пусть остаётся этот гневный крик ребенка, который ненавидит. И тем сильнее впечатление, когда он наконец-то из-за кровавой пелены перед глазами сумел различить и узнать перед собою Эл. Свою фею-крестную... Конечно, он по-рыцарски, по-юношески влюблен. И я думаю, это прекрасно для него - быть влюбленным в такую женщину, как Элисон Эшби. Эта влюбленность преподымет его над гневом и болью. Поможет отделить зерна от плевел, набраться стойкости, воли, превратит его из гранаты, которая готова была взорваться в любую секунду от малейшего неосторожного жеста, в борца. Который будет неутомим, но не растратит себя попусту. И Эл - вовсе не та фея, которая заманит этого маленького рыцаря в свой волшебный Бугор, где потеряется счет времени, и все былое покажется дурным сном. Нет. Наоборот, она научит помнить, ценить, поможет, чтобы боль, которая сейчас может довести до саморазрушения, стала болью, которая, как ни странно, придает сил и напоминает о смысле, что к чему. Как у Высоцкого, "если в жарком бою испытал, что почем", и там продолжение про нужные книги, которые прочитал в детстве. Думаю, равноценно будет сказать про нужных людей, которые тебя поддержали, направили и утешили. Потому что Мариус, как всякий переживший потерю человек, нуждается в утешении. но не приторно-сладком, а в трезвящем. И Эл иное дать и не может. Она видит своими глазами весь ужас происходящего, она все прекрасно понимает, она переживает свою боль, свой страх, она ведет свою борьбу. И те чудесные мгновения, о которых говорит в финале этой главы Эд, они возможны между Мариусом и Эл именно потому, что там не будет притворства, попыток "сгладить углы", отвлечься на что-то несущественное, затереть и забыть(ся). Это не значит, что в их общении они будут обмусоливать новости или говорить лозунгами сопротивления, но там будет честность и чистый взгляд на мир, даже если разговор будет идти о самых отвлеченных вещах. Да и вообще, мне кажется, когда между людьми _правда_, там не может быть "отвлеченного" и "несущественного". ...к слову, Мариус и книги нужные читает. Конечно же, рискует. И с точки зрения взрослого, который болеет душой за жизнь мальчика, мне, как и Эду, хочется посетовать, что вот, он неосмотрителен, зазря подвергает себя опасности, рискует... Но не могу не понять Эл, которая говорит о Ремарке под полой пальто Мариуса с гордостью. И конфликт, который на протяжении главы охладил отношения Эда и Эл касательно всей ситуации, тоже очень понятен. Эл вся - сердце, она чувствует, что вот сейчас - самые что ни на есть мгновения жизни, и ее мечта стать матерью вот так внезапно осуществилась. Конечно, она видит в Мариусе сына. С самого начала видела. Это невероятно трогательно не в слезливо-сентиментальном смысле, а опять же в своей правде, в том, что это - кусочек счастья для несчастной Эл, и это надежда и возможность приподняться после потерь для Мариуса, это тот опыт, который жизненно необходим им обоим. Второй раз меня пробило, когда Эд вновь вспоминал об аварии своих родителей. Теперь его мысли были сконцентрированы вокруг отца. И эти говорящие без всяких слов подробности... Как он аккуратно уложил его руку... Как ему пришло осознание, что на горячая, потому что на самом деле уже остыла, но ее нагрело солнце... И страх, и ужас, и боль, и оцепенение, которое приносит потеря, и то таинственное действие любви, которое выражается в горе. Шокировал эпизод с Эрихом, вот же подонок, мало из него Эд сделал отбивную? Кстати, вспоминаю, что я была уверена тогда на боксерском поединке, что Эд его именно что насмерть избил (и, кажется, сам Эд так решил поначалу). Сейчас допускаю, что Эд (и я) подумал так, потому что пережил внутри ту ненависть и остервенелую ярость, которая и доводит человека до возможности совершить убийство. Внутри переступлена какая-то грань, и это пугает. Не успела я задуматься, испытываю ли облегчение, что Эд все-таки не убил Эриха, как эта скотина (пардон, но мерзавец же) вваливается в сюжет и самым варварским образом ведет Эда на пытки... просто потому что может. Просто потому что он не Зофт, который удовлетворился бы ответами Эда и отступил до поры, а потому что сделал именно то, чего Зофт себе не позволяет: выбесило его, что Эд явно умнее, находчивее и проворнее, и просто использовал право сильного. То бишь, наделенного властью и не обремененного больной рукой. Наверное, самое шокирующее в этой сцене именно то, что Эд почти что уже вышел сухим из воды благодаря своим умным ответам и прекрасной выдержке, но суровая реальность показала, что ты можешь быть хоть семи пядей во лбу (и это оценят Зофт или Гиббельс), а такие дуболомы, как Эрих, только больше выбесятся и потащат тебя в подвал, просто потому что могут. И, конечно, долгая партия с Зофтом может привести к последствиям попросту необратимым и гораздо более страшным, чем сеанс избиения за десять метров от собственного рабочего места, однако вот это отсутствие всяких правил, беспринципность, звериная жестокость и тупая сила... Это страшно. Страшно, страшно... 1 |
|
|
отзыв на главы 3.13-3.15, 2 часть
Показать полностью
Интересен был отрывок от лица Зофта, как всегда, мурашки по коже пробегают, когда благодаря мастерству автора как бы влезаешь в шкуру зверя. Так было с Биттрихом, с насильником в Хрустальную ночь, теперь вот - очередной хищник. Умный, самовлюбленный, уверенный, что он идет на жертву ради "искусства контрразведки", просиживая часы в неудобной машине. И раздумывает над тем, как бы прижать беззащитную девушку, заставив ее пройти через ужас, боль и унижение, лишь бы "найти доказательства". Ну да, он-то "играет по правилам". Жуть. Зато какая красивая и эффектная сцена погони! Как Эд выложился на все сто! Такое опасное и красивое сочетание предельного риска и максимального контроля... Да, я вторила словам Эл: "Никогда не видела тебя таким..." Вспомнила сцену, где Руфус катает Росауру на метле)) Обстоятельства у них, конечно, куда как благоприятнее, здесь-то у Эда ни толики "лихачества ради лихачества". Он спасает их жизни, но в то же время играет с огнем. Он дает нам увидеть на пару мгновений, в каком адском напряжении он живет каждодневно, и этот порыв, от него веет такой жизненной силой, жаждой, скоростью... Вспоминаю о том, как Эд увлекся гонками вскоре после смерти родителей, чтобы на грани жизни и смерти ловить этот адреналин и чувствовать себя живым. Мне кажется, это была главная потребность у него и сейчас. Постоянно играть роль, быть на пределе контроля, оберегать Эл, оставаться сильным, невозмутимым, несокрушимым... Вот так красиво и пугающе прорвалось это напряжение. Знакомство с Кете вселяет веру в сильных, несломленных людей, которых изрядно пинала судьба, но они не сдались. В ее положении она может подвергнуться насилию, преследованию, быть заключенной в тюрьму, лагерь, а то и вовсе быть расстерелянной, в любой момент, но она упорно и неутомимо делает свое дело. Да, отношение к Фоули потихоньку меняется, по крайней мере, рекомендация его как друга Кете многого стоит, и факт, что он разведчик, обуславливает его поведение уже не столько трусостью и черствостью, сколько предусмотрительностью и осторожностью. Однако встреча с феей, конечно, заставила и улыбнуться, и удивиться. Ну, Эд прав, ничего не попишешь: все мужчины теряют голову от Агны Кельнер, он по себе знает))) И то, как этот с иголочки одетый, запакованный в твидовый костюмчик британец вдруг потерял дар речи, способность мыслить трезво и связывать слова последовательно, было даже забавно, вот только, увы, чары Агны не привели к нужному результату: вместо того, чтобы пасть перед ней на колени и спешить выполнить любой каприз, Фоули отказал ей и весьма жестко, отказал в присутствии своей подруги Кете. Быть может, подумал, что его пытаются перевербовать?...)))) Да, эта линия однозначно цепляет и интригует. Но... не могу не подчеркнуть, какой щемящий осадок оставляет последняя фраза Эда, что таких вот мгновений у Эла и Мариуса, а там и у них, уже, может и не будет. Конец 38 года. Через полгода уже начнется Вторая мировая война. А до конца истории (каждый раз с тоской смотрю на оглавление) осталось всего три главы... И мне и хочется, и колется листать страницы дальше. Слишком страшно за героев - раньше, хоть с ними и происходили самые ужасные вещи, а все-таки объем книги располагал к надежде, что они как-нибудь выберутся. Но теперь... неужели вот-вот будет подведена черта?.. Спасибо вам огромное! 1 |
|
|
Anna Schneiderавтор
|
|
|
1 часть ответа.
Показать полностью
h_charrington Здравствуйте! Вот, я снова плачу. Вообще я очень ценю моменты, когда искусство вызывает во мне такую реакцию. Это настоящие переживания, они как ничто показывают, как искусство проникает в жизнь и обнажает самые сокровенные и красивые, осмысленные и значимые её моменты. Спасибо за такие чудесные слова. Эти главы писались в диком цейтноте: не знаю, что или кто меня торопил. Но писать все эти главы, заключительные, спокойно и медленно, я просто не могла. И если получилось передать в тексте хотя бы часть настоящего, то я очень-очень рада. Над чем я плакала в этот раз? Во-первых, конечно же, сцена встречи Мариуса и Эл. Вначале я была обескуражена, как это, он ее не узнает, а еще так озлоблен, что готов растерзать своих спасителей!.. Но что еще можно было требовать от человека, на глазах которого убили мать? И не просто не дают ему прожить горе, а вокруг во всеуслышанье объявляют, что "ничего такого" не было... какая гнусность, какая ложь... Мальчику 12 лет, он не способен думать о целесообразности, безопасности, благоразумии... И, может, он честнее и искреннее всех собравшихся. Это взрослые могут запирать сердце на замок, зашивать рот суровой ниткой, и в страшном мире Берлина конца 30-х, где все говорят шепотом, а лучше - вообще молчат, нам просто необходим был этот крик разгневанного, обездоленного ребенка. Я сама была удивлена встречей с Мариусом. Таким Мариусом, и удивлена такой встречей. И, в то же время, а как могло быть иначе? Он видел то, что никому, тем более ребенку (еще) не пожелаешь. И всему этому гневу, всей этой боли в том Берлине не то что нет, а, по заветам нацистов, не должно быть места. И что делать? Как выразить эту дикую боль? Вот и остаются безрассудные, конечно, с точки зрения взрослых, забеги по городу с ножом. Но и сами взрослые недалеки от своей грани. Когда грань стирается, некоторые взрослые идут к веревке или к воде. Я не думаю, что Кете, Эл или Эд не честны здесь. Они, как никто, все понимают. Все, на самом деле. И, если бы могли, они бы тоже кричали от ужаса. Но нужно, необходимо ради жизни смирить себя. Иначе из этого ада и Мариус не выберется. Эд, как никто, понимает боль Мариуса. К тому же, он и Эл переживают боль от утраты своего малыша. У Кете много своих ран, ее жизнь тоже не благополучна. Но ради спасения нужно перестать кричать. И действовать. Иначе все они умрут от горя, если задумаются о нем и остановятся на месте. Конечно, это и больно, и невыразимо, и страшно. Но дорога ведет только вперед. И когда сейчас я порой слышу о попытках говорить о преступлениях нацистов "помягче", у меня волосы дыбом встают. Я сначала хотела пересказать своими словами. Но лучше дам прямую цитату (Борис Полевой, "В конце концов"): "Вот подвал — опять трупы, сложенные аккуратными штабелями, как на заводских складах размещают сырье. Да это и есть сырье, уже рассортированное по степени жирности. Вот отдельно в углу отсеченные головы. Это отходы. Они негодны для мыловарения, а может быть, нацистская наука отстала от потребностей жизни и еще не нашла метода промышленного использования человеческих голов. А вот расчлененные человеческие тела, заложенные в чаны, — их не успели доварить в щелочи". Это даже невозможно ни осмыслить, ни комментировать. И это — только часть сделанного нацистами. И об этом "помягче"?.. И тем сильнее впечатление, когда он наконец-то из-за кровавой пелены перед глазами сумел различить и узнать перед собою Эл. Свою фею-крестную... Конечно, он по-рыцарски, по-юношески влюблен. И я думаю, это прекрасно для него - быть влюбленным в такую женщину, как Элисон Эшби. Да, вы правы. Любовь с людьми способна творить чудеса. И здесь такое чудо Мариусу необходимо. Чтобы не сойти с ума. Потому что Мариус, как всякий переживший потерю человек, нуждается в утешении. но не приторно-сладком, а в трезвящем. И Эл иное дать и не может. Она видит своими глазами весь ужас происходящего, она все прекрасно понимает, она переживает свою боль, свой страх, она ведет свою борьбу. И те чудесные мгновения, о которых говорит в финале этой главы Эд, они возможны между Мариусом и Эл именно потому, что там не будет притворства, попыток "сгладить углы", отвлечься на что-то несущественное, затереть и забыть(ся). Это не значит, что в их общении они будут обмусоливать новости или говорить лозунгами сопротивления, но там будет честность и чистый взгляд на мир, даже если разговор будет идти о самых отвлеченных вещах. Впереди очень важный разговор Эл и Мариуса. И он именно такой, как вы предполагаете. А те слова Эдварда вызывают во мне острую боль. Потому что известно, что и сколько за ними стоит. И конфликт, который на протяжении главы охладил отношения Эда и Эл касательно всей ситуации, тоже очень понятен. Эл вся - сердце, она чувствует, что вот сейчас - самые что ни на есть мгновения жизни, и ее мечта стать матерью вот так внезапно осуществилась. Конечно, она видит в Мариусе сына. С самого начала видела. Это невероятно трогательно не в слезливо-сентиментальном смысле, а опять же в своей правде, в том, что это - кусочек счастья для несчастной Эл, и это надежда и возможность приподняться после потерь для Мариуса, это тот опыт, который жизненно необходим им обоим. Иначе и здесь быть не могло. Эл — именно раскрытое сердце. И ничто не может заставить ее действовать иначе. Да, я тут сама говорю про "делать", "собраться". Но когда на плечах столько всего, то иногда это становится совсем невыносимой тяжестью. Ценно и радостно для меня то, что Эл и Эд теперь, даже будучи в непонимании, иначе ведут себя. Оба. Переживают не меньше, но внешне ведут себя иначе. И за всем этим — громадное понимание боли другого, сочувствие, несогласие с ним и любовь. Второй раз меня пробило, когда Эд вновь вспоминал об аварии своих родителей. Теперь его мысли были сконцентрированы вокруг отца. И эти говорящие без всяких слов подробности... Как он аккуратно уложил его руку... Как ему пришло осознание, что на горячая, потому что на самом деле уже остыла, но ее нагрело солнце... И страх, и ужас, и боль, и оцепенение, которое приносит потеря, и то таинственное действие любви, которое выражается в горе. Спасибо, что так сочувствуете Эдварду. Мне безумно больно за него. И я очень горжусь им. Тем, как он смог, — пусть неровно (а ровно не будет уже никогда) — собрать себя напополам с этой утратой. Не люблю мелодраматическиих сцен, с криками "на разрыв аорты". Но в таких движениях, как здесь, деталях, взглядах, касаниях руки, мыслях — гораздо больше правды. Они, в то же время, очень точно характеризуют Эда. И воспоминания эти накрывают Милна все чаще. Значит, и его прочность подтачивается. Шокировал эпизод с Эрихом, вот же подонок, мало из него Эд сделал отбивную? Кстати, вспоминаю, что я была уверена тогда на боксерском поединке, что Эд его именно что насмерть избил (и, кажется, сам Эд так решил поначалу). Сейчас допускаю, что Эд (и я) подумал так, потому что пережил внутри ту ненависть и остервенелую ярость, которая и доводит человека до возможности совершить убийство. Внутри переступлена какая-то грань, и это пугает. Не успела я задуматься, испытываю ли облегчение, что Эд все-таки не убил Эриха, как эта скотина (пардон, но мерзавец же) вваливается в сюжет и самым варварским образом ведет Эда на пытки... просто потому что может. Просто потому что он не Зофт, который удовлетворился бы ответами Эда и отступил до поры, а потому что сделал именно то, чего Зофт себе не позволяет: выбесило его, что Эд явно умнее, находчивее и проворнее, и просто использовал право сильного. А вот там Эрих — во всей своей красе. Конечно, нет разницы (только внешняя) между ним и Зофтом. И, кстати, говоря о Зофте, скажу, что он еще себя "проявит". Так, как Эриху не снилось и не думалось. Я думаю, в конце поединка Милна ослепило его эмоциональное состояние, мысли об Элис, и знание, что он убивал, и — много. Именно поэтому в конце боксерского раунда у него нет никакой радости от победы, с которой его поздравляли буквально на каждом шагу. Да, — это Хайде, и он враг. Но и в отношении к нему Милн не испытывает жажды убийства. Ну, а Эрих, как видим, ни в чем себя не сдерживает. Тем больше, что знает за собой именно все то, что так бесит его в Харри — ум, утонченность, выдержку, настоящую силу. Поэтому Хайде делает то, что в его власти. Может увести на допрос. И уводит. И, конечно, долгая партия с Зофтом может привести к последствиям попросту необратимым и гораздо более страшным, чем сеанс избиения за десять метров от собственного рабочего места, однако вот это отсутствие всяких правил, беспринципность, звериная жестокость и тупая сила... Это страшно. Страшно, страшно... Нам все еще необычно отсутствие морали и правил. И пока это так, мы остаемся людьми. А вот это "могу" Эриха стоит именно на том, что в его власти допросить Кельнера. Неважно, виновен он или нет. Само чувство власти и безнаказанности (хоть забей до смерти) таких мразей пьянит. И да, это страшно. |
|
|
Anna Schneiderавтор
|
|
|
h_charrington 2 часть.
Показать полностью
Интересен был отрывок от лица Зофта, как всегда, мурашки по коже пробегают, когда благодаря мастерству автора как бы влезаешь в шкуру зверя. Так было с Биттрихом, с насильником в Хрустальную ночь, теперь вот - очередной хищник. Умный, самовлюбленный, уверенный, что он идет на жертву ради "искусства контрразведки", просиживая часы в неудобной машине. Спасибо за комплимент тексту. Меня же искренне не перестает изумлять вот это непробиваемая уверенность и вера нацистов в то, что они заняты правым делом, и что все, сделанное ими — во имя истины и торжества справедливости. Вот как они смогли так откалибровать свои мозги, все извратить в сути своей? Зато какая красивая и эффектная сцена погони! Как Эд выложился на все сто! Такое опасное и красивое сочетание предельного риска и максимального контроля... Да, я вторила словам Эл: "Никогда не видела тебя таким..." Вспомнила сцену, где Руфус катает Росауру на метле)) Обстоятельства у них, конечно, куда как благоприятнее, здесь-то у Эда ни толики "лихачества ради лихачества". Он спасает их жизни, но в то же время играет с огнем. Он дает нам увидеть на пару мгновений, в каком адском напряжении он живет каждодневно, и этот порыв, от него веет такой жизненной силой, жаждой, скоростью... Вспоминаю о том, как Эд увлекся гонками вскоре после смерти родителей, чтобы на грани жизни и смерти ловить этот адреналин и чувствовать себя живым. Мне кажется, это была главная потребность у него и сейчас. Постоянно играть роль, быть на пределе контроля, оберегать Эл, оставаться сильным, невозмутимым, несокрушимым... Вот так красиво и пугающе прорвалось это напряжение. Взрослый мальчишка тоже нашел способ отпустить накопившееся напряжение:) Есть в Милне этот неутихающий азарт, даже в окружающих обстоятельствах. И эту его остроту, этот кураж, любовь к риску и смелость на грани отчаянности и опасности, я очень в нем люблю. В этом тоже — та самая жажда жизни, о которой вы упомянули. В общем, девочки любуются такими мальчиками:) И в такие моменты — особенно. Улыбнулась той сцене с Руфусом и Росаурой:)) Кому метла, а кому автомобиль. Транспорт роздан согласно времени действия. И я тоже думаю, что чисто по-мужски для Эдварда это важно: выдерживать всё, стараться еще больше. Не только ради себя, но ради любимой Эл. Быть мужчиной и оставаться им, оставаться сильным, быть именно тем, к кому Эл может прибежать ночью, перепуганная от собственных волнений, или сказать: "объясни мне, я, кажется, совсем запуталась". А он улыбнется и объяснит. Знакомство с Кете вселяет веру в сильных, несломленных людей, которых изрядно пинала судьба, но они не сдались. В ее положении она может подвергнуться насилию, преследованию, быть заключенной в тюрьму, лагерь, а то и вовсе быть расстерелянной, в любой момент, но она упорно и неутомимо делает свое дело. Кете Розенхайм — это реальная личность. И место ее работы, и детали ее биографии, все — от реальной Кете. Она в самом деле занималась программой "Киндертранспорт", она помогла огромному количеству людей. И не уезжала из Берлина до самой последней, крайней минуты. Сопровождала детей в поездках, и могла бы выехать сама. Но возвращалась, и помогала снова и снова. Только когда ей уже совсем грозила смертельная опасность, она выехала из Берлина вместе со своей мамой. На таких чудесных людях и держится наш мир. Однако встреча с феей, конечно, заставила и улыбнуться, и удивиться. Ну, Эд прав, ничего не попишешь: все мужчины теряют голову от Агны Кельнер, он по себе знает))) И то, как этот с иголочки одетый, запакованный в твидовый костюмчик британец вдруг потерял дар речи, способность мыслить трезво и связывать слова последовательно, было даже забавно, вот только, увы, чары Агны не привели к нужному результату: вместо того, чтобы пасть перед ней на колени и спешить выполнить любой каприз, Фоули отказал ей и весьма жестко, отказал в присутствии своей подруги Кете. Быть может, подумал, что его пытаются перевербовать?...)))) Да, эта линия однозначно цепляет и интригует. Хотелось хотя бы где-то, хоть капельку иронии и улыбки. И тут, — бац! — Фрэнк:)) Его, кстати, чувства к Агне доведут до отчаяния, и он предпримет свой рискованный поступок. Но... не могу не подчеркнуть, какой щемящий осадок оставляет последняя фраза Эда, что таких вот мгновений у Эла и Мариуса, а там и у них, уже, может и не будет. Конец 38 года. Через полгода уже начнется Вторая мировая война. А до конца истории (каждый раз с тоской смотрю на оглавление) осталось всего три главы... И мне и хочется, и колется листать страницы дальше. Слишком страшно за героев - раньше, хоть с ними и происходили самые ужасные вещи, а все-таки объем книги располагал к надежде, что они как-нибудь выберутся. Но теперь... неужели вот-вот будет подведена черта?.. Мне безумно больно было заканчивать историю моих ребят. Я очень остро и долго все это переживала. Но, работая над этими главами, знала: они — завершающие. Я вам очень благодарна за такое искреннее, неравнодушное прочтение истории. Очень не хочется расставаться с таким собеседником и читателем, как вы. Могу предложить в качестве нового текста (если, конечно, вы захотите читать) "Хрупкие дети Земли". Космоса там совсем немного, и только в первой главе. А истории о людях, по сути, все те же: со своими взлетами и падениями, со своим светом и со своей любовью. И, конечно, незаурядный главный герой, с ярко-голубыми глазами:) Спасибо за отзыв! |
|
|
Здравствуйте!
Показать полностью
Давно прочитала главу, но не сразу нашла время, чтобы написать отзыв. Тем более ощущения были очень тягостными от первой части, где идет мучительное погружение в самые жуткие воспоминания Эда... Честно, в какой-то момент натурализм и звериное удовольствие, которое получал риф от пыток Эда достигли такой грани, что читать стало почти невыносимо - в хорошем смысле слова, поскольку эффект оглушительный получился. Это ни в коем случае не воспринимается как "чернуха ради чернухи", это вновь мучительный, я полагаю, и для автора, и для читателя эксперимент - взглянуть на происходящее глазами палача, а не жертвы, и мы, лишенные сочувствия к герою, глазами которого смотрим на мир, должны в подробностях впитывать каждую секунду его злодеяния. Мы уже проходили это с Биттрихом, с Ханной, с бандитом из переулка, с Зофтом, и вот - безымянный риф. Которого, несмотря на жуть сцены, можно понять (не оправдать, но понять... до тех пор, пока он не переходит грань человечности и не становится сущим зверем. Потому что одно дело - защищать свою землю и уничтожать врага, а другое - вот это хищническое, садистское извращенное удовольствие от причинения мук другому живому существу). война, которая ведется в отрыве от понятий долга, чести и моральных законов, всегда будет войной зверей. Долгие годы, века, земля рифов была разменной монетой "цивилизованных" людей. Которые и в середине 20 века фотографируются с головами рифов. И считают себя проводниками Культуры именно что с Большой Буквы. Ох, тема колониализма и "бремени белого человека" - очень болезненная и приводящая меня в возмущение, по сути-то недалеко ушедшая от истории нацизма. Мне кажется очень важным, что в вашей книге линия Эда проходит в нацистский Берлин именно через войну с рифами, хотя в Европе тех лет тут и там творились зверства, вполне себе предвещавшие ад 2МВ. Но мне особенно кажется ценным, что Эд, скажем так, побывал по обе стороны баррикад. Он выступил (почти невольно) на стороне поработителей, захватчиков, которые пришли в чужую землю как хозяева, хотя не имели на это никакого иного права, кроме варварского права сильного. Конкретно Эд, быть может, не совершал военных преступлений, но, как на любой войне, он убивал, только вопрос, ради чего и ради кого. Просто потому что приказали, потому что направили. Солдату не пристало задумываться, за что он убивает врагов, правда?.. или благодаря опыту 20 века этот вопрос все же выходит за рамки риторического? Конечно, читая о мучениях Эда, попросту нечеловеческих (признаюсь, некоторые моменты я просто не смогла прочитать, зная, что у меня бывает непредсказуемая реакция на натуралистические описания ранений - прости, Эд! Вот видишь, я, например, не смогла полностью испить твою чашу...), невероятно ему сочувствуешь, но больше задаешься в конце концов вопросом: почему, почему люди становятся как звери? Почему причиняют друг другу столько боли, страданий, почему в них (да что уж там, в нас) столько вражды и ненависти? Где предел, "доколе"? Такое ощущение, что предела нет. И боль терзает Эда всерьёз, как будто всё это было не то что вчера, а вот прямо сейчас, пока он спал в объятьях Элис. Страх, боль и ненависть вырывают его из призрачного покоя, отнимают у него и без того сосчитанные уже минуты нежности и радости. Бедный Эд, бедная Элис! Сердце ее привело к нему, она почувствовала, что он не справляется, что он ослаб, что ему больно и тяжело. Но вот правда, как в такое "впустить" другого человека? Даже не то что пустить... рассказать-то можно. Можно описать. Даже такими вот страшными, жестокими словами. Вопрос скорее, а поможет ли, если другой человек будет об этом знать? Насколько это безотказный способ, когда мы поверяем душу другому? Очень велик риск столкнуться с непониманием, преувлеличенной жалостью или любой другой реакцией, которая, ну вдруг, сделает только хуже? Быть может, и не всегда обязательно душу наизнанку выворачивать, бередить раны? Просто тот, другой, должен смириться, привыкнуть и с пониманием отнестись к этим состояниям, болям, страхам своего избранника. Не торопить, не сетовать, не закрывать глаза. И... не думать, что это когда-нибудь пройдет. У меня в черновиках Росаура говорит Руфусу: это пройдет. А он отвечает: лучше жить так, как будто не пройдет. И мне видится в этом не пессимизм или упадничество, а трезвый взгляд и мужество. Если у человека отрублена рука, он не живет с мыслью, что она когда-нибудь снова вырастет. Он приноравливается быть одноруким. Не называя себя "здоровым", кстати. Эта честность, которой, мне кажется, в наше время очень старательно избегая, на каждую проблему придумывая кучу других названий, лишь бы не называть проблему проблемой, что в итоге это сводится не к решению ее, а наоборот, к усугублению. Мне кажется, мы на протяжении всей истории еще не видели Эда настолько слабым. Говорю это безо всякого, Боже упаси, разочарования или укора, он непрестанно заслуживает восхищение, что вообще держится и взваливает все на себя, но его неизменная улыбка, с которой он выходил из страшных переделок и словесных дуэлей с самим Гиббельсом, создавала иллюзию, что его стальные нервы и железная выдержка не могут быть сломлены вообще. Но они истончаются. И здоровье подводит. И это так больно читать и видеть, когда молодой, сильный, красивый человек в своем возрасте уже растратил себя, уже не может с той же легкостью, как и в 20 лет, выйти из кризиса, побороть болезнь, бессонницу, нервозность и тд. Это очень трагично и жизненно, когда человек оглядывается сам на себя и вдруг видит, что он уже "не тот, что раньше". Как ни прискорбно, это касается всех нас. И в мирное время, и в более опасное. Такая неумолимость времени и жизни. В случае Эда и Элис помноженная на беспощадность обстоятельств. Омерзительные попытки Зофта унизить и вывести из себя Эда и Эл вызывают чувство отвращения. Хотелось сказать ему, ну что ж, и ты, "злодееще", оказался червем калибра Ханны, который только и может придумать, чтобы давить беззащитной женщине на ее самое очевидно больное место, и ухмыляться? Этот подлый прием, низкий и грязный, обличает и в высокоумном Зофте и в глупой Ханне людей, которые понятия не имеют, что такое любовь. Им кажется, что спустя пять лет брака Эл и Эд вдруг с их насмешек возьмут и разбегуться? Разули бы хоть чуток глаза свои, увидели бы, что Эд за Эл горой, уж сколько раз их пытались рассорить, развести, но даже измена их брак не расколола, чего ж они... Глупые, мерзкие твари. Простите, иначе язык не поворачивается помягче сказать. Не заслуживают такие чудища мягкости и снисхождения. А Эл и Эд... держитесь, ребята. Держитесь. На фоне пережитого эти гадкие поддевки - как укусы комара слону, но, увы, если укус произведен в больное место, он все равно будет ощутимым. Для Эл бездетность - причем не врожденная, а приобретенная по вине людей и самого времени - это незаживающая рана. Никак этого не исправить. И я просто говорю: слава Богу, сейчас у нас все-таки хоть немного сменился менталитет. Сейчас человек, который попробует осуждать вслух женщину за бездетность, вызовет только осуждение окружающих (я надеюсь), а женщина не будет (надеюсь) испытывать стыд или чувство вины! Боль - да, но это будет ее выбор, а не давление общественности. Ох, как же это гнусно. Эл, мое сочувствие всецело с тобой. Знаете, мне приснилось после этой главы вскоре, что я читаю следующую, и она оканчивается тем, что Эл и Эд на каком-то званом вечере, и вдруг в дом врывается отряд солдат. Всем понятно, что дорога отсюда теперь одна.. И... Эд достает гранату, говорит Эл, что любит ее, и на его улыбке заканчивается глава. И я боюсь открыть следующую, потому что не знаю, что нас там ждет. Вдруг - Эпилог и пара строк? Или мучительное описание последних минут? Вот и сейчас смотрю на две (!!!) оставшиеся главы. Не могу оторваться от этой истории (разве приходится прерываться из-за насущных дел), но как думаю, что там, на следующей странице, сразу так страшно и горько... Потому что ощущение, что жизни Эда и Эл могут оборваться в любую, вот в совершенно любую секунду, очень острое. Особенно после того, как оба они признали, что не хотят обживаться в новом доме... Но еще хуже - думать о том, а вдруг кому-то придется пережить другого, и как это вообще будет возможно для них, как их великая любовь это стерпит? Хотя, что, разве Кайла и Дану не любили друг друга, разве война не обрекала любимых на то, чтобы расстаться навсегда? Это настолько общая трагедия, рядовая, можно сказать, но я просто не могу вместить эту боль, думать, что с этим в те страшные времена столкнулся, считай, каждый.... 1 |
|
|
Anna Schneiderавтор
|
|
|
h_charrington
Показать полностью
Здравствуйте! Часть 1. Тем более ощущения были очень тягостными от первой части, где идет мучительное погружение в самые жуткие воспоминания Эда... Честно, в какой-то момент натурализм и звериное удовольствие, которое получал риф от пыток Эда достигли такой грани, что читать стало почти невыносимо - в хорошем смысле слова, поскольку эффект оглушительный получился. Это ни в коем случае не воспринимается как "чернуха ради чернухи", это вновь мучительный, я полагаю, и для автора, и для читателя эксперимент - взглянуть на происходящее глазами палача, а не жертвы, и мы, лишенные сочувствия к герою, глазами которого смотрим на мир, должны в подробностях впитывать каждую секунду его злодеяния. Я понимаю. Писать подобные моменты очень тяжело. Да, как автор я в момент написания знала, — Эд выжил, выбрался и из той "передряги". Но все же это очень страшно. И дело как раз в том, как рифу нравилось управлять той ситуацией. Я тоже могу понять враждебность к противнику, до определенного момента. Но здесь, как вы верно заметили, мы видим иное: удовольствие от расправы, с которой рифа никто не торопил, и торопить не мог. Это наслаждение болью другого. Пытка физической болью. Да, Милн тоже убивал на той войне и потом, он пришел, как и другие французы с испанцами, как сторона силы, с расчетом на выигрыш. Только вот выигрыш в таких битвах, — всегда за теми, кто управляет такими солдатиками. Как у Высоцкого: Будут и стихи, и математика, Почести, долги, неравный бой. Нынче ж оловянные солдатики Здесь, на старой карте, встали в строй. Вот и там, в Фесе или в Марокко, они — такие же солдатики. Я не оправдываю Эда, мне в этой ситуации важно было, как автору, решить иное: показать, как появились те шрамы, что у него остались. Не знаю, возникают ли у читаталей вопросы об этом по мере чтения текста, но мне, как автору, было важно дать ответ и на эту ситуацию. И та война, в самом деле, очень сильно повлияла на него. В общем, мы видим, что это событие — из ряда тех, что всегда с ним. И как Эл (если проводить параллель между ними и тем, что с ними происходило в их 18-19 лет) навсегда запомнит домогательства Гиббельса, случившиеся в самое первое ее время в Берлине, так и Эд будет дальше нести в себе след той войны. Мне кажется очень важным, что в вашей книге линия Эда проходит в нацистский Берлин именно через войну с рифами, хотя в Европе тех лет тут и там творились зверства, вполне себе предвещавшие ад 2МВ. Но мне особенно кажется ценным, что Эд, скажем так, побывал по обе стороны баррикад. Он выступил (почти невольно) на стороне поработителей, захватчиков, которые пришли в чужую землю как хозяева, хотя не имели на это никакого иного права, кроме варварского права сильного. Конкретно Эд, быть может, не совершал военных преступлений, но, как на любой войне, он убивал, только вопрос, ради чего и ради кого. Думаю, и тогда, и позже, повзрослев, оказавшись в Берлине, Эд понимает: та война, как и всякая другая колониальная, — на обогащение. Ему, мальчишке, как и испанским нищим мальчишкам, которых гнали на войну, с той битвы "ничего": умерли? И ладно. А за счет того, что Милн, как вы сказали, побывал по обе стороны баррикад, я уверена: никакого удовольствия от убийства рифов он не испытывал. Ни тогда, ни позже. И он — такая же разменная монета. Я пишу это, и понимаю, что если бы не Эд, столь близкий мне герой, я написала бы иначе. Потому что для меня всегда это вопрос: вольный или невольный ты участник войны? Я не особо верю в прозрение или раскаяние пленных, и сегодняшних, со стороны ВСУ, в том числе. Я не хочу их слушать. Но здесь, в случае Милна, для меня все иначе. И все же, такой злости, зверства, что показывает риф, в нем нет. Я ни разу не замечала в нем удовольствия или наслаждения от боли другого, даже противника. Даже если это Хайде, к примеру. И, хотя, по крайней мере, во Второй Мировой ясно, что чему противостоит (для Эда тоже ясно), выходит, что та, рифская война — очередная "просто война". А Франция и сегодня мучительно не хочет отпускать свои колонии. Которые сегодня уже типа и не колонии. Конечно, читая о мучениях Эда, попросту нечеловеческих (признаюсь, некоторые моменты я просто не смогла прочитать, зная, что у меня бывает непредсказуемая реакция на натуралистические описания ранений - прости, Эд! Вот видишь, я, например, не смогла полностью испить твою чашу...), невероятно ему сочувствуешь, но больше задаешься в конце концов вопросом: почему, почему люди становятся как звери? Почему причиняют друг другу столько боли, страданий, почему в них (да что уж там, в нас) столько вражды и ненависти? Где предел, "доколе"? Такое ощущение, что предела нет. Я тоже не поклонник таких описаний. Но лично мне, как автору, было нужно и важно это прописать. Быть со своим героем не только в минуты радости или шутки, но и в такие. Особенно в такие. И задача автора здесь — выдержать и записать. У читателя есть право отойти в сторону, пропустить, если тяжело, а у автора — нет. У него есть вместо этого обязанность пройти со своим героем все пути. Всё увидеть, всё договорить. У меня всё последнее время ощущение такое же: пределов нет. Даже если читать новости быстро. Читаешь и думаешь: как это возможно? И ответа нет. И боль терзает Эда всерьёз, как будто всё это было не то что вчера, а вот прямо сейчас, пока он спал в объятьях Элис. Страх, боль и ненависть вырывают его из призрачного покоя, отнимают у него и без того сосчитанные уже минуты нежности и радости. Бедный Эд, бедная Элис! Сердце ее привело к нему, она почувствовала, что он не справляется, что он ослаб, что ему больно и тяжело. Но вот правда, как в такое "впустить" другого человека? Даже не то что пустить... рассказать-то можно. Можно описать. Даже такими вот страшными, жестокими словами. Вопрос скорее, а поможет ли, если другой человек будет об этом знать? Насколько это безотказный способ, когда мы поверяем душу другому? Очень велик риск столкнуться с непониманием, преувлеличенной жалостью или любой другой реакцией, которая, ну вдруг, сделает только хуже? Быть может, и не всегда обязательно душу наизнанку выворачивать, бередить раны? Просто тот, другой, должен смириться, привыкнуть и с пониманием отнестись к этим состояниям, болям, страхам своего избранника. Не торопить, не сетовать, не закрывать глаза. И... не думать, что это когда-нибудь пройдет. У меня в черновиках Росаура говорит Руфусу: это пройдет. А он отвечает: лучше жить так, как будто не пройдет. Да, я тоже думаю, что для Эда нет временного расстояния между его страшным "прошлым" и тем днем, который для него — сегодняшний. Всё это поразительно об одном, по сути. В Элис, опять же, уже почти ничего не осталось от той юной девочки, только приехавшей в Берлин. А если осталось, то это глубоко спрятано. И теперь она выдерживает такие происшествия. Если раньше Эд все больше помогал ей, а она пряталась за него в поисках защиты, пожимая руку украдкой, то теперь она спасает его. Таков долг. Любви, долг человека. Долг той, что знает всё лучше всех, и обязана, — скрепив свои страдания и страхи, — помочь и превозмочь. Да, Эдвард — сильный. Но иногда даже самому сильному нужна помощь. Я думаю, что о войне Эд никогда не скажет Эл. Не потому, что она не поймет. "Благодаря" Берлину она многое сможет понять и без слов. Но как это объяснить, какими словами выразить? Эда во многом поддерживает именно любовь Элис в настоящем. А то его прошлое, стань оно известно Эл, отяготит их двоих. Лучше его оставить там, где оно уже есть, — в прошедшем времени. В ответе Руфуса мне видится очень много Руфуса и истинной правды. Я согласна с ним. И с вами. Сегодня мы, как будто, все пытаемся сказать себе и другим: как бы чего не вышло. Не говорить прямо. Не говорить серьезно. Не пугать. "Давайте не будем о грустном". Можно, конечно. Только где в этом правда? И настоящее? Или мы всегда будем стоять за этот удобный инфантилизм? Из серии "на Украине нацизма нет". Нет, что вы. Просто так поклонники Гитлера с флажками, да в ночных шествиях ходили. Но вы не бойтесь, это совсем не опасно. Мне кажется, мы на протяжении всей истории еще не видели Эда настолько слабым. Говорю это безо всякого, Боже упаси, разочарования или укора, он непрестанно заслуживает восхищение, что вообще держится и взваливает все на себя, но его неизменная улыбка, с которой он выходил из страшных переделок и словесных дуэлей с самим Гиббельсом, создавала иллюзию, что его стальные нервы и железная выдержка не могут быть сломлены вообще. Но они истончаются. И здоровье подводит. И это так больно читать и видеть, когда молодой, сильный, красивый человек в своем возрасте уже растратил себя, уже не может с той же легкостью, как и в 20 лет, выйти из кризиса, побороть болезнь, бессонницу, нервозность и тд. Это очень трагично и жизненно, когда человек оглядывается сам на себя и вдруг видит, что он уже "не тот, что раньше". Как ни прискорбно, это касается всех нас. И в мирное время, и в более опасное. Такая неумолимость времени и жизни. В случае Эда и Элис помноженная на беспощадность обстоятельств. Да, здесь он слаб от усталости, устал от взятой на себя тяжести. И взято все это по причине того, что кроме него — никто. А он, как и все, — просто человек. Который и без того не дает себе ни минуты покоя, который взрастил в себе это долженствование гораздо выше собственных нужд или желаний. Это и накопительный эффект. Чувствовалась, к моменту написания этой главы, громаднейшая усталость от всего. Иногда я даже не знала, как мы из этого выйдем. И выйдем ли. А страшнее становится именно от того, что и такие сильные, как Милн — устают. И за собой, конечно, все эти перемены от времени примечаешь. Но сдаваться все равно нельзя. Даже если не видно пути. 1 |
|
|
Anna Schneiderавтор
|
|
|
Часть 2.
Показать полностью
Омерзительные попытки Зофта унизить и вывести из себя Эда и Эл вызывают чувство отвращения. Хотелось сказать ему, ну что ж, и ты, "злодееще", оказался червем калибра Ханны, который только и может придумать, чтобы давить беззащитной женщине на ее самое очевидно больное место, и ухмыляться? Этот подлый прием, низкий и грязный, обличает и в высокоумном Зофте и в глупой Ханне людей, которые понятия не имеют, что такое любовь. Им кажется, что спустя пять лет брака Эл и Эд вдруг с их насмешек возьмут и разбегуться? Разули бы хоть чуток глаза свои, увидели бы, что Эд за Эл горой, уж сколько раз их пытались рассорить, развести, но даже измена их брак не расколола, чего ж они... Глупые, мерзкие твари. Простите, иначе язык не поворачивается помягче сказать. Ничего:) Я про Ханну и не так еще думала. Про Зофта нет, потому что как-то предпочитала не тратить на него сил. Просто сесть, написать и увидеть, как с ним будет в конце истории. Зофт, в силу своего ума, конечно, не похож на Хайде, которого ненависть и жажда мести уже накрывает. Зофт выглядит этаким "достойным противником", но, как видно, ничего он не гнушается. Да и зачем, если все эти "приемы" так для него естественны, привычны? Уколы Ханны на счет бездетности Эл, еще можно хоть как-то списать на ее эмоциональную жестокость и тупость, и зависть, и дикую ревность. Но тут... "мужчина"... Не нашел, как и безумная Ланг, ничего лучше этих мер? Про любовь в отношении Зофта и Ханны и таких, как они, даже говорить не приходится. Это просто что-то несовместимое. Внешне — люди. А внутри ничего нет. Одни директивы да настройки нацизма. И вместе с тем, я очень рада той потрясающей, настоящей близости, что установилась между Элис и Эдвардом. Это то, чего я им всегда желала. Но в иные, очень острые и страшные моменты, совсем не была уверена, что они смогут дойти до такого сближения. Потому что, к примеру, после измены Эда, у меня не была уверенности и в том, что они смогут быть вместе. Так, как того требует разведка (если говорить об их общем деле; а чувств Элис и Эдварда тогда и касаться было страшно). А Эл и Эд... держитесь, ребята. Держитесь. На фоне пережитого эти гадкие поддевки - как укусы комара слону, но, увы, если укус произведен в больное место, он все равно будет ощутимым. Для Эл бездетность - причем не врожденная, а приобретенная по вине людей и самого времени - это незаживающая рана. Никак этого не исправить. И я просто говорю: слава Богу, сейчас у нас все-таки хоть немного сменился менталитет. Сейчас человек, который попробует осуждать вслух женщину за бездетность, вызовет только осуждение окружающих (я надеюсь), а женщина не будет (надеюсь) испытывать стыд или чувство вины! Боль - да, но это будет ее выбор, а не давление общественности. Ох, как же это гнусно. Эл, мое сочувствие всецело с тобой. Спасибо большое. Они держатся. Конечно, слова, какими бы сильными ребята ни были, доходят в какой-то степени до цели. Но... нужно именно держаться. Непозволительно, как бы больно ни было, перед лицом настоящих угроз, тратиться на Зофта. Он этого и добивается, конечно. Я думаю, что менталитет наш, на деле, в смысле бездетности, сменился именно "немного". Но хорошо, что возможностей, свободы у женщин стало больше. Знаете, мне приснилось после этой главы вскоре, что я читаю следующую, и она оканчивается тем, что Эл и Эд на каком-то званом вечере, и вдруг в дом врывается отряд солдат. Всем понятно, что дорога отсюда теперь одна.. И... Эд достает гранату, говорит Эл, что любит ее, и на его улыбке заканчивается глава. И я боюсь открыть следующую, потому что не знаю, что нас там ждет. Вдруг - Эпилог и пара строк? Или мучительное описание последних минут? Вот и сейчас смотрю на две (!!!) оставшиеся главы. Не могу оторваться от этой истории (разве приходится прерываться из-за насущных дел), но как думаю, что там, на следующей странице, сразу так страшно и горько... Потому что ощущение, что жизни Эда и Эл могут оборваться в любую, вот в совершенно любую секунду, очень острое. Особенно после того, как оба они признали, что не хотят обживаться в новом доме... вам очень признательна за такое искреннее отношение к героям. Удивительно, что вам приснился сон о них. К сожалению, все идет к завершению. Как бы горько и больно это ни было. И состояние ребят именно такое, как вы сказали: все может окончиться, оборваться в любую минуту. Остается в таких случаях только все та же надежда. Призрачная она или нет. Правда, Скримджер? К сожалению, страданий в том времени столько, что, кажется, не перечесть. И много было любящих до Элис и Эдварда, и много после, кто терял своих. Но они — всё, что у них есть. У Эдварда есть только Эл, у нее — только он. И, я думаю, ни один из них без другого не сможет. По-настоящему. Да, можно сказать про "надо жить, жизнь на этом не заканчивается...", но... если честно. С чего вы взяли, что на смерти любимого человека она, на самом деле, не заканчивается. В этом тоже проглядывает та честность, о которой сказал Руфус. Спасибо вам! 1 |
|
|
Отзыв к глае 3.17
Показать полностью
Здравствуйте! Вот знаете, от чего страшно? От того, что осталась одна глава. И если предчувствия Элис верны, и случится что-то плохое, то очевидно, что оно подведет черту под судьбами всех героев. Если бы дальше еще нащупывались страницы, они давали бы надежду, что и сбывшиеся дурные предчувствия еще не означали конец. А здесь... Очень хочу ошибаться. Очень хочу верить, что герои, несомненно заслужившие счастливый финал, его обретут, и не будет никакого упавшего неба в их конкретном случае. Нет, разумеется, небо упадет, когда начнется Вторая мировая война. И слишком многих это небо придавит. И странно, наверное, сравнивать, взешивать, какая смерть страшнее - на поле боя или в концлагере, от голода в осажденном городе или в подвалах гестапо. В этой истории нам были продемонстрированы различные, разнообразнейшие грани ужаса, страха, боли, стыда, вины, ненависти и утраты. Но все-таки грани любви, доверия, икренности, храбрости и человечности куда как удивительне и ярче. В первом случае все сливается в беспросветный мрак и задавливает ледяной тяжестью. Во втором же случае красота и свет раскрываются всё более полно и разнообразно - как в приземленно-бытовых сценах, так и в моментах нравственного подвига. Для меня сильнейшими сценами, остаются всё же не эпизоды насилия, жестокости и страха, а эпизоды примирения между Эдвардом и Элис, воспоминания Эда о его родителях (пусть прочно связанные с их гибелью, но все же эти сцены больше о любви, чем о смерти), воссоединение с Кайлой, потом - с Мариусом, воспоминания Элис и доктора о том, как она попала в больницу, теряя ребенка (опять же, казалось бы, крайне трагическая сцена, но в ней ведь неимоверно много любви)... Да, свет, которым полна эта глава, стал для меня прекрасной неожиданностью. Я ожидала Зофтов из-за каждого угла, я ожидала подлости от Ханны, ожидала жестокости от начальника Эда, ожидала непокорства и ошибки Мариуса, ожидала подности от Фоули, ожидала печальную гибель надежд на спасение Дану (и вообще на его обнаружение). Но из раза в раз то, что уже привычно было видеть черным, оказывалось белым, и это такое чудо!.. Даже стыдно немного за себя, что, как и Элис, в этом пытаешься найти какой-то подвох, сложно даётся вера в хорошее, в то, что всё получилось, каждый раз поправляешь себя и добавляешь это подлое "почти". Наверное, редко мне хотелось, чтобы история не оправдала моих ожиданий (точнее, сомнений и страхов) и подарила мне счастливый финал, который для такого маловера, как я, точно будет незаслуженным)) Помню, похожее переживание незаслуженного счастья со мной случилось, когда я читала самиздатовскую историю про Титаник, и там главными героями были дети, которые подружились во время его плавания, и, несмотря на страшную катастрофу, в конце все-таки спаслись и даже вновь встретились. Чудо? Чудо. И почему мы редко пишем о чудесах? Будто это что-то "недостоверное". Мне кажется, тут важнейшим фактором выстуает личная вера автора и способность читателя довериться истрии. Чудо особенно явно себя проявляет именно в самых безвыходных обстоятельствах. Быть может, действительно хорошие истории и должны учить нас не терять надежды, а не просто бить нас лицом об асфальт страшной реальности. К сожалению, лично у меня писать о чудесах вот вообще никак не получается. Я как-то пять лет переписывала одного своего бегемота, чтобы хоть немного уйти от тотального мрака в финале и дать персонажам хоть маленький шанс, если не на счастливую жизнь, то хотя бы на возрождение души. Вот и с Руфусом и Росаурой у меня никак не получается выплыть на что-то жизнеутверждающее. Но что это я всё о финале, стоит обратиться к событиям главы. Просто хотела сказать, что даже если финал все-таки выбьет почву из-под ног и обрушит небо, свет, который пролился на нас в этой главе, останется в моем сердце. Начну, пожалуй, с Фоули. Я читала о нем и думала, Боже, неужели редчайший человек в этой истории ,который, влюбившись в Агну, не проявил своей животной стороны? Это заслуга его как англичанина или просто как человека с более укорененными ценностями, чем у всех этих нацистских вырожденцев? В общем-то, его влюбленность - это пресловутый "солнечный удар", в ней очень много страсти, которое доводит Фоули до беспомощности, однако воодушевляет его на решительные поступки: да, он все-таки состряпал нужный документ, но вот интересно, если бы не влюбленность в Агну, он бы махнул рукой на судьбу мальчика и беременной Кайлы? И вот это его: "я хотел увидеть вас еще раз, прежде чем..." Как ни крути, мне видится тут эгоизм влюбленности, слепота страсти, и разве это не ставило Агну в унизительное положение? Думаю с содроганием, что будь Фоули чуть больше подлец, с него бы сталось сделать Агне непристойное предложение в обмен на подписанные бумаги. И еще вопрос, вдруг Агна бы на это пошла? Ради Кайлы, ее ребенка и Мариуса? Просто интересно, когда вы планировали историю, вы не рассматривали такой, более "асфальтовый" вариант? И ведь наверняка именно так, подло и грязно чиновники всякого пошиба торговали своими услугами те жестокие годы. И мне стоит сердечно поблагодарить вас, что вы не пошли по этому пути. Вы вновь выбрали показать нам чудо, которое сотворила влюбленность, пусть и не самая "идеальная". Это ведь несравненно лучше, чем если бы возникла ситуация, о которой сходу подумало мое заляпанное всякой грязью сознание, когда появился персонаж Фоули и его реакция на Агну. Отдельно хочу сказать о сцене Эл и Мариуса. Невероятно эмоциональная сцена, в которой и горечь, и любовь, и страдание, и утешение. Мариуса нельзя не понять. Его боль беспредельна. И так ценно, что он выговорился Эл, раскрыл ей свою боль, рассказал об этом страшном эпизоде с гибелью матери... Выплакался. И в то же время Эл. Насколько она мудра и искренна! Она не пытается Мариуса поучать, не пытается ему что-то насаждать. Не боится признаться в собственных страхах и тем самым возложить на него надежду, довериться. Да, Мариус благодаря разговору с Эл теперь чувствует свою ответственность не только за свою жизнь, которая сейчас ему кажется ничего не стоящей, но и за жизни своих благодетелей. Они все повязаны, и Эд, и Эл, и Мариус, и Кайла, и Кете, и Дану, да, кто-то выступает в роли спасителей, а кто-то в роли жертв, но по факту от действий каждого зависит жизнь остальных, здесь нет тех, кто менее важен или более пассивен. Очень ценно, что Мариус это понял. И, конечно, для него это тоже подвиг - отложить месть ради доверия и спокойствия его чудесной феи-крёстной. Момент, когда Эд по факту приказал Ханне сделать все, чтобы освободить Дану, наполнил меня торжеством. Ханна, как ни пыталась взбрыкнуть и диктовать свои условия, в итоге оказалась послушным орудием в руках того, кого столько раз пыталась погубить, что своей любовью, что своей ненавистью. И все из-за чего? Ее низменное преклонение перед чинами. Стоило Эду сказать, кто он теперь, так она заткнулась и на задних лапках побежала выполнять. Конечно, вопрос еще, не предаст ли, не раскачает ли лодку, но в моменте это быа маленькая победа над маленькой гадиной, которая не по своим размерам много крови подпортила. Наконец, воссоединение Кайлы и Дану... Пронзительно и будто за гранью реальности. Вновь чудо, чтобы увидеть которое нужно иметь веру. Даже если это чудо на один день, и завтра все обрушится, оно стоило того, чтобы его дождаться и пережить. Спасибо вам огромное! 1 |
|
|
Anna Schneiderавтор
|
|
|
h_charrington
Показать полностью
Здравствуйте. Очень хочу верить, что герои, несомненно заслужившие счастливый финал, его обретут, и не будет никакого упавшего неба в их конкретном случае. Мне интересно будет узнать ваше мнение после прочтения заключительной главы, но, мне кажется, небо нам всем вместе все-таки удалось удержать. Хотя, конечно, вы правы: дальше — война. В этой истории нам были продемонстрированы различные, разнообразнейшие грани ужаса, страха, боли, стыда, вины, ненависти и утраты. Но все-таки грани любви, доверия, икренности, храбрости и человечности куда как удивительне и ярче. В первом случае все сливается в беспросветный мрак и задавливает ледяной тяжестью. Во втором же случае красота и свет раскрываются всё более полно и разнообразно - как в приземленно-бытовых сценах, так и в моментах нравственного подвига. Для меня сильнейшими сценами, остаются всё же не эпизоды насилия, жестокости и страха, а эпизоды примирения между Эдвардом и Элис, воспоминания Эда о его родителях (пусть прочно связанные с их гибелью, но все же эти сцены больше о любви, чем о смерти), воссоединение с Кайлой, потом - с Мариусом, воспоминания Элис и доктора о том, как она попала в больницу, теряя ребенка (опять же, казалось бы, крайне трагическая сцена, но в ней ведь неимоверно много любви)... Спасибо вам за такое внимание и воспоминание о светлых моментах. Очень счастлива знать, что самое сильное впечатление у вас остается именно от светлых моментов, а не от темных. Да, воспоминания Эдварда о гибели родителей полны боли и страдания, но в том, как он вспоминает о маме (с нежностью и любовью), об отце (с печалью и, может, даже пиететом) говорит о том, что даже такие, безумно тяжелые происшествия, как бы, может быть, удивительно и странно это ни было, дают нам в итоге своеобразную точку опоры. Да, боль. Но и любовь. Эдвард проносит все это в своем сердце. Это тоже, может быть, наряду с огромной любовью к Эл, не позволяет ему очерстветь сердцем, перейти на сторону зла. Недолго думая, как, к примеру, Стивен. Во всех эпизода, что вы вспомнили, наряду с болью есть любовь. И если любовь больше, то я могу только порадоваться, что это так. Да, свет, которым полна эта глава, стал для меня прекрасной неожиданностью. Я ожидала Зофтов из-за каждого угла, я ожидала подлости от Ханны, ожидала жестокости от начальника Эда, ожидала непокорства и ошибки Мариуса, ожидала подности от Фоули, ожидала печальную гибель надежд на спасение Дану (и вообще на его обнаружение). Но из раза в раз то, что уже привычно было видеть черным, оказывалось белым, и это такое чудо!.. Даже стыдно немного за себя, что, как и Элис, в этом пытаешься найти какой-то подвох, сложно даётся вера в хорошее, в то, что всё получилось, каждый раз поправляешь себя и добавляешь это подлое "почти". Наверное, редко мне хотелось, чтобы история не оправдала моих ожиданий (точнее, сомнений и страхов) и подарила мне счастливый финал, который для такого маловера, как я, точно будет незаслуженным)) Я верю и хочу верить дальше, что свет всегда сильнее. Может, это наивно. Но без этого невозможно, если мы хотим жить. А в людях ужасно сильна жажда жизни. И, конечно, можно было бы "подсыпать" зофтов везде и всюду, но есть же, действительно есть и в нашей, и в мировой истории примеры потрясающего мужества, невероятной душевной силы. Они — без фанфар. Просто делают свое дело. Как, во многом, Эд и Эл, чуждие тщеславия и признания, рискующие самой жизнью ради помощи другим. Не потому, что хотят казаться какими-то правильными, а потому, что они действительно неравнодушны. К Мариусу. К Кайле. К Дану. Та война окончила Победой. Великой Победой, стоившей очень много. Об этом нужно помнить. Поэтому, даже если это выглядит наивно (?), Эд находит Дану, а все вместе они противостоят нацизму. И почему мы редко пишем о чудесах? Будто это что-то "недостоверное". Мне кажется, тут важнейшим фактором выстуает личная вера автора и способность читателя довериться истрии. Чудо особенно явно себя проявляет именно в самых безвыходных обстоятельствах. Быть может, действительно хорошие истории и должны учить нас не терять надежды, а не просто бить нас лицом об асфальт страшной реальности. К сожалению, лично у меня писать о чудесах вот вообще никак не получается. Мне очень хочется верить именно в это, в чудо. Мы привыкаем к плохому слишком легко и слишком быстро. А вера и надежда, свет, — требуют куда больших усилий. Я думаю, вы очень правы: хорошие, настоящие истории, в основе своей, учат нас и вере, и надежде. Даже вопреки всему. И даже если все окончится гибелью главного героя, в ней будет то, что преодолеет тьму. Повторю: в той войне победи свет. Нам нужно помнить именно об этом. Может, со временем, и у вас получится написать о чуде? И вот это его: "я хотел увидеть вас еще раз, прежде чем..." Как ни крути, мне видится тут эгоизм влюбленности, слепота страсти, и разве это не ставило Агну в унизительное положение? Думаю с содроганием, что будь Фоули чуть больше подлец, с него бы сталось сделать Агне непристойное предложение в обмен на подписанные бумаги. И еще вопрос, вдруг Агна бы на это пошла? Ради Кайлы, ее ребенка и Мариуса? Просто интересно, когда вы планировали историю, вы не рассматривали такой, более "асфальтовый" вариант? Да, соглашусь: есть в словах Фоули эгоизм. Причем крайний, отчаянный, даже непримиримый. Он знает прекрасно и осознает, что поставлено на карту вместе с его подписью, но позволяет себе эгоизм влюбленного: хочу! И все. С одной стороны ужасно, и совсем его не рекомендует с положительной стороны, а с другой стороны... так понятно. Я совершенно, абсолютно не не думала о непристойности со стороны Фоули. Вот совсем. Потому что этого нисколько не было со стороны самого Фрэнка. Не потому, что он — англичанин и "хороший", а немцы непременно "плохие", а потому что таков сам Фрэнк. Такова суь его влюбленности в Агну. Он влюблен именно так: непонятно, вдруг, нелепом, наивно, "глупо", в обход всей логики и здравого смысла. И именно эта влюбленность не позволяет ему совершить подлость. Это — его мерило, показатель того, каков он. Он не идеален, конечно. Но в Агну он влюблен именно так. И подлости в отношении нее он даже не мыслил. Потому и не знаю, что ответить вам на другой вопрос: сделай Фрэнк однозначное "предложение", пошла бы на него Агна? Пишу: "думаю, да...", и радуюсь, что Эл, чудесной Эл не пришлось ни давать ответ на этот вопрос, ни даже задумываться над ним. Спасибо Фрэнку за его чистую влюбленность, не мыслившей зла. Отдельно хочу сказать о сцене Эл и Мариуса. Невероятно эмоциональная сцена, в которой и горечь, и любовь, и страдание, и утешение. Мариуса нельзя не понять. В Мариусе оказалось море юной, самой горячей мужественности. Конечно, она "замешана" на влюбленности в Агну, но это позволяет ему, даже в его положении, не выглядеть жертвой, и взять на себя, как на мужчину, требуемую долю ответственности. Я очень рада, что он понял и услышал Агну. Не скатился в свою боль, не стал ее растягивать. А собрался и сделал то, что нужно было. Рада и за Эл, потому что она, как вы сказали, смогла в определенной степени довериться ему. Сколько всего ей пришлось вынести... где-то же на этом пути должна быть остановка. И вот, влюбленный, замечательный мальчишка, горячий, как и положено юности, помогает ей, как может. Как она его просит. Момент, когда Эд по факту приказал Ханне сделать все, чтобы освободить Дану, наполнил меня торжеством. Могу сказать, что, в таком случае, мы торжествовали вместе: Эд, я и вы:)) Он же просто лучится этим торжеством, не удерживается оно в нем. Это как и ответ за все, сделанное Ханной, и как ответ всему, чему Эд и Эл противостоят. Люблю очень эту куражность в Милне, просто любуюсь им. Наконец, воссоединение Кайлы и Дану... Пронзительно и будто за гранью реальности. Вновь чудо, чтобы увидеть которое нужно иметь веру. Даже если это чудо на один день, и завтра все обрушится, оно стоило того, чтобы его дождаться и пережить. Автор никак не может и не хочет навредить своим героям. Да, пусть они не главные, но было очень важно сохранить их во всех тех событиях. Очень этого хотелось. Спасибо вам огромное! И вам спасибо:) 1 |
|
|
Здравствуйте!
Показать полностью
Думала, буду писать: не верю, не верю, что роман завершён, но вот парадокс - он завершён так красиво, нежно и светло, что слово "конец" в кои-то веки не ассоциируется со свистом гильотины. Завершение истории Эда и Эл это даже не тот покой в светлой грусти, который заслужили Мастер и Маргарита Булгакова, а это самый настоящий праздник жизни, надежды и света, пусть тихий, укромный, но и нельзя сказать, что замкнутый только на них двоих... точнее, троих))) Виновники этого торжества - и Кайла с Дану, и Мариус и крошкой Майей, и Кете с ее матерью. Да, на пороге война, и самые разрушительные бедствия еще впереди, но в финале этой истории лежит прообраз Победы. В финале истории уже есть "мир спасенный, мир вечный, мир живой", который будет помнить о страдании и жертве, о пределах, которые хочет яростно испепелить злоба, и которые все равно возводит добро и справедливость. После прочтения вашего романа мне хочется писать именно такие слова, которые почему-то зачастую считаются набившими оскомину, обесценившимися. Это все клевета; слова "справедливость", "любовь" и "добро" не могут обесцениться. Могут выхолоститься души, которых крутит от одного упоминания этих слов, вот и всё. Ещё бы я добавила к празднующим и родителей Эдварда. Он перестал отгоражить воспоминания о них от своей нынешней жизни, впустил их, символически произнеся их имена, будто призвав стать частью своей новой радости. Боль и любовь, как мы говорили, почти нераздельны, потому что любовь, чтобы преодолеть смерть и горечь, вынуждена с ними соприкасаться, даже, я бы сказала, их покрывать. Это очень тесный контакт, неразрывная связь, в которой вода камень точит. Боли, этого яда, разлито вдоволь по всей нашей жизни. Любовь - единственное противоядие. Любящий набирается мужества соприкоснуться с болью того, кого юбит. Вобрать ее в себя, как губка вбирает кровь с раны. Это тяжело, это настощяий подвиг любви. Сколько раз его совершали Эд и Эл? Сколько раз преодолевали обстоятельства, людей и самих себя, чтобы продолжать спасать друг друга - не только из тяжелых ситуаций, ловушек и угроз для жизни, но и каждодневно... Все сцены, где они ночью спят, и то одному, то другому вдруг плохо, накрывает волна ужаса и паники, а тот, кто рядом, протягивает руку и сторожит сон, наполнены любовью и светом. Это тот малозаметный подвиг, который да, не требует завалить большого страшного дракона (Зофта, Биттриха, Хайде, насильника с улицы), но требует придушить змею паники, неверия и отчаяния, которая приползает во мраке и душит. На протяжении всей истории герои боролись не только с внешним, таким очевидным врагом, но и со своими внутренними демонами. И Эл, и Эд, пусть разлчиные внешне, оба были хрупки и уязвимы, как каждый из нас. Более того, чем ближе к кульминации и финалу, я бы сказала, что с одной стороны, они истончались, не вполне могли оправиться от полученных ран, становились еще более хрупкими, а с другой стороны обретали в себе, точнее, друг в друге стальной стержень, укрепление, поддержку, которая стоит десанта вооруженных до зубов спецназовцев. Они друг для друга стали ангелами-хранителями, вот и все. Когда я читала эту главу, признаюсь, у меня прям сердце сжималось от тревоги. Особенно когда дошло до званого вечера в доме мод мадам Гиббельс. Во-первых, у меня случилось жуткое дежавю, потому что мне ведь это приснилось, когда я еще не добралась до этой главы. Уже что-то мрачное и пророческое. Во-вторых, настолько мощно передано плохое предчувствие Эл, по нарастающей, что я будто с ней под руку вошла в этот адский притон, и каждая смена кадра, сцены, заставяла меня с замиранием сердца приостанавливаться, просто чтобы продышаться. Знаете, такой накал, когда закрываешь рукой страницу книги, чтобы не дай Бог не подглядеть развязку? Мне тут повезло, что я с телефона читала, и могла на экран выводить предложения по мере прочтения, но если бы (ах, если бы!) ваша книга была в бумажном виде, я бы точно ее всю истерзала от тревоги и неумолимого стремления быть вместе с героями в каждом мгновении. Говоря про жуткую сцену схватки с драконом, хочу отметить, как верно тут, на мой взгляд, выведена природа зла. Этот Зофт, который успешно долгое время изображал из себя "не такого как все", слишком умного и слишком далекого от простых человеческих слабостей злодея, здесь рухнул в ту же грязь, что и его предшественники. Банальная похоть, зверская, мерзкая, отвратительная зараза, которая кажется таким выродкам, как он, вернейшим способом самоутверждения. Мне кажется, то, что каждый из череды злодеев в конечном счете пытался изнасиловать Эл, указывает на тот животный, примитивный и безликий корень зла, который никак нельзя отрицать. Кстати, не могу не отметить, что сокращение имени Зофта, Герх, слишком уж похоже на слово грех. Вот он весь, во всем своем срамном "великолепии": в отличие от других похотливых скотин, эта еще возомнила о себе в гордыни невесть что. Мания величия Герха омерзительна, но как смачно показана... Я наблюдала борьбу Эл с ним, просто не дыша. Я так сопереживала ей, мне было так больно за нее, и в то же время я так гордилась ею, когда она до последнего, до последнего сопротивлялась, била его, царапала ему лицо, плевала в него... Сколько в ней мужества, смелости, чистоты! Такие, как Зофт, должны просто обращаться в прах от прикосновения к таким, как Эл. К сожалению, мы не живем целиком и полностью в духовной реальности. А может, к счастью - ведь иначе нельзя было бы испытать ликование, когда Эд спустил курок, и душа этого ублюдка отправилась плавиться в аду. Скажу, что мысленный монолог Эл перед практически неизбежным тронул меня до слёз, и я так благодарна этой истории за то, что я часто плакала. Для меня это огромная ценность, когда произведение искусства пробивает меня на слёзы. Спасибо вам, что добились этого своим творчеством! На Фоули я злилась поначалу... (имею в виду, его поведение на вечере) но потом он сам себя так бичевал, что я успокоилась. Да, он совершил ошибку. Он не уследил за той, которую полюбил. Эл пережила столько ужаса и почти распрощалась с жизнью отчасти и по недосмотру Фрэнка. Однако то потрясение, которое он испытал, когда увидел, что с Эл сотворил дракон, искупает его провал. И как он плакал в машине... Да, в этих слезах нет ничего мужественного, героического, только жалкое, но тот факт, что человек может плакать, глядя на чужое страдание, говорит о его сердце, о том, что оно не окаменело. Фрэнк ошибся, но его преданность была сильнее этой ошибки. И, самое главное, Эл и Эд не затаили на него обиду за это. К тому же, Фрэнк успел совершить свой подвиг, когда поехал покупать паспорт для Дану. Это крошечная деталь, но какая говорящая - что он отдал кольцо, которое напоминало ему о покойной жене. Больше ничего не сказано о Фрэнке, мы о нем ничего не знаем, и когда впервые встретили, я не заподозрила, что он мог быть женат, тем более, что он вдовец. И он об этом ничего не рассказывает, не вспоминает о своей покойной жене, когда влюбляется в Эл. Однако эта подробность открывает нам персонажа совсем с иного ракурса. То, что Эд, к счастью, так и не испытал, Фрэнк пережил. Мы не знаем, как и почему умерла его жена. Но какой бы смерть ни была, это трагедия, это утрата, это боль на всю жизнь, которая тем сильнее, чем сильнее была любовь. А то, что Фрэнк Фоули умеет любить, мы знаем. ..просто ради интереса пошла загуглила имя Фрэнка, потому что мне оно казалось смутно знакомым. Оказалось, что это реальный британский шпион, сотрудник посольства в Берлине, который помогал бежать евреям из Германии... Невероятный опыт - воспринять как живого персонажа романа, а потом узнать, что это и был рельный человек! Это, конечно, камень в огород моей непросвещенности, но как приятно благодаря вашей истории вновь и вновь раздвигать границы познания. И я также стала больше узнавать о программе Киндертраспорт. Спасибо! Линия Кайлы, Дану и Мариуса тоже не давала мне вздохнуть спокойно. Очень эффектно был введен отсчет по дням. Как и Эл, дурные предчувствия сгущались в моей душе, как тучи. Я боялась каждого нового предложения, ведь сколько всего могло бы произойти, что разрушило бы все планы, все надежды! А по сути-то что были бы эти планы без гигантской силы надежды? Судьбы Эл и Эда, вплетенные в мастшабную историю главного бедствия человечества, остались судьбами частными. Нет, они не спасли десятки сотен несчастных. Но на их примере мы увидели, что спасти и четверых - это величайший подвиг, это сила, это мужество, это риск, это готовность отдать свою жизнь за крохотный шанс, что это спасет другого. Так зачем измерять подвиги в количестве, когда это в первую очередь качество души. О таких душах, о таких судьбах, хочется читать, хочется к ним прикасаться. Чудо новой жизни, которое было даровано Эду и Эл тогда, когда они уже и не надеялись, когда уже смирились, тоже вызвало у меня слёзы. Я смогла прожить эту радость с Эл и Эдом, потому что мне она знакома лично. Это несказанное чудо, и вы нашли нужные слова, чтобы запечатлеть его в сердце читателя. Спасибо вам, что финал осчастливен еще и этим событием. В нем и предельный символизм, и предельное правдоподобие. Спасибо. Теперь все-таки скажу: не верится, что история окончена, потому что я сроднилась с ней, с героями, но мне спокойно, потому что я знаю, что у них все хорошо. Она окончена именно так, как мы и надеяться не смеяли, поэтому столько радости и облегчения, и вера в то, что Эл и Эд будут наконец-то счастливы всецело, хотя жизнь, что в мире, что в войне, имеет свои испытания, и боль сопутствует нам до самого конца в тех или иных проявлениях, однако я сполна прочувствовала светлую мощь такого финала. Спасибо, что не омрачили его ничем от слова совсем. Мне кажется, благодаря таким историям, как ваша, известна целительная сила искусства. 1 |
|
|
Anna Schneiderавтор
|
|
|
h_charrington
Показать полностью
Часть 1. Здравствуйте! Думала, буду писать: не верю, не верю, что роман завершён, но вот парадокс - он завершён так красиво, нежно и светло, что слово "конец" в кои-то веки не ассоциируется со свистом гильотины. Я очень хотела счастья для моих ребят. Опять же, по самой простой и великой причине, известной нам: та война окончилась Победой. Да, война принесла громадное горе всему миру, но все же, все же — Победа. Это — главное. Завершение истории Эда и Эл это даже не тот покой в светлой грусти, который заслужили Мастер и Маргарита Булгакова, а это самый настоящий праздник жизни, надежды и света, пусть тихий, укромный, но и нельзя сказать, что замкнутый только на них двоих... точнее, троих))) Виновники этого торжества - и Кайла с Дану, и Мариус и крошкой Майей, и Кете с ее матерью. Да, на пороге война, и самые разрушительные бедствия еще впереди, но в финале этой истории лежит прообраз Победы. В финале истории уже есть "мир спасенный, мир вечный, мир живой", который будет помнить о страдании и жертве, о пределах, которые хочет яростно испепелить злоба, и которые все равно возводит добро и справедливость. А мне лично совершенно не по нраву тот покой, что у Мастера. Не люблю. Не нравится он мне и как герой. Ну да ладно. Конечно, все мы понимаем: война грянет, и скоро. Элис и Эдвард это понимают очень отчетливо. Но сила самой жизни непреложна, неостановима: человеческое сердце вне жизни не стучит, а пока оно живо, всегда есть надежда и вера. У меня есть ответ на вопрос о том, что дальше будет с Элис и Милном. И, может быть, позже я наберусь сил и сяду за продолжение их истории. Но пока — так. Все устали: и они, и автор. На последних главах невозможность, невыносимость Берлина стала такой тяжелой, очевидной, душной, что хотелось только бежать из того смрада, без оглядки. Даже Эдвард, с учетом всей его выдержки, уже истончался. Мне лично безумно дорого, что удалось спасти дорогих Кайлу, Дану, их тогда еще нерожденную девочку, и, конечно, Мариуса. А Кете с ее мамой, к счастью, спаслись и в реальности. И чем больше было положено для Победы, — сил, труда, души, жизни и любви, — тем отчаяннее и сильнее хочется, чтобы никогда мы не забывали о том, какой стала та Победа. Да, мы в полной мере никогда, быть может, не сумеем оценить ее громадность, масштаб. Но к этому нужно стремиться. И, конечно, взаимное счастье Эл и Эда. То, что они станут родителями... не смогло мое сердце не дать им этого счастья (если возможно считать, что автор — хозяин текста:). После прочтения вашего романа мне хочется писать именно такие слова, которые почему-то зачастую считаются набившими оскомину, обесценившимися. Это все клевета; слова "справедливость", "любовь" и "добро" не могут обесцениться. Могут выхолоститься души, которых крутит от одного упоминания этих слов, вот и всё. Спасибо за чудесные слова. Это не они выхолощены. Это мы теперь, — часто, к сожалению, — такие. Очень жаль, что так. Правда. Любовь никогда не перестает. Ещё бы я добавила к празднующим и родителей Эдварда. Он перестал отгоражить воспоминания о них от своей нынешней жизни, впустил их, символически произнеся их имена, будто призвав стать частью своей новой радости. Боль и любовь, как мы говорили, почти нераздельны, потому что любовь, чтобы преодолеть смерть и горечь, вынуждена с ними соприкасаться, даже, я бы сказала, их покрывать. Это очень тесный контакт, неразрывная связь, в которой вода камень точит. Боли, этого яда, разлито вдоволь по всей нашей жизни. Любовь - единственное противоядие. Любящий набирается мужества соприкоснуться с болью того, кого юбит. Вобрать ее в себя, как губка вбирает кровь с раны. Это тяжело, это настощяий подвиг любви. Сколько раз его совершали Эд и Эл? Я уверена, что из того, невидимого нам мира, родители Эда очень, по праву гордяться им. Тем, что их сын, их мальчик сумел выстоять и не сломаться. Сильно раненный, но никогда не сломленный. Все же, с учетом всех потерь, сильный духом и живой, — в громадной степени от любви Эл, за которую ей бесконечная благодарность, — живой сердцем. Но смог. Он преодолел, он выстоял, он не перешел во тьму. Он несет в себе то, чему они, родители, учили его. И это его личная, ничуть не меньшая, чем наша общая, человеческая, победа. Словами не передать, как я рада, что он смог открыть Эл свою боль о родителях. О Рифской войне, уверена, так и не скажет. Но о маме и папе сказал. И, думаю, сердце его стало еще живее, полнее и больше. Он теперь и сам — папа. Спасибо Эл, что вместила его боль в свое сердце. Смогла, сумела, приняла и выдержала. И любви стало больше. Я думаю, это бесценно — искреннее разделение такой боли. В этом — сила любви. Может, любовь настоящая о боль закаляется сильнее. Все сцены, где они ночью спят, и то одному, то другому вдруг плохо, накрывает волна ужаса и паники, а тот, кто рядом, протягивает руку и сторожит сон, наполнены любовью и светом. Это тот малозаметный подвиг, который да, не требует завалить большого страшного дракона (Зофта, Биттриха, Хайде, насильника с улицы), но требует придушить змею паники, неверия и отчаяния, которая приползает во мраке и душит. На протяжении всей истории герои боролись не только с внешним, таким очевидным врагом, но и со своими внутренними демонами. И Эл, и Эд, пусть разлчиные внешне, оба были хрупки и уязвимы, как каждый из нас. Более того, чем ближе к кульминации и финалу, я бы сказала, что с одной стороны, они истончались, не вполне могли оправиться от полученных ран, становились еще более хрупкими, а с другой стороны обретали в себе, точнее, друг в друге стальной стержень, укрепление, поддержку, которая стоит десанта вооруженных до зубов спецназовцев. Они друг для друга стали ангелами-хранителями, вот и все. Иначе они не могли. Просто вот так они любят друга. Учатся этому, в том числе, проходя и через свои ошибки: непонимание, замкнутость, эгоизм, одиночество, горечь. И тем более ценна их близость. Их любовь, как любовь вообще, наверное, единственное, что можно противопоставить войне, всем видам мрака и боли, утраты. Это, как вы и сказали, подвиг. Незаметный, тихий, "на двоих". Но ежедневный, постоянный, иногда очень трудный. Не всегда он может получится из-за нашего эго, но кроме любви, что могло спасти Элис и Эдварда? Эд, при всей его силе — человек. Он не всемогущий. И на него можно было найти "управу". К счастью, этого не произошло. А если сердце — пусто, то и управа будет, может быть не нужна. В той войне противостояние не только физическое, но духовное. Душевное. Изжив намеренно в себе все человеческое, нацисты хотели уничтожить мораль, чувство, правду, любовь. К счастью, не смогли. И не смогут. И, как вы верно заметили, ближе к заключительным главам ребята становились все тоньше. Терпения и сил — все меньше. Даром, что не тревожили друг друга разговорами об этом, но все же видели, понимали, чувствовали. 1 |
|
|
Anna Schneiderавтор
|
|
|
h_charrington
Показать полностью
Часть 2. Когда я читала эту главу, признаюсь, у меня прям сердце сжималось от тревоги. Особенно когда дошло до званого вечера в доме мод мадам Гиббельс. Во-первых, у меня случилось жуткое дежавю, потому что мне ведь это приснилось, когда я еще не добралась до этой главы. Уже что-то мрачное и пророческое. Во-вторых, настолько мощно передано плохое предчувствие Эл, по нарастающей, что я будто с ней под руку вошла в этот адский притон, и каждая смена кадра, сцены, заставяла меня с замиранием сердца приостанавливаться, просто чтобы продышаться. Знаете, такой накал, когда закрываешь рукой страницу книги, чтобы не дай Бог не подглядеть развязку? Мне тут повезло, что я с телефона читала, и могла на экран выводить предложения по мере прочтения, но если бы (ах, если бы!) ваша книга была в бумажном виде, я бы точно ее всю истерзала от тревоги и неумолимого стремления быть вместе с героями в каждом мгновении. Очень хорошо вас понимаю. Я знала, что Зофт поймает Эл. И как я не хотела это писать! Всё та же тревога, а вместе с ней — знание, что в истории будет именно так, несмотря на мое нежелание. И, да... ваш сон. Но нам не пришлось прощаться с ребятами. Про себя могу сказать, что не знаю, как бы я это перенесла. Накал и предчувствие, о которых вы говорите, и меня не отпускали. Я знала, что буду выцарапывать Эл и Эда с того вечера изо всех сил, до последнего. Но все равно было и страшно, и тошно. Говоря про жуткую сцену схватки с драконом, хочу отметить, как верно тут, на мой взгляд, выведена природа зла. Этот Зофт, который успешно долгое время изображал из себя "не такого как все", слишком умного и слишком далекого от простых человеческих слабостей злодея, здесь рухнул в ту же грязь, что и его предшественники. Банальная похоть, зверская, мерзкая, отвратительная зараза, которая кажется таким выродкам, как он, вернейшим способом самоутверждения. Мне кажется, то, что каждый из череды злодеев в конечном счете пытался изнасиловать Эл, указывает на тот животный, примитивный и безликий корень зла, который никак нельзя отрицать. Да, вы правы. Зофт очень хотел быть, выглядеть, производить и запоминаться именно таким-"не таким, как все". Но... в итоге все то же. Та же грязь, та же похоть. Жестокость, наслаждение болью другого и демонстрация власти. У него это просто, в силу личных характеристик и желаний, вышло дольше, "утонченнее", более завуалиованно. Но как он приказал Агне: "Ешьте, я хочу посмотреть!". А потом заметил ей, что здесь никому и в голову не приходит "заботиться о чистоте своих рук". Во всех смыслах. Тогда, в момент написания, даже мне стало жутко. И при всем этом — ни тени сомнения, ни капли человеческого. Все сломано, осталась только жажда наживы. А насчет изнасилований... меня "умиляло", когда я читала про "чистоту крови" и запрет на связь с евреями. А потом — Хрустальная ночь. И массовые изнасилования. Кстати, не могу не отметить, что сокращение имени Зофта, Герх, слишком уж похоже на слово грех. Вот он весь, во всем своем срамном "великолепии": в отличие от других похотливых скотин, эта еще возомнила о себе в гордыни невесть что. Мания величия Герха омерзительна, но как смачно показана... Я наблюдала борьбу Эл с ним, просто не дыша. Я так сопереживала ей, мне было так больно за нее, и в то же время я так гордилась ею, когда она до последнего, до последнего сопротивлялась, била его, царапала ему лицо, плевала в него... Сколько в ней мужества, смелости, чистоты! Такие, как Зофт, должны просто обращаться в прах от прикосновения к таким, как Эл. К сожалению, мы не живем целиком и полностью в духовной реальности. А может, к счастью - ведь иначе нельзя было бы испытать ликование, когда Эд спустил курок, и душа этого ублюдка отправилась плавиться в аду. Скажу, что мысленный монолог Эл перед практически неизбежным тронул меня до слёз, и я так благодарна этой истории за то, что я часто плакала. Для меня это огромная ценность, когда произведение искусства пробивает меня на слёзы. Спасибо вам, что добились этого своим творчеством! Есть у автора слабость к сокращению имен. Тем более, таких пышных и претенциозных, как "Герхард". Зофт сам себя называл "Герхом". Кто мы такие, чтобы упустить подобное созвучие с "грехом"? То, как Эл сражается с ним, как противостоит ему, вызывает у меня, — несмотря на авторство, — те же чувства и эмоции, что у вас. Спасибо вам! Это не самолюбование, а сопереживание истории, маленькой Эл. И дикое желание, чтобы Эдвард пришел уже скорее. И ее монолог внутренний, просто звенящий от безмолвия, отчаянья и того, что она ожидает после него, у меня снова и снова вызывает и боль, и слезы. Я, когда писала, уже просто мысленно молила: "Эдвард, давай скорее!". И когда он пришел, я выдохнула. Потому что дальше писать не могла. Все, предел. Спасибо вам за такое огромное, искреннее сопереживание героям. Спасибо, что не побоялись всей горечи и всего страха, что есть в истории Эл и Эда, и дошли с ними до конца. На Фоули я злилась поначалу... (имею в виду, его поведение на вечере) но потом он сам себя так бичевал, что я успокоилась. Да, он совершил ошибку. Он не уследил за той, которую полюбил. Эл пережила столько ужаса и почти распрощалась с жизнью отчасти и по недосмотру Фрэнка. Однако то потрясение, которое он испытал, когда увидел, что с Эл сотворил дракон, искупает его провал. И как он плакал в машине... Да, в этих слезах нет ничего мужественного, героического, только жалкое, но тот факт, что человек может плакать, глядя на чужое страдание, говорит о его сердце, о том, что оно не окаменело. Фрэнк ошибся, но его преданность была сильнее этой ошибки. И, самое главное, Эл и Эд не затаили на него обиду за это. Я знала, чувствовала с самого первого появления Фрэнка, — он принесет помощь и добро. Несмотря на все его странные внешние поведения, горячечную влюбленность в Агну. Да, ошибся. Это он сознает сам, это сознает Эд. И Фрэнк чувствует вину и перед Эл, и перед Милном. Думаю, Фоули сам и первый казнит себя больше всех. Да, Эд угрожал ему тогда, в моменте. Но Фрэнк не струсил (несмотря на очевидный страх), он очень помог Эдварду. Он остался с Эл (Агной). И то, как он заплакал над ней, говорит о нем больше всего. Мне его очень жаль, я очень ему сочувствую. И очень благодарна за помощь Элис и Эдварду. Эд и не мог затаить на него обиду: он видел, КАК Фоули успел полюить Агну. Несмотря на свою страшную ошибку, он не желал ей зла. Ни за что. А Элис... о слезах Фрэнка над ней она не знает. Этого не знает и Милн. Пусть это останется сокровенным Фрэнка. Уверена, что Эд рассказал Эл о помощи Фоули. И Элис, несмотря на все "неровности" в поведении Фрэнка, благодарна ему. Даже в машине, когда она и Фоули подъехали к дому, где шел праздник, она смутилась от того, что действительно поняла: он горячо ее любит. И не нашлась с ответом. Потому что сердце ее доброе, а не насмешливое и не злое. Что до кольца, которое Фрэнк отдал за паспорт... есть в этом некий "символизм": заложить кольцо, как память об умершей жене, в помощь той, что он полюбил теперь. Поэтому спасибо Фрэнку огромное. 1 |
|
|
Anna Schneiderавтор
|
|
|
Часть 3.
Показать полностью
..просто ради интереса пошла загуглила имя Фрэнка, потому что мне оно казалось смутно знакомым. Оказалось, что это реальный британский шпион, сотрудник посольства в Берлине, который помогал бежать евреям из Германии... Невероятный опыт - воспринять как живого персонажа романа, а потом узнать, что это и был рельный человек! Это, конечно, камень в огород моей непросвещенности, но как приятно благодаря вашей истории вновь и вновь раздвигать границы познания. И я также стала больше узнавать о программе Киндертраспорт. Спасибо! Спасибо вам! Да, Фрэнк, как и Кете — реальные люди. Они спасали, помогали, рисковали своей жизнью. О них я узнала, как раз, когда искала информацию о "Киндертранспорт". И рада, что таким образом, — кратким отображением в тексте, — смогла упомянуть им и передать благодарность за то, что они делали для спасения людей. Линия Кайлы, Дану и Мариуса тоже не давала мне вздохнуть спокойно. Очень эффектно был введен отсчет по дням. Как и Эл, дурные предчувствия сгущались в моей душе, как тучи. Я боялась каждого нового предложения, ведь сколько всего могло бы произойти, что разрушило бы все планы, все надежды! А по сути-то что были бы эти планы без гигантской силы надежды? Судьбы Эл и Эда, вплетенные в мастшабную историю главного бедствия человечества, остались судьбами частными. Нет, они не спасли десятки сотен несчастных. Но на их примере мы увидели, что спасти и четверых - это величайший подвиг, это сила, это мужество, это риск, это готовность отдать свою жизнь за крохотный шанс, что это спасет другого. Так зачем измерять подвиги в количестве, когда это в первую очередь качество души. О таких душах, о таких судьбах, хочется читать, хочется к ним прикасаться. Я очень полюбила и кроткую, добрую Кайлу, и ворчливого, сумрачного, но тоже доброго Дану. Про Мариуса молчу. Люблю таких мальчишек. Горячих сердцем. Порывистых, живых, самых настоящих. Таким, в какой-то мере и по-своему, был сам Эдвард в юности. Произойти, как вы и сказали, могло все, что угодно. Герои ставили на риск. Отчаянно, без оглядки. Другого выхода и шанса не было. Да, Эл и Эд не спасли многих. Они не спасли ни тысяч, ни сотен, ни "даже" десятков. Но они спасли. И я даже не берусь сказать, что понимаю, какая сила нужна для этого. Но без их помощи не было бы Майи. И не было бы в живых Дану. Кстати, сцена спасения Дану из лагеря. То, как молчаливо Милн вывозит его за эти пределы, потом останавливается, снимает наручники... очень мне дорога. Для меня она вся звучит очень пронзительно. Чудо новой жизни, которое было даровано Эду и Эл тогда, когда они уже и не надеялись, когда уже смирились, тоже вызвало у меня слёзы. Я смогла прожить эту радость с Эл и Эдом, потому что мне она знакома лично. Это несказанное чудо, и вы нашли нужные слова, чтобы запечатлеть его в сердце читателя. Спасибо вам, что финал осчастливен еще и этим событием. В нем и предельный символизм, и предельное правдоподобие. Спасибо. Хочется сказать в ответ на ваши слова: рада служить правде. И особенно счастлива, что получилось найти верные слова. Рада счастью Эл и Эда, рада вашему счастью. Теперь все-таки скажу: не верится, что история окончена, потому что я сроднилась с ней, с героями, но мне спокойно, потому что я знаю, что у них все хорошо. Она окончена именно так, как мы и надеяться не смеяли, поэтому столько радости и облегчения, и вера в то, что Эл и Эд будут наконец-то счастливы всецело, хотя жизнь, что в мире, что в войне, имеет свои испытания, и боль сопутствует нам до самого конца в тех или иных проявлениях, однако я сполна прочувствовала светлую мощь такого финала. Спасибо, что не омрачили его ничем от слова совсем. Мне кажется, благодаря таким историям, как ваша, известна целительная сила искусства. Я бы хотела писать еще про моих дорогих, горячо любимых героях. Но пока их история завершена вот так. Повторю, может, будет продолжение. Но для него нужно много сил. Я уверена, что Эл и Эд будут счастливы. Жизнь бывает самой разной. И очень счастливой она тоже бывает. А когда есть взаимная любовь — все по плечу. Другой финал, думаю, написать бы я не смогла. Не с моими ребятами. Спасибо вам за прочтение, внимание, чуткие, проникновенные слова. Спасибо за неравнодушие к истории, любовь к героям. С самой искренней, огромной благодарностью. 1 |
|
|
↓ Содержание ↓
↑ Свернуть ↑
|