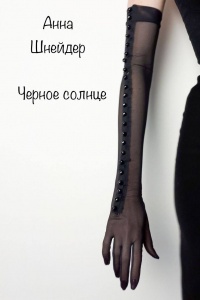





| Предыдущая глава |
↓ Содержание ↓
↑ Свернуть ↑
| Следующая глава |
— Они ничего не поняли, я уверена.
Элис повернула голову, устраиваясь на спине Эдварда поудобнее, и медленно вдохнула его запах.
— Я знаю, как выглядела… Когда он спросил меня о детях. Я контролировала выражение своего лица.
Эл помолчала.
— Жаль, что с ними нельзя поступить так же, как с девчонками из колледжа.
Милн хмыкнул, с удовольствием ощущая на себе небольшую тяжесть обнаженной Эл, и, выпустив в сторону сигаретный дым, посмотрел вверх, туда, откуда слышался ее тихий голос.
— Даже боюсь представить, что ты с ними сделала, — в тон ей ответил Эдвард, опуская руку вниз и стряхивая пепел с сигареты в хрустальную пепельницу, оставленную на полу.
Элис промолчала, но он почувствовал, как она улыбнулась в предрассветной тишине. Проведя пальцами по светлым волосам Эдварда, Эл расцеловала его спину медленной чередой поцелуев, нежно и неторопливо останавливая губы на коже после каждого из них.
— Я с ними дралась, — задумчиво произнесла она и замолчала, может быть, вспоминая то, о чем сейчас говорила. — Они читали мои записи. Хотя… я была еще та…
— Оторва?
— Да… — сказала Эл весело, и посмотрела на Эда, осторожно проводя указательным пальцем по его правому виску, — там, где был заметен тонкий белый шрам, окончанием уходящий вверх, в волосы. Поцеловав шрам, она прижалась к Эдварду.
— А ты? Каким мальчишкой был ты?
Смяв в пепельнице сигаретный окурок, Милн хотел повернуться на спину, но Элис, рассмеявшись, попыталась помешать ему, и обняла его еще сильнее.
— Я… — он замолчал, едва начав фразу.
Время шло, тишина длилась, а Милн, еще чувствуя на себе взгляд Элис, и ее нежные поцелуи, уходил все дальше, в прошлое, о котором никогда и никому не говорил, потому что не знал, какими словами об этом можно сказать. Да и кто захочет об этом знать?
…Память забросила его назад. Не слишком далеко, хотя и это теперь помнилось ему обломком потусторонней, нездешней жизни. Он застал Рифскую войну в Марокко на ее последнем этапе. Колониальная бойня длилась уже четыре года, когда он оказался в пустыне, а испанские, — и союзные французские войска, — в число которых тогда входил и он, правда, обозначенный в них под именем Себастьяна Трюдо, — все еще продолжали теряться в горах Марокко, который хотели захватить и усмирить. Эдварда Милна тогда называли Сэбом, и ему было восемнадцать, почти девятнадцать.
Первое задание после обучения в «Ми-6» для него, Милна-Трюдо, было обозначено кратко: «сотрудник французского посольства; задача — поиск и передача информации». И кто мог знать, что приехав во Францию под видом младшего помощника секретаря французского посольства, которому надлежало исполнять только самые последние, мелкие поручения, он вскоре окажется в этой далекой стране, расположенной, как теперь ему все чаще казалось, в каком-то другом мире, раскаленном от солнца дни напролет?
Он помнил, как в один из дней принес старшему секретарю необходимые документы, и, оказавшись в кабинете, стал с интересом прислушиваться к негромкому разговору двух генералов, перед которыми на столе была раскинута карта с обозначенными на ней путями, которыми французским солдатам надлежало следовать здесь, в песчаном Марокко.
И они бы им следовали. Если бы знали местность. Если бы знали горы, в которых оказалось слишком просто потеряться и исчезнуть, а позже обозначиться в военных сводках растущим с каждым новым днем трехзначным числом «пропавших без вести».
Милн не знал, что страшнее: сгинуть в незнакомых горах или быть пойманным рифами, отлично знающими эти горные тропы? Он не хотел ни того, ни другого. Но он умел читать военные карты, и потому с интересом, прикрытым послушанием и невозмутимым внешним видом, прислушивался к тихому разговору.
Один из генералов, словно учуяв что-то, покосился в его сторону, и посмотрел на него, — длинного и тощего парня, которого в стенах посольства он видел впервые. И уловил главное, — быстрый взгляд, украдкой брошенный на карту. Он перехватил его, преградив ему дорогу своим взглядом, — пронзительным и острым. И у новичка не осталось иного выхода, как опустить глаза, уйти на попятную. Генерал был доволен, но все время, что его коллега шептал ему на ухо возможные пути, которыми французы, соединившись с испанцами, могли окружить рифов в Марокко, он приглядывал за тощим, оставшимся стоять навытяжку на своем прежнем месте.
— Ты. Как твое имя? — резко спросил он парня.
— Себ…
— Это Себастьян Трюдо, генерал. Поступил на службу в посольство три дня назад, назначен младшим помощником секретаря, — ответил за Трюдо старший секретарь, и сдержанно улыбнулся, взглядом приказав выскочке оставаться на месте и не вмешиваться в разговор.
— Разве младший помощник может читать карты?
— Простите, генерал? — переспросил секретарь, проводя ладонью по блестящим от бриолина волосам.
— Военные карты, — нетерпеливо пояснил начальник, делая знак Трюдо. — Подойди. Себастьян подошел ближе, останавливаясь в двух шагах от стола, за которым сидели генералы, и сложил руки за спиной.
— Я видел, как ты смотришь на карту. Что ты знаешь о Марокко?
— Горы, — многозначительно сказал Сэб, и замолчал, сомкнув тонкие губы.
Заметив нетерпение на лице генерала, он пояснил чуть подробнее:
— Местность, о которой идет речь, — это Эр-Риф, насколько я смог заметить. Обширный горный хребет на севере Марокко. Здесь мало знания климата, нужно знать горы.
— Какое нам дело до гор! Мы объединяемся с испанцами и разбиваем этих варваров, вот и все! Все эти горы нам уже ни к чему! — вспыльчиво добавил второй генерал, замахав на Трюдо руками.
— Что вы предлагаете? — уточнил первый.
— Я не имею таких полномочий, генерал.
— Считайте, что я вам их только что выдал… младший помощник.
— Рифы — сильный противник, действующий на своей территории. Они знают горы, они у себя дома. Испанцы, в помощь которым Франция направляет войска, пренебрегают изучением горных троп, считая это напрасной тратой офицерского времени. А это значит, что именно за счет хребта Эр-Риф количество «пропавших без вести» испанцев, а вслед за ними и французов, будет только расти. Если… мы не начнем изучать горы Эр-Риф.
— И кто же их «изучит»? Может быть, ты? — насмешливо спросил второй военный, сворачивая карту.
— А мы его проверим, — добавил первый, который и подозвал Трюдо к себе. — Судя по всему, вы знакомы с топографией?
Сэб кивнул, и светлая прядь упала ему на лоб.
— Военной… обучался.
Второй снова хмыкнул, насмешливо разглядывая Трюдо.
— Неужели вы думаете, что сможете составить пригодную карту прямо там, на месте, в Марокко?
— В военных условиях, генерал, возможно составить вручную изготовленный рисунок, на котором будет представлен примерный план местности. Его можно изготовить копированием имеющейся топографической карты на полупрозрачную бумагу, либо зарисовывать. Правда, во втором случае допускаются погрешности в масштабировании и в пропорциях отображаемых участков местности, но, все же, такой вариант вполне пригоден для качественной ориентировки.
Все это Трюдо произнес без запинки, на едином дыхании, чем немало удивил присутствующих. Для тех же, кто мог знать Себастьяна Трюдо или Эдварда Милна, такая речь могла звучать и вовсе исключительно. Хотя бы потому, что ни Трюдо, ни Милн никогда не отличался особой словоохотливостью. Первый генерал кивнул, второй, как и прежде, хмыкнул, смотря на Сэба как на сопляка, просто вовремя оказавшегося в нужном месте. Вечером того же дня Трюдо сообщили, что завтра он едет в Марокко.
— Зарисуй нам эти чертовы горы, Трюдо, — прищурив глаза от табачного дыма, добавил его начальник, и похлопал Сэба по плечу. — Удачи, парень.
Пожелание оказалось весьма кстати. В первый же день после высадки Трюдо вместе с другими солдатами начал таскать мешки.
— В четыре ряда, клади! Аванпосты, это вам не просто так! — подгоняли их окриками офицеры, присвистывая и притравливая на ходу очередные пошлые байки.
Аванпосты.
Они их построили.
Из мешков, в несколько рядов высотой, как им говорили. Но когда рифы при налете разметали в прах более сорока таких постов, — всего их было около семидесяти, — то убивая солдат на месте, то забирая их в плен, — все оказалось напрасным. Единственным верным словом, оправдавшим свое значение, остались разрушенные аванпосты, — посты, которые действительно первыми приняли на себя удары противника.
И пусть французские официальные военные сводки голосили о «варварстве» и глупости рифов, плененные и убитые французские солдаты, которых было после того налета более четырех тысяч человек, — а прежде них и испанские, — испытали эту «трусость» на себе. У испанских солдат, набранных из числа нищих семей, не было никакой цели в Марокко. Они были кусками мяса, брошенными на съедение потому, что им нечем было откупиться от участия в этой колониальной кампании.У французских солдат, привезенных на помощь испанцам, цели тоже не было.
По-настоящему она была только у рифов. Они защищали свою землю, свою независимость. И потому бились зверски, как в последний раз. Впрочем, никто из противников не уступал друг другу в жестокости.
Притчей, — из уст в уста, — оставшиеся в живых солдаты, передавали друг другу позже подтвердившиеся истории о кастрации пленных, отрезанных ушах, головах, языках…
Передавали, и шли фотографироваться, захватив с собой отрубленную голову рифа или испанца, или француза. А после этого ее нанизывали на шест кровавой болванкой, и оставляли гнить под солнцем у каких-нибудь очередных ворот. Кровь была всюду. Ее было так много, что она вполне могла заменить собой реку Уэгла, недалеко от которой развернулась одна из битв, выпавших на долю Сэба.
Эту реку называли по-разному, — то «Уэргла», то «Уэга». Именно ее Трюдо неизменно, — мелкими и аккуратными линиями, — наносил на очередную схему местности. От всего происходящего голова шла кругом. Разум отказывался вмещать в себя столько криков, боли, крови и напрасных, никому ненужных, страданий.
Закрывая глаза, Трюдо часто видел перед собой кровь. Ему казалось, что она пропитала его насквозь. Да, он не фотографировался с «трофейными» головами рифов, но когда рифы на него нападали, его ответ был таким же, как и ответ других солдат, стоящих рядом с ним на аванпосте: он их убивал. А потом ему снова снилось, что он залит кровью. Сначала по щиколотку, потом — по горло. Через секунду, когда он уже начинал захлебываться и тонуть в кровавой реке, кто-нибудь мог тряхнуть его за плечо, окликнуть резким шепотом по имени.
Тогда он медленно открывал глаза, и оказывалось, что никакой кровавой реки нет. И вообще… никакой нет. Реку Уэгла, — или как там ее называли, — он не видел. Только рисовал ее тонкой и плавной линией на самодельных картах, которые затем передавал в штаб. И не знал, что будет дальше. А дальше, — до того, как аванпост, на котором находился Трюдо, был сначала блокирован рифами, а затем разрушен, — он узнал, что значит умирать от жажды. Удачи, которой ему пожелал начальник из далекого, уже забытого им посольства, хватило на все десять месяцев, что он был на войне в Марокко. Только удачей, — и ничем иным, — Трюдо мог объяснить тот поразительный факт, что он был все еще жив. Именно это время стало для него тем, что нельзя рассказать. Но ярче всего Эдвард запомнил то, как он умирал от жажды.
И не умер.
Или почти.
Кто-то вытащил его с территории разнесенного рифами поста, и он до сих пор не знал, кто именно это был. А сейчас все это казалось таким невероятным… Хотелось знать только одно: настоящую минуту. Чувствовать поцелуи Эл, тепло ее тела. Все остальное было за границей его внимания, и эту границу он внимательно охранял. Аванпост «Трюдо» не был уничтожен, он просто стал выглядеть иначе.
— Я…— повторил Эд, и хотел что-то прошептать, но осекся, вспомнив себя, тринадцатилетнего, в тот день, когда дядя сказал, что его родители попали в аварию.
Он так и сказал «попали в аварию». Слова прозвучали сухо. Они никак не вязались с душным, знойным днем, окружившим Эда и брата его отца. Зной был таким тяжелым, что они смотрели друг на друга из-под ладоней, сложенных над глазами подобно козырькам.
— Что? — спросил Эдвард, морщась от палящих лучей.
Ему показалось, что зной, мерцающий вокруг него душной стеной, исказил его слух, и дядя что-то сказал про аварию родителей. Но нет, ему это наверняка показалось, — отец слишком хорошо водит машину, чтобы попасть в аварию. Но вот эта фраза повторилась снова. Эдвард неровно вздохнул, поперхнувшись раскаленным воздухом, растянул губы в стороны, и замотал головой.
— Ты шутишь?..
— Какие шутки… На загородном шоссе.
Эдвард отмахнулся от слов дяди рукой. Еще цепляя боковым зрением его белую рубашку, он уже бежал через весь сад, к дому. Там, там была тетя, жена дяди, там были люди, взрослые, прислуга… Он забежит в дом, зайдет в гостиную, где тетя читает книгу, и без этого дурацкого, отупляющего зноя, узнает правду: родители едут домой по загородному шоссе.
Эд перепрыгнул через ступени белого крыльца, и вбежал в комнату. Несколько секунд, — что его всегда ужасно раздражало, — ушли на то, чтобы постоять с закрытыми глазами и дождаться, пока перед ним перестанут плавать мутные, зеленые круги.
Ну вот, наконец-то! И… почему тетя повторяет за дядей? Это же не может быть правдой: папа прошел Первую войну, вернулся домой, он выжил там, он архитектор, он отлично водит автомобиль, он и мама просто ездили смотреть новое здание, куда скоро должно переехать архитектурное бюро Элтона Милна.
— Эдвард, мне очень жаль!
Лицо тети сломалось, разваливаясь на части словно по заранее заданным линиям.
Вот он, теперь старший Милн, стоит перед ней. На нем белая футболка и белые шорты, он только что играл на улице в теннис… Вот же, смотри, и ракетку принес с собой, — так и бежал к дому, зажав ее в правой руке. Нет, все неправда и правдой быть не может! Нужно просто… Знаете что? Съездить туда, встретить родителей.
Эдвард кивнул головой, — позже это движение станет его привычкой, которая будет помогать ему сверяться с самим собой и со своими мыслями. Еще один наклон головы, с темнеющими на висках, — от пота, — светлыми волосами. Конечно, это вполне разумно, — нужно только съездить туда, и все узнать самому. В конце концов, все говорят «попали в аварию». Это же не значит, что… Сколько раз он падал с велосипеда, когда разгонялся слишком быстро и ехал, не держась за руль?... Мама так и говорила, — с досадой и беспокойством, — обрабатывая его новые ссадины и беря с него еще одно обещание не ездить слишком быстро:
— Ты снова попал в аварию?
Эд тогда улыбался, внимательно разглядывая вблизи ее красивое лицо с мягкими чертами, и…
Он вернулся на место аварии. Родителей похоронили вчера, а вот куда увезли черный расплющенный кабриолет Stellite, на котором они возвращались в город, Эдвард не знал. На узкой загородной дороге, с одной стороны подбитой высокими горами, а с другой — петлявшим, — и в месте столкновения с автомобилем, разбитым ограждением, остались пятна крови. Крупные и мелкие, они разлетелись по асфальту кляксами, так сильно похожими на острова густой киновари, что у Эда мелькнула безумная мысль: взять кисть и разрисовать все шоссе, насколько хватит сил. Ведь считали же, например, египтяне, что красный — это цвет не только смерти, но и жизни, и потому окрашивали опасных демонов и Изиду, мать мира, бархатной киноварью, яркой и тяжелой, как сама кровь.
Эдвард резко тряхнул головой и посмотрел на свои несуразно-длинные мальчишеские ноги, обутые в громадные ботинки. Где-то рядом птицы захлебнулись трелью, разбавляя морок тяжелого майского дня. Солнце шло на закат, согревая его спину теплыми лучами. Острые лопатки, проступавшие через тонкую ткань рубашки, дрогнули. Он закрыл глаза.
И снова увидел тот день.
От удара автомобиль развернулся на полкруга, отец погиб за рулем, а маму выбросило из кабриолета на дорогу. Когда Эдвард приехал на место, выпрыгивая на ходу из еще не остановившейся машины, на ее белом платье не осталось ни одного светлого пятна, все поглотила кровь…С момента аварии прошло только несколько дней, а он уже плохо помнил детали. Но помнил, как опустился на асфальт рядом с мамой. Хотел ее поднять, и — не смог. Руки стали красными, и он понял, что она умерла. После этого осталось только одно, — побыть с ней, сколько можно. Эдвард подогнул ноги, укладывая маму на них, как на подушку. Ее голова была разбита, и белые волосы, теперь тяжелые и темные, липли к его тонким, дрожащим пальцам. Вокруг суетились люди. Подходили к нему, опускали руку на остроконечное плечо, пытались отнять у него маму. Но он не разрешал. Ему нужно было поговорить с ней о самом важном. И еще попрощаться. Не во время официальных похорон, а так, как мальчик, совсем недавно ставший подростком, пытается отпустить маму, которую еще не успел спросить о громадно многом.
Он забыл, что шептал тогда, склонившись над ней. Помнил только, как отогнал кого-то, выбросив руку, — как узкую плеть, — в сторону. И заметил браслет на запястье мамы. Тонкая нить звеньев кротко заблестела, когда он взял маму за руку. В браслете не хватало камней. Эдвард забрал его с собой, и он золотой, блестящей змейкой неслышно скользнул на дно кармана, сворачиваясь в дальнем углу. А потом снова стало очень шумно, Эдварда с силой подняли на ноги, выталкивая вперед и вверх, подальше от мамы с закрытыми глазами.
Милн пожал плечом. Вышло неловко и смешно. И совсем не было похоже на то, что он хотел сказать этим движением. Чувствуя на себе вопросительно-мягкий взгляд Эл, он уткнулся лицом в подушку, и сел в кровати, поворачиваясь к Элис спиной. Она прижалась к нему, и, поцеловав в точку на спине, снова обняла его, положив ладони на грудь.
— Эд?
Он опустил голову вниз, продолжая молчать.
— Расскажи мне… пожалуйста.
Он посмотрел на ладони Элис, и накрыл их своей рукой.
— Нет.
Она хотела заглянуть в его лицо, но отвернулся от нее.
— Я хочу помочь.
— Нет. Не нужно.
Эдвард поднялся с кровати и тихо добавил, не глядя на Эл:.
— Это не поможет. Слова никогда не помогают. Я… Никогда не был мальчишкой.
Подняв голову, он с вызовом посмотрел на Элисон.
— Ты все обо мне знаешь, Эл. Что еще тебе нужно?
Под резким взглядом его голубых глаз, в эту минуту таких пронзительных и острых от проступившей боли, Элис смутилась. Помолчав, она ответила, старательно подбирая слова:
— Я знаю о тебе только то, что было с момента нашей встречи, но о твоем детстве и… об этом, — она завернулась в простынь, подошла к Милну, и прикоснулась сначала к шраму на его груди, пересекавшим ключицу, а за ним — к тому, что уходил от правого виска вверх, скрываясь в волосах, — ничего… Ты никогда об этом не говоришь. Я хочу помочь, я смогу!
Милн отрицательно покачал головой.
— Нет. Ни к чему об этом говорить.
Взяв Элис за плечи, Милн отодвинул ее в сторону, и вышел из комнаты.
* * *
Когда Эл вошла в большую гостиную, она уже была заполнена звуками мелодии Шопена.
Nocturne No.13, op. 48, No.1
Эдвард часто играл именно этот ноктюрн. Особенно в последнее время, когда поздно вечером или уже ночью они возвращались в дом Харри и Агны Кельнер после передачи очередной шифровки.
Когда мелодия, — в первой части легкая и элегантная, но печальная, похожая на грозные шаги похоронного марша, — начиналась, Эл, где бы она ни была в этот момент, замирала на месте и внимательно вслушивалась в волны бессловесно-страстной истории. Но больше всего ей нравилось окончание второй партии и начало третьей, — в те несколько мгновений, что длился этот переход от грозы — к нежности и тишине, казались ей самыми восхитительными во всей мелодии. А еще она очень любила наблюдать за Эдвардом в те минуты, когда он играл.
Элис любовалась им. Тем, как он, сидя за черным, крылатым роялем Bechstein, который по красоте и элегантности был настоящим произведением искусства, исполнял ноктюрн Шопена. Во второй части мелодии, — сложной и мрачной, со множеством высоких восхождений, движения Эдварда, его длинных, тонких пальцев, были особенно завораживающими.
Чувствуя робость, которую испытываешь в присутствии настоящего, Элис, застыв, слушала мелодию так внимательно, словно хотела навсегда запечатлеть ее в своей памяти. Вот и сейчас, прислонившись к стене, она молча следила за уже знакомыми спадами и подъемами музыки. По лицу Эдварда, сосредоточенному и серьезному, пробежала тень. Вторая часть мелодии, которая требовала высокой скорости исполнения, разлилась вокруг, оглушая своими раскатами гостиную, и с каждым новым тактом поглощая собой все окружающее.
На пике мелодии Эдвард немного сбился с ритма, и сердито тряхнул головой, отчего несколько светлых прядей упали ему на лоб.
Плотно сжав губы, он слегка наклонил голову вниз. Можно было подумать, что он внимательно следит за черно-белыми клавишами, но Элис видела, что взгляд его обращен в невидимое, и, — судя по горячему блеску глаз, — к тому, что неизменно отвлекало на себя все его внимание в те минуты, когда можно было не говорить.
«Нужно быть готовыми, Эл…» — сказал Эдвард несколько дней назад, когда они снова проверяли спрятанные в одном из тайников дома в Груневальде, чемоданы. Один с вещами, другой — с рацией. В памяти Элис промелькнула картинка из того дня. Легкая, похожая на белое, летящее перо.
Подняв голову, Элис вернулась взглядом к лицу Эдварда, и сердце снова дернулось от боли. Ей казалось, что с каждым новым днем он становится еще более одиноким. И ее мучило осознание того, что она не знает, как ему помочь. И что, несмотря на все время, которое они провели вместе, она по-прежнему, как и в день их первой встречи, почти ничего не знает о нем, — настолько неустанно и бдительно Эдвард охраняет свое прошлое абсолютным молчанием от всех других, даже от нее.
Исключением из этого незнания можно было считать лишь то немногое, сказанное им прямо или с намеком, что ей удалось узнать, — а позже и собрать, — в причудливую мозаику разрозненных событий.
Самым полным в этом смысле было воспоминание о том, как во время их большой ссоры, — Эл тогда уехала, а на деле практически сбежала от Эдварда в Лондон после его измены, чтобы, по официальной версии, Агна Кельнер прошла обучение у мадам Гре — Эдвард, проводив ее до дома на Клот-Фэйр-стрит, сказал, что в детстве мечтал стать архитектором, чтобы строить красивые дома, как его отец. Все изменила война, на которую он попал в свои восемнадцать.
Еще несколько подробностей Эл узнала позже, совершенно неожиданно, — в тот день они были уже в Нюрнберге, на съезде нацистской партии, и она рассказывала Милну, что ее брат нашелся. Тогда, во время спора, — Элис помнила это очень ясно, — Эдвард достал серебряную фляжку из внутреннего кармана пиджака, и, открутив крышку, с жадностью выпил ее содержимое до дна. Элис язвительно упрекнула его в том, что он выбрал не слишком удачное время для спиртного… Вспоминая об этом, она до сих пор испытывала жгучий стыд за свои слова.
Алкоголь оказался обычной водой, и Эдвард, отвечая Элисон в тон, сказал, что на той войне он умирал от жажды. С тех пор вода навсегда стала для него настоящей драгоценностью. Спиртное же, наоборот, на Милна не действовало. Но и об этом Элисон узнала случайно, и — позже. К этим воспоминаниям, и к нескольким другим, еще более отрывочным, Элисон Эшби могла прибавить только четыре ночных приступа Милна.
Она посчитала каждый из них. И каждый из них она помнила. Они начинались незаметно, когда Эдвард спал. Он вдруг сильно вздрагивал, то закрывая ладонями лицо, то заводя руку под подушку, — так, словно искал оружие. И его тело, выгнувшись дугой, подбрасывало вверх, а он, оглядывал комнату по кругу широко раскрытыми, невидящими глазами, и с яростью шептал: «Не подходи! Кто идет?!». Когда эта фраза прозвучала во время первого приступа, Элисон испуганно сказала: «Это я, Элис!». Ее ответ был слишком тихим, и она повторила его уже громче, увереннее. Эдвард, повернувшись к ней, бросил на нее все тот же невидящий взгляд. Прошло несколько бесконечных минут, Элис услышала, как Эдвард тяжело выдохнул воздух из груди, и напряжение, сковавшее его лицо и тело, начало понемногу спадать, — так трещал тонкий лед по ранней, весенней реке. От фразы Эл, — «это я, это я… все хорошо», — которую она повторяла медленным, мягким шепотом, и как можно спокойнее, положив руку ему на плечо, а затем, мягко целуя Эдварда в висок, покрытый каплями пота, Милн постепенно расслаблялся и затихал.
Обняв Эдварда, Элис укладывала его на спину, и долго слушала, как его дыхание, в начале сбитое и рваное, подстраиваясь под ее такт, становится глубже и размереннее. Эдвард засыпал и уходил в свои сны, от которых его веки заметно дрожали, а Элис оставалась рядом, не разнимая рук, без сна: только с глубоким дыханием в груди и слезами, которые, скатываясь по одной и той же траектории, бесшумно падали вниз.
Все последнее время мысли Элисон особенно часто занимала эта мозаика, — нескладная, разбитая, острая. Эл возвращалась к ней снова и снова, перебирая в мыслях слова Эдварда, которые можно было бы отнести к тому периоду его жизни, о котором он не говорил, выражения его лица, недосказанные фразы…
Когда Элис пыталась поговорить с ним об этом, — как можно мягче и осторожнее, чувствуя, что его это сильно ранит, — Милн решал вопрос тем способом, который часто приносил ему удачу, и которым он со временем овладел великолепно, — перемена темы, «неожиданный» вопрос о том, что в эту минуту казалось важнее пространных разговоров о прошлом, и… Собеседник, как правило забывал то, о чем хотел спросить. Нужный момент терялся, тонкие минуты, в которые можно было говорить о сокровенном, убегали, и Милн облегченно вздыхал, чувствуя себя при этом как преступник, почти услышавший вынесенный ему приговор.
Но время шло, и Элис пугалась того сравнения, которое все настойчивее возникало в ее мыслях: такое молчание, тяжелое и тяжкое, было похоже на абсолютное безмолвие надгробного камня. Эл очень боялась, что оно поглотит Эдварда своей тяжестью…
Если только он не сможет сказать об этом, хотя бы немного, — хотя бы что-то для того, чтобы облегчить свою боль. Но Милн молчал, а если Элис начинала говорить об этом, он, — как и сейчас, — по-прежнему уходил от ответа. И Эл не могла его за это винить, но все чаще она задавалась мучительным вопросом: сколько еще он сможет так убегать? И что она может для него сделать?
Не отличаясь особой разговорчивостью и в прежние дни, Эдвард стал теперь еще молчаливее. Собранный, сдержанный, сосредоточенный. Хранивший про себя свою горечь, о которой, как и раньше, он не желал говорить. Или не мог.
Сделав движение в сторону Милна, Элис в нерешительности остановилась. Когда мелодия вошла в свой завершающий, тихий и трепетный такт, она беззвучно подошла ближе, и положила руку на черное фортепиано, так похожее на великолепный корабль, плывущий по волнам моря в блестящих отсветах полной, ночной луны.
Скорее почувствовав, чем услышав ее, Эдвард слегка повернул голову в сторону Элис, продолжая смотреть на клавиши и вести мелодию по давно заданному ритму. Черты его лица немного смягчились, что происходило всегда, когда рядом была Эл. Вот улыбка взяла свое начало в правом углу губ, и… Окна гостиной разлетелись в стороны, дробясь под силой взрывной волны на бесчисленное множество осколков.
* * *
Эдвард очнулся не сразу. Сначала пришлось походить в грязной, соленой воде, затопившей собою все вокруг. Там, где он оказался, не было звуков, ориентиров, времени.
Все карты о горных склонах Рифии, которые он когда-либо рисовал, оказались ненужными. Он шел в воде, размахивая руками, — пытаясь разбавить окружающую муть, чтобы хоть как-то различить дорогу, а карты сыпались на него сверху, снова и снова.
У него не было времени на то, чтобы рассматривать их. Он просто знал, что это его карты: маленькие, мятые листы, серые от пыли и грязи. И другие, — большие и белые. «Чистовые», которыми пользовались офицеры из штаба. Грязные рисунки Себастьяна Трюдо перенесены на новые листы кем-то другим, кто долго рассматривал его «карты», часто сделанные неровными линиями, кривизна которых в реальности означала страх, испуг, выстрелы и взрывы. А еще — потерянное время, выпавший из рук карандаш, который надо найти в пыли и в песке, чтобы дорисовать очередную кривую линию.
Дрожащие руки, испуганные лица.
Близкие, слишком близкие взрывы.
От них небо мешается с землей, твой горизонт заваливается набок или одной мгновенной прямой летит в темноту. Если тебя не подорвут напрямую, то взрывная волна все равно найдет тебя. Листы падают сверху, кружатся, уходят на дно. И, поднимаясь, снова находят его для того, чтобы мокрыми, рассыпанными по воде хлопьями, прилипнуть к нему, к его коже, рукам, глазам. Закрыть глаза, сбить с пути, утащить на дно. Потому что по всем расчетам теории вероятности он должен был давно умереть. Тогда почему ты все еще жив, Милн, и упрямо идешь вперед?..
Ты — та самая случайная величина и событие, избежавшее общего числа? Хитрый мальчишка, зачем-то желающий жить. Выходит, Блез Паскаль наврал нам, и ты как-то сумел обмануть его прогнозы выигрыша в азартных играх, а одна из самых страшных игр происходит снова и снова. Ее имя ты, как и миллионы других, знаешь слишком хорошо.
Война.
Мы не учим уроки прошлого. В них случайная величина — исключение, не правило. Где-то в твоем сознании бьется яростная мысль, что все это, — пусть и правда, — но она не может длиться долго. Свет сильнее тьмы. Почему? Ты знаешь ответ, но упорно молчишь. А в нем — всего две буквы имени. Потому что пока ты идешь в воде, время может бежать против тебя. И ты торопишься.
Спешишь.
Стараешься бежать в воде изо всех сил, что у тебя есть, а если их не хватит, и они иссякнут от взрыва, ты перейдешь за пределы.
Ты сможешь.
Ты сильный.
Не мирный, военный мальчик.
Воспитанный большой болью, потерей и одиночеством, ты знаешь, как выживать на войне. Собираться с мыслями во время боя. Держаться, не сдаваться, идти, бежать, прятаться и скрываться.
И потому на другой стороне — так сложно.
Примирить себя с миром, которого у тебя было меньше, чем войны. Примерить его на себя, себя — к нему. Попытайся сделать это, и поймешь, что задача — невыполнима. Нужно говорить, потому что в мире люди говорят. Нужно отвечать, потому что она, — та, чье имя из двух букв для тебя — маяк, сотканный из солнца и рыжего света, хочет знать.
Она не требует ответа, потому что знает, что у нее нет на это права. Но каждый раз, дойдя до обозначенных тобой рубежей, она остается молчать.
Стоять и молчать. И ждать.
И смотреть на тебя, и ждать той минуты, когда ты сможешь заговорить.
Ты сможешь?
Ты, не мирный, военный мальчик?.. Ты знаешь эту темную воду по своему прошлому. В иных обстоятельствах вас можно было бы назвать хорошими знакомыми. Помнишь? Сначала не было ничего, кроме темноты и пустоты. Только звон оглушенного первой контузией сознания и попытка собраться на месте, начиная с той точки, в которой ты теперь оказался. Ты знаешь ее по своему прошлому, вы неплохо знакомы. Может быть, поэтому она снова сдает тебе счастливые карты, и ты, выбравшись на другой берег, все еще дышишь и видишь над собой ее. Имя ее — из двух букв, а вся она — твой маяк.
Большие окна вынесены до основания. По комнате, которая несколько минут назад была красивой, большой гостиной в доме Агны и Харри Кельнеров, гуляет холодный, осенний ветер.
— Харри! Харри! — Агна трясет мужа, вцепившись в его рубашку. — Харри!
Тыльной стороной руки она сбрасывает с лица грязь и набегающие слезы, и снова смотрит на него, не чувствуя, как осколки впиваются в ладони. Где-то близко слышится шум и хохот голосов. Он доходит до Агны рваной звуковой волной, но она не обращает на него внимание. Нужно, чтобы Эдвард очнулся. Она трясет его с такой силой, что его голова отрывается от пола, и снова, с глухим звуком, падает вниз.
Эл осматривает комнату. Глаза сильно слезятся, и она снова и снова смахивает с лица бесцветные капли. От взрыва фортепиано завалилось на сторону. Именно оно спасло их, — закрыло Агну и Харри собой, своим черным, блестящим крылом. Если бы не это, то, может быть, сейчас они были бы уже мертвыми. Но все это она поймет потом.
А сейчас, осматривая комнату неясным от слез взглядом, она ищет что-то, что может помочь. В голове настойчиво крутится мысль о нашатырном спирте и «стимуляторе дыхания». Другая мысль доказывает ей, что это полная чушь, и нужно вытаскивать Эдварда из дома: «Можешь взять его под руки или тащить на одеяле… возьми одеяло… много стекла».
Элис смотрит на себя, обматывает колени подолом платья и очень медленно, по осколкам, отползает к стене. Удерживаясь за нее, она медленно встает.
Голова слишком сильно кружится, и Эл клонит в сторону. Подняться на ноги получается только с третьего раза. Туфли. Хорошо, что на ней до взрыва были туфли. И хорошо, что они на ней сейчас. «Не нужно бояться осколков. Ищи одеяло». Эл оглядывается и, шатко ступая, возвращается к Эдварду. Времени нет. Нужно идти. И забрать чемодан с рацией из потайного кабинета. А небольшой чемодан с одеждой и всем необходимым, — как сказал Эд, когда они его собирали, «на всякий случай», — уже несколько дней лежит в багажнике «Хорьха». Она смотрит на Эдварда с высоты своего роста. На его теле нет видимых повреждений и ран, и Элис застывает на месте, не зная, что ей делать в первую очередь: идти за рацией или вытаскивать Милна из разрушенного дома?
За развалом стены, в которой раньше были окна гостиной, никого нет. Смех, который, кажется, она слышала раньше, стих, а фортепиано, как и прежде, закрывает Милна своим остовом от чужих глаз, и… Элис решается. «Делай, успеешь!» — шепчет она сама себе, забегая в библиотеку, и пытаясь найти в скрытой нише ключ от двери, за которой они хранят чемодан с рацией. Пальцы не слушаются, и, как назло, немеют от волнения, но когда, наконец, Элис удается открыть дверь, она чувствует, как уверенность возвращается к ней, накачивая ее изнутри, словно воздух. Схватив тяжелый чемодан, она со всей возможной скоростью возвращается в большую библиотеку, и снова закрывает скрытую дверь на ключ. Эл рассчитывает вернуться за Эдвардом сразу же, как отнесет рацию в машину, и, увидев его сидящим на полу гостиной, вздрагивает.
— Агна!
Элис бросила чемодан на пол, и подбежала к Милну.
— Живой!.. — прошептала она, крепко сжимая его руку, и проводя ладонью по волосам, засыпанным грязью и осколками стекла.
Эдвард, отстранив от себя Эл, быстро осмотрел ее, и снова порывисто обнял.
— Ты целая?
Она ответила, но фраза заглушилась о его плечо, и теплым облаком вошла в ткань рубашки.
— Я хотела отнести рацию, и вернуться за тобой, — сказала Эл, когда первая волна страха улеглась.
— Да, пойдем! — Милн поднялся, сжимая протянутую руку Элис, и остановился, удерживая равновесие.
— Не спеши. Мы успеем.
Он кивнул, крепче пожимая ее ладонь, и они пошли к чемодану с рацией.
— Стой здесь, я отнесу чемодан и вернусь, — Элис повернула Эдварда спиной к стене.
— Он очень тяжелый, Агна, — попытался протестовать Милн. — А ты… маленькая.
— Я вернусь, — повторила Эл, и Эдвард, закрыв глаза, слушал ее шаги, пока она не ушла слишком далеко.
Когда Элис пришла, он все так же стоял у стены. Правда, не слишком прямо, а немного съехав в сторону.
— Это я.
Она перекинула его руку через свое плечо и сделала пробный шаг.
— Это нечестно… это я должен тебе помогать.
Стекло захрустело под тяжелыми шагами Эл. Вместе они медленно выбрались из дома. На воздухе Милну стало легче, и он, почувствовав себя лучше, убрал руку с плеча Элис так быстро, словно в том, что она его поддерживает, было что-то постыдное. Поглощенные произошедшим в доме, Элисон и Эдвард только сейчас обратили внимание на то, как выглядят ночные улицы Груневальда. Грязные, с разграбленными домами, в которых так же, как и в их доме с синей крышей были разбиты окна и полыхал огонь, — они были, все же, не так изуродованы мародерами, как центральные перекрестки, магазины и многочисленные дома и домики Берлина. Может быть, только пока. Впрочем, все было относительно.
Эту ночь, с девятого на десятое ноября скоро назовут очень красиво, даже несколько романтично, — «хрустальной», — и уже позже, при подсчете урона, нанесенного рейху, конечно же, евреями, — Гиринг оценит его в один миллиард марок, и возложит выплаты на тех евреев, которые в эти страшные часы сумеют выжить, — станет очевидно, что тогда в Берлине для обычных людей не было безопасного места.
Штурмовики и нацисты, переодетые в штатское, с таким азартом крушили витрины еврейских магазинов, синагоги и дома, что весь столичный город был засыпан разбитым стеклом. Уже потом, на утро, многие немцы, прогуливаясь по улицам, станут с улыбками на лицах рассматривать разрушенные здания, витрины магазинов, или — в меру своих человеческих способностей, — пытаться унести то, что не унесли до них.
А пока длилась ночь, длилось и насилие. Людей, посмевших не открыть дверь пришедшим, вытаскивали на улицы и избивали один на один или — толпой, которая не возражала против такого развлечения.
Мужчин забивали до смерти или бросали в камеры, чтобы позже отвезти их в ближайшие лагеря, в том числе и в Дахау, где места для вновь прибывающих были подготовлены заранее. Женщин насиловали и бросали в истерзанном виде там же, где кончали свои забавы. Нюрнбергские законы 1935 года, запрещающие чистокровным арийцам «половые связи» с евреями, в эту ночь массово были нарушены самими арийцами. Оказалось, что сидеть с евреями на одной парковой скамье или ходить по одной и той же улице нельзя, а вот насиловать и убивать их — можно. Что до стариков и детей, то последних для нацистов не существовало. И на следующее после погромов утро можно было без труда увидеть на тротуарах тела детей, пробитые штыками или с разбитыми головами. Они больше не говорили. И не мешали истинным германцам жить.
Стариков заставляли участвовать в очень смешном представлении: опустившись на колени, и взяв зубную щетку в руку, каждый из них должен был чистить тротуар Великого города. Если же он справлялся с этой задачей плохо, то собравшаяся вокруг него толпа, помогала ему громкими оскорблениями, насмешками и ударами.
Но всего этого Элис и Эдвард не видели. Они были уже рядом с машиной, когда позади послышался гвалт и хохот близкой толпы. И если до этой минуты у Элис еще были сомнения в верности своих действий — точно ли стоило бежать или опасность миновала, и они могут остаться в доме? — то теперь она, чувствуя нарастающий страх, и даже не пытаясь рассмотреть тех, кто кричал и шел за ними, ускорила шаг еще больше.
«Делай, успеешь!» — повторила она себе, укладывая чемодан с рацией на заднее сидение «Хорьха».
Эдвард шел на шаг позади нее. И, в отличие от Элис, рассматривал толпу преследователей, — настолько, насколько это было возможно. А еще прикрывал Эл. Потому что помнил, как прицельно могут ранить бутылки с зажигательной смесью, брошенные меткой рукой. Заметив, что добыча состоит всего из двух человек, один из которых, — мужчина, идет неровным шагом, а вторая — девушка, которой вполне можно поживиться, преследователи отошли от горящего «Мерседеса», принадлежавшего Кельнерам, и ускорили шаг, а затем перешли на бег, — когда стало понятно, что еще чуть-чуть, и живность может удрать. В иной ситуации Эл и Эд поменялись бы местами, но сейчас на это не было времени, и за руль, вопреки обычному положению дел, села Элис. Она растерянно посмотрела на Эдварда, рассматривающего толпу в зеркало заднего вида. Расстояние между ней и «Хорьхом» сокращалось все быстрее и быстрее.
— Пристегнись, — тихо напомнил Милн, — и включи зажигание.
Услышав звук мотора, он, все так же рассмотря на толпу, добавил:
— Сдай назад, Эл.
— Но они уже близко, нет времени! — крикнула Элис, убирая руки с руля.
— Сдай назад и разворачивайся. Слышишь?
— Да! — громко ответила Элис, чтобы Эдвард точно ее услышал.
Милн не глядя положил свою руку на руль, поверх руки Эл, и сжал ее пальцы.
— Давай!
Мотор взревел, Эдвард вывернул рулевое колесо, и преследователи ненадолго остановились, не ожидая, что добыча окажется к ним так близко, — на расстоянии вытянутой руки. «Хорьх», развернувшись, подъехал к ним, и, обдав их острой россыпью гравия, быстро ушел вперед.
* * *
— Они подожгли «Мерседес»! — Эл впервые заговорила с того момента, как они уехали из Груневальда, от волнения поднимая и опуская руки. — Они подожгли его?!
Милн кивнул, и перевел взгляд за окно. Теперь за рулем был он, и «Хорьх» остановился на дороге между Берлином и Мюнхеном, — Милн не понимал, куда им теперь ехать.
Элис посмотрела на Эдварда, открыла бардачок, взяла какой-то сверток, и, выйдя из автомобиля, открыла дверь с водительской стороны.
— Как ты? Подвинься ближе, мне нужно осмотреть твою голову.
— Агна, все в порядке, — начал Милн, но, посмотрев в лицо Элис, добавил еще мягче, — все хорошо, правда.
Она отрицательно покачала головой, положила сверток на крышу «Хорьха», развернула его и осмотрела содержимое, состоявшее из средств для обработки ран.
— Ни черта не в порядке, Харри. Дай мне фонарь, пожалуйста.
Эл кивнула на небольшой переносной фонарик в черном футляре, который они иногда использовали при передаче шифровок в Центр. Он не раз им помогал, когда они выходили на связь ночью.
— Я не ранен, — возразил Эдвард, протягивая ей фонарь.
— Да, конечно! Дом взорвали, забросали бутылками с зажигательной смесью, окна разбиты, вся гостиная в стекле, на улице горит копия автомобиля Грубера, за нами шла толпа идиотов, а ты ближе всех был к месту взрыва, и ты не ранен, конечно!
— Фортепиано закрыло нас от взрывной волны, — напомнил Эдвард, поворачиваясь к Эл, и позволяя ей осмотреть свою голову. — Все обошлось.
— Нет! — Элис крикнула, и посмотрела на Милна. — Мы проехали мимо убитых людей, там были дети, ты видел? Видел пожары? Дома горят. А плач и крики? А Кайла беременна… боже, — Элис остановилась, вглядываясь в темноту, — Кайла беременна!..
После этой фразы Эл замолчала, и снова начала осматривать Милна. Он оказался прав, — фортепиано надежно закрыло их от взрыва, и он не был ранен.
Элис убрала пинцетом с его волос только несколько стеклянных крошек. Давний шрам на голове Милна, — девушка осмотрела его особенно тщательно, — был чистым и спокойным. Присев перед Эдвардом, Элис отогнула в сторону край его рубашки, — с той стороны, где от шеи до груди по коже бежал еще один, длинный и узкий шрам. Он тоже был чистым и спокойным. Ни одного осколка или царапины.
— Все хорошо, — сказала Элис тихо, и опустила взгляд вниз. — Все хорошо…
— Эл, — Милн наклонился к ней.
Элис закрыла лицо руками, а потом тихо заговорила, аккуратно подбирая каждое слово:
— Есть мальчик. Ему семь. Мариус. Он живет в одном из домов, напротив дома мод Гиббельс. Когда… когда Гиринг пытался меня изнасиловать, Мариус спас меня, въехал в него на велосипеде, на полной скорости. С тех пор я вижусь с этим мальчиком. Иногда. Даю ему деньги, золотые марки. Но он давно не приходил, хотя я долго его ждала.
Я ничего о нем не знаю, не знаю, где он живет. Он не хотел говорить.
Но… если даже сейчас, когда страшно, мы ничего, совсем ничего не можем сделать, тогда… Зачем это? Это все?..
Эдвард внимательно выслушал Элис, поднялся с автомобильного сидения и прошел мимо нее, засунул руки в карманы брюк, и уставился мрачным, тяжелым взглядом на загородную дорогу. Распинав носком ботинка каждый из ближайших камней, он вернулся к автомобилю.
— Сейчас мы поедем к Кайле, проверим, как они. А потом, через несколько дней, когда все стихнет, начнем искать мальчика. Очень осторожно, Агна. Очень осторожно.
Элис посмотрела на Эдварда и заплакала.
— Но я злюсь на тебя. Как ты могла не сказать мне?!.. А если бы тебя кто-то увидел? Или ты думаешь, Магда Гиббельс не может перейти дорогу и увидеть, как ты обнимаешь еврейского мальчишку? — шептал Милн, обнимая Элис.
— Ты знаешь?.. Откуда?
Эдвард посмотрел на Эл.
— Ханна? Опять она!
— Сомневаюсь, что она сказала об этом кому-то еще, кроме меня. Для нее это еще одна возможность поупражняться в остроумии. Так она думает, что держит меня на крючке. И я не стану ее разубеждать. По крайней мере, сейчас.
— Прости. Я хотела тебе сказать, но не знала, как это лучше сделать.
Милн поцеловал Элис в прохладные от ночного холода волосы, и прижал к себе. В памяти застряли ее слова: «Но если даже сейчас, когда страшно, мы ничего, совсем ничего не можем сделать, тогда… зачем это?». А еще Эд подумал, что, может быть, стал слишком осторожным с того момента, как у него появилась Эл.
Раньше он пошел бы на риск, — и даже больший, чем этот, — не раздумывая. Потому что тогда он был один, и отвечал только за себя. Теперь задача стала кратно сложнее. Но он попробует. Кто знает, как может развернуться удача?
В его активе был он сам, форма эсэсовца в багажнике автомобиля, в которой он уже однажды нахально заявился в лагерь Дахау, два пистолета, — вальтер и зауэр-38, и… Та доля безрассудства, которая и привела его в разведку. Если сложить все вместе, то это не так уж мало для темного времени. Милн докурил сигарету и тщательно втоптал окурок в землю. Действовать нужно быстро.
Эдвард усмехнулся, рассматривая бурое небо. Огонь в его груди разгорелся снова. Тот самый, который после окончания Итона привел его сюда. Были, конечно, и другие, личные причины, но все они, в конечном счете, сводились к одному. Огонь.
Пока он горит, Милн будет передавать шифровки, добывать секретные данные, обыскивать кабинеты и разыгрывать роль Харри Кельнера. Или кого-то другого.
Сейчас этот огонь, давно дремавший за доводами разума, проснулся и разгорелся с новой силой, — как если бы воздух поддерживал и распалял крохотный огонек зажженной спички. Милн дважды осмотрел «Хорьх», снова проверил надежность замка на большом деревянном ящике, куда он спрятал чемодан с рацией, и повторил:
— Я поведу машину, ты сядешь рядом. Если я замечу что-то подозрительное, ты должна пригнуться, спрятаться в нише под приборной доской. И молчать. До Берлина, думаю, мы сможем доехать более-менее спокойно, хотя… На въезде в Берлин будь внимательна, Эл. Наблюдай, но осторожно.
Если кто-то из тех, кто наводит этот «порядок», посмотрит на тебя пристально или задержит взгляд на твоем лице, — отводи взгляд, — сама знаешь, они очень трепетно относятся к тому, как на них смотрят, и любой взгляд могут посчитать за вызов. Наша версия, — на случай, если нас остановит какой-нибудь официальный нацист, и начнет задавать вопросы…
— Ты — оберштурмфюрер, по личному приказу Гейдриха должен доставить евреев в главное здание гестапо, на улице принца Альбрехта, дом восемь, — закончила за Милна Элис, и посмотрела на него.
Эдвард кивнул, подтверждая ее слова.
— Только… Тебе не кажется, что эта версия с приказом Гейдриха слишком опасна? И ее слишком легко проверить.
— И узнать, что все это — ложь?
Посмотри вокруг, Агна. Ты сама сказала, что вокруг творится хаос. А когда он творится, то даже те, кто его устраивает, впадают в ажиотаж, и в подобной неразберихе, на кураже, — к тому же, замешанном на крови, — способны поверить всему, что им говорят, даже в самую фантастическую ложь.
— Ты говоришь страшные вещи, — сухо заметила Эл.
— Я знаю, но, к сожалению, это — правда. И эта выдумка про Гейдриха может помочь нам спасти Кайлу и Дану.
Милн заглянул в лицо Элис, и улыбнулся краем губ.
— Я тоже очень надеюсь, что нам не придется использовать эту версию.
Элис улыбнулась, но улыбка тут же ушла с ее лица.
— Я даже не стану целовать тебя, потому что у нас все получится, и мы все успеем позже, — прошептал Эдвард, и лукаво посмотрел на Эл.
Предположения Милна о пути до Берлина оказались верными. Их никто не останавливал, и никому не было дела до скользящего в темноте черного, блестящего автомобиля. Новый поворот дороги вывел к Груневальду, и скоро Элис увидела их дом. Вернее, дом Агны и Харри, и то, что от него осталось. «Мерседес» уже догорел, и теперь его остов дымился в темноте, — на том месте, где Эдвард всегда парковал автомобиль, когда Харри Кельнер возвращался в большой дом на Херберштрассе, 10. Мотоцикл тоже сожгли, а оконные рамы большого дома, ухмыляясь пустотой, безумно скалились в ответ на тревожные, быстрые взгляды Элис. Милн сказал, что позже, когда погромы стихнут, они вернутся сюда, чтобы посмотреть, что осталось от вещей и от дома, но Эл это не казалось хорошей идеей. Все время, проведенное в Берлине, она намеренно старалась жить так, чтобы не привязываться к окружающим вещам, к дому Кельнеров.
«Это ненастоящее», — мысленно повторяла она, если ловила себя на том, что слишком привыкает к тому, что окружает Агну и Харри.
Правильным было это решение или нет, но сейчас, оглядываясь на разрушенное здание, уже оставшееся далеко позади, Элис почувствовала, что если бы она позволила себе полюбить дом Кельнеров по-настоящему, то сейчас ей, скорее всего, было бы гораздо тяжелее при взгляде на разбитый, тлеющий остов, в котором мародеры действительно могли поживиться очень многим.
Она и Эдвард были живы, вещи на первое время тряслись в чемодане под задним сидением «Хорьха», и они по-прежнему находились в Берлине как Агна и Харри Кельнер, — не вызывая подозрений, по крайней мере, явных, — а значит, — Эл посмотрела на сосредоточенное лицо Эдварда, — у них действительно все может получиться.
* * *
На центральных улицах Берлина был ад. Горящие дома, выволоченные на мостовую люди, — понять, кто это, — женщины или мужчины можно было только по их крикам. Если они еще могли кричать. Потому что многие, брошенные на тротуарах и дорогах, уже были немыми и мертвыми. Ночь и темнота снова играли на руку тем, кто устроил эту расправу над людьми по всей Германии, захваченной Австрии, Чехословакии. От всеместного огня ночь стала цветной и жаркой. Эл смотрела на происходящее из окна машины, и не могла отвести взгляд от того, что видела. Загнав женщину в угол, мужчина размахнулся и проткнул ее штыком, проворачивая его для большей верности, в сквозной ране. Женщина закричала так страшно, что сама земля должна была разбиться от ее крика.
Но земля осталась целой и продолжала свой ход. И Кельнеры тоже ехали дальше. И тем более невероятным было Эл видеть этот ужас и продолжать совершать заученные, привычные, обыденные действия. Например, поправлять пальто, и кутаться в него сильнее, чтобы ночной холод не пробирал до костей. Элис смотрела на окружающий их ужас огромными глазами. Хотелось кричать, прятаться, остановить машину. Схватить Эдварда за руку и остановить машину! Открыть дверь, выбежать на улицу, и прокричать изо всех сил, чтобы они прекратили! Прекратили бить, резать, стрелять, смеяться и насиловать. Потому что этого не должно быть на земле. А если это может быть на земле, то как быть потом, после всего немого, непроходящего, забитого в легкие и в горло, кошмара?
Как?..
Элис посмотрела на Милна, и снова заплакала, не в силах сдержать слезы. Она вспомнила, как в Лондоне, проводив ее до дома, Эдвард сказал в ответ на ее вопрос, что был на войне.
«Война меняет людей не лучшим образом». Сейчас, глядя на его профиль, она снова задала все тот же безмолвный вопрос, — один из тех, что по-прежнему тревожил ее, — «как война изменила тебя?». Ответа не было, как не было в Берлине того, кого не коснулась бы эта страшная ночь. Эдвард продолжал вести автомобиль молча, глядя прямо перед собой. Только теперь он управлял машиной резко и быстро, словно хотел скорее вывезти их из этого хаоса. Его губы, плотно сжатые, превратились в единую, тонкую линию. Голова была поднята высоко, а длинная шея вытянута вверх, за грань невидимой удавки. Не сдаваться, держаться на плаву! Это было бы проще, если бы кровь не подступала к горлу, и ему не мерещились этой ночью все те, кого он когда-то убил.
Стивен Эшби подмигнул и безумно улыбнулся Милну кровавой улыбкой, стоя между бесцветными, — от огней автомобильных фар, — колоннами очередного имперского здания, наваленного главным архитектором рейха, Шпеером, в центре Берлина.
Улыбка растянулась на лице Стива от уха до уха, и, пристально смотря на Милна, он провел по горлу рукой. Эшби хотел повторить для бывшего друга свою последнюю фразу, сказанную им за секунду до смерти, — ту самую про «мы побе…», но «Хорьх» круто повернул, мертвый Эшби исчез, и Кельнеры увидели главную синагогу Берлина, которая горела факелом, отдавая жаром на многие метры вокруг.
Кто-то завороженно смотрел на пожар, а кто-то помогал держать двери синагоги закрытыми. Чтобы те, кто был внутри, не могли по недосмотру стать теми, кто оказался бы снаружи, и смог выжить.
Какая-то женщина, схватив за руку ребенка, перебегала дорогу. Ее заметил мужчина. И Элис запомнила то звериное и сальное выражение лица, с каким он смотрел на нее, неторопливо, медленно преграждая ей путь. До их столкновения оставалось несколько мгновений, но Элис так и не узнала, удалось ли женщине и ребенку спастись. Она очень надеялась на это, помня, как за спиной мужчины пошатываясь, поднялся человек, и пошел на него с зажатым в руке железным прутом. У этого человека, даже несмотря на неуверенную походку, было немалое преимущество перед тем мужчиной, — он шел на него со спины, и, когда еще Эл могла видеть их, оставался незамеченным им.
А вот момент, когда в лобовое стекло «Хорьха» прилетел огромный камень, — отчего оно тут же пошло стеклянной паутиной трещин, Элис пропустила, и потому сильно вздрогнула. Но не от стука камня, а от криков, последовавших за ним.
— Эй, ты! Стой! Сто-о-й! — крикнули сзади, и Милн повел «Хорьх» быстрее, но в этот момент перед автомобилем выскочили еще несколько человек, преграждая ему путь.
Заднее стекло «Хорьха» разлетелось вдребезги, и автомобиль, блокированный тремя мужчинами, остановился.
Милн ударил по рулю, и свирепо оглянулся по сторонам, оценивая обстановку. Надо было ехать вперед, ехать на них!… Но времени, чтобы сожалеть об упущенной возможности уже не было, — трое, блокировавших «Хорьх», ухмылялись, глядя на Эдварда и Элис, а четвертый, — тот, что бросил камень, — приближался к машине сзади, неторопливым, размеренным шагом. Посмотрев на него в зеркало заднего вида, Милн подумал, что он — главный в этой шайке. Эдвард оглянулся, сверяя расстояние, отделявшее главного от машины, и расслабился, возвращая тело в прежнее положение.
— Не бойся и не кричи. Посмотрим, что они будут делать дальше, — сказал он, обращаясь к Эл, но не сводя глаз с тех, кто ждал их снаружи.
Милн не увидел как Элис кивнула, сглатывая тяжелый ком, застрявший в пересохшем горле. Боковым зрением она следила за тем, как Эдвард взял новый, недавно купленный им зауэр в правую руку, и снял пистолет с предохранителя. Движения его рук были выверенными и четкими, а взглядом он продолжал наблюдать за их новыми знакомыми, которые пока тоже не делали резких движений.
— Ну, хватит, эй! — сказал один из них, и громко свистнул.
Подойдя ближе к «Хорьху», он наклонился к окну, с ухмылкой рассматривая Милна через него, и перевел взгляд на Эл.
— Парни, нам сегодня везет! — крикнул он и рассмеялся.
Оглянувшись, он указал в сторону Эшби. Ответом ему был дружный, согласный хохот.
— Вытаскивай ее, давай посмотрим!
— Парни хотят, чтоб вы вышли! — сказал первый, перекатывая во рту серу, и ударяя кулаком по крыше автомобиля.
Милн посмотрел сквозь него, и, игнорируя сказанное, снова оглянулся назад, на главного, который до сих пор не дошел до машины, то замедляя, то снова начиная неспешный шаг.
Губы Эдварда дернулись, он перевел взгляд на первого, и извинительно улыбнулся, делая вид, что пытается, но никак не может открыть дверь автомобиля. Милну снова улыбнулись в ответ, но он знал, что эта пауза — последняя перед первым ударом. Его зрение засекло темную и невысокую фигуру главного, который наконец-то доплелся до «Хорьха», и сейчас шел прямо к двери с водительской стороны, следуя жестам своего приятеля, первым обратившего внимание на Элис.
Когда главный оказался прямо напротив двери, за которой был Милн, Эдвард одним броском открыл дверь, сбивая его с ног и, — резко поднявшись из машины, — стреляя в того, кто просил его выйти из машины. Пуля от зауэра, выпущенная в упор, попала в лицо, вырывая из горла раненого дикий крик. Прижав руки к лицу, — через которые уже бежала темными, густыми линиями, кровь, он опустился на землю рядом с «Хорьхом», и застонал. Остальные двое, все еще не принявшие участие в этой встрече, словно по команде отступили назад, а потом пошли на Милна. Один из них шел прямо, а другой отошел в сторону, заходя слева от Эдварда. Окружение Милна сорвалось от новых выстрелов. Перебросив зауэр в левую руку, Эдвард выстрелил в того, кто шел на него, и пропустил пулю от второго, обходившего его со стороны. Пуля врезалась в предплечье левой руки Милна, сбивая его новый прицел. Эдвард согнулся и застонал, закрывая рану правой рукой.
— Ну что, поговорим?
Центральный подошел к Милну и сбил его с ног ударом в подбородок. Эдвард упал на землю рядом с тем, в кого он выпустил сегодня первую пулю. Сейчас его лицо было месивом, в котором человеческие черты стало не различить. Милн пошевелился, пытаясь встать на колени. Новый удар опрокинул его на спину. Центральный завис над ним, сплюнул на Милна, и проводил взглядом главного, который, судя по всему, уже отошел от удара дверью.
Может быть, он и дальше продолжал бы смеяться в лицо Милну, а Милн, может быть, и дальше продолжал бы смотреть на него неверным от боли взглядом. Но крик Элис расставил все по своим местам. Пауза кончилась. И пока центральный скалился в ответ на крик Эл, Милн вскинул правую руку вверх и выстрелил в него. Покачавшись, и рискуя упасть прямо на Эдварда, в последний момент он сменил траекторию, и повалился на спину, ругая того, кто его подстрелил. Цепляясь за «Хорьх» правой рукой, Милн с явным усилием поднял себя на ноги и застыл на месте, фиксируя равновесие.
Элис больше не кричала, — с той стороны «Хорьха» теперь слышалась только какая-то неясная возня и приглушенные голоса.
Прижав левую руку к телу, Милн помотал головой, пытаясь сбить нарастающее головокружение, и начал обходить «Хорьх». Главный прижал Элис к борту автомобиля, и, удерживая ее за горло одной рукой, другой пытался расстегнуть свои брюки. Попытки Элис вывернуться из его хватки не приносили особого успеха, — он был гораздо сильнее и выше ее. Хрипя, она попыталась разжать его пальцы на своей шее, но он лишь сильнее встряхнул Эшби, отвел ее тело на несколько сантиметров от машины, и с силой ударил Эл о «Хорьх».
— Тихо, фрау, тихо… — шептал он, все больше заводясь от явного сопротивления.
Когда Эдвард увидел Элис, в его голове мелькнула страшная мысль: она смирилась и перестала сопротивляться. Но вот Эл развела руки в стороны и ударила ребром обеих ладоней в шею мужчины. Справа и слева. У главного перехватило дыхание, и вместо того, чтобы и дальше продолжать свои попытки справиться с пуговицами на штанах, он начал кашлять и задыхаться.
— Су… сука! — прохрипел он, согнувшись, смотря на Элисон слезящимися глазами.
Освободившись от хватки, она тоже закашлялась, хватая ртом воздух, а когда выпрямилась, увидела перед собой Эдварда. Подойдя к главному со спины, он занес над ним руку, и единым резким ударом опустил на его голову свою руку с зажатым в ней вальтером. Тот рухнул на землю, и замычал, закрывая ладонями разбитую голову. Эдвард прицелился, но не выпустил пулю, отвлеченный звуками со стороны. Тот, кто выстрелил в него, подходил к Элис, и в этот раз Милн оказался быстрее. Человек повалился на землю рядом с Эшби, и, коротко что-то прохрепев, затих. В живых, — из всей шайки, — остался только главный.
Дрожащей, неверной рукой Эдвард снова навел на него пистолет, но снова задержал выстрел, с удивлением чувствуя, как он, Милн, сам оседает вниз, на гравий и — в темноту.
* * *
Эдвард, серый и бледный, то приходил в себя, то снова терял сознание. У Элис не было никакого практического опыта в осмотре пулевых ранений или извлечении пуль из тела, — все ее знания сводились к краткому курсу первой медицинской помощи, которые преподавали при подготовке в МI-6 и тому, что она узнала от Кайлы. Но главное в том, что знала Эл, сводилось ко времени. Его нельзя терять, — до настоящего момента она помнила об этом только в теории, но, увидев раненого Эдварда, и то, как быстро меняется его состояние, осознала и почувствовала всю верность этого первого, и, может быть, главного правила. На то, чтобы уехать с места драки далеко, времени тоже не было. Как не было теперь и самого безопасного места. Поэтому Эл, отведя машину немного дальше, за границу темных, — то ли сожженных, то ли брошенных, одноэтажных домиков, — остановила «Хорьх» позади одного из них, и заглушила мотор. Она вышла из автомобиля, открыла вторую дверь, порылась в чемодане с вещами, спрятанном под задним сидением, и вернулась. Забравшись на сидение, она подвинулась ближе к Милну, — чтобы лучше видеть рану на левой руке.
— Не говори. Я осмотрю рану.
Милн был серым и тихим. Мутные капли пота, то мелкие, то крупные, скатывались по его лицу вниз, и застывали у границы светлых волос, которые сейчас окрасились цветами восходящего солнца. В иных обстоятельствах он наверняка бы кивнул, и подбодрил Эл какой-нибудь фразой или шуткой, но сейчас он только смотрел на нее неясным взглядом, и, — если его глаза не закатывались, и он не скатывался за грань сознания, — следил за ее быстрыми движениями, — настолько, насколько мог их видеть.
Часто ее тонкие пальцы и запястья ускользали из его поля зрения, но он продолжал смотреть вниз и влево, в ожидании, когда они снова появятся, и замелькают перед ним, похожие то ли на белые крылья, то ли на белые перья… Положив перед собой небольшой футляр, Элис выпрямилась и приобняла Милна, стараясь как можно быстрее и осторожнее снять с него пальто. Он почувствовал, как ее рука легла на шею, на верхние позвонки. Затем она притянула его к себе, — Элис и ее запах стали ближе, а потом — дальше, когда она освободила Милна от верхней одежды и разорвала рубашку на плече, укрывая его сверху пальто так, чтобы рука и рана оставались открытыми. Ветер налетел на Милна, охлаждая кожу. Стало хорошо, холодно и спокойно. Он перевел взгляд дальше, за спину Эл, — в небо. Начинался восход. Небо красилось лучами восхода.
— Тебе холодно… прости, — прошептала Элис совсем рядом с ним.
Так близко, что он почувствовал, как ее шепот щекочет кожу. Элис раскрыла футляр и достала медицинские перчатки. Несколько долгих секунд ушло на то, чтобы правильно надеть их на дрожащие руки, которые совсем не хотели ее слушаться. Размер перчаток оказался немного больше того, что был нужен, и Эл сильнее натянула нижний край на запястье. Перчатки щелкнули, неплотно приставая к коже. Сделав глубокий вдох, Элис, сидя на коленях, придвинулась к Эдварду как можно ближе, и посветила карманным фонариком на рану. И не увидела ничего, кроме крови. Она начала выбиваться из раны фонтаном, резко и хаотично. Элис что-то прошептала сухими губами, и приподнялась, чтобы осмотреть внутреннюю сторону руки. Кровь попала ей на лицо, и Эл рефлекторно закрыла глаза. Выходного отверстия не было. Значит, пуля осталась в плече. И кровь была алой.
— Алая кровь, артериальное…— шептала Элис, снова усаживаясь перед Милном, уже потерявшим сознание. — Наложить повязку на рану… Давящую повязку на рану, прямо… на… рану.
Собственные движения казались ей ужасно, невероятно медленными. Рана и область вокруг нее вздулись, кровь по-прежнему выбрасывалась фонтаном, но уже не так сильно, как раньше. Элис взяла широкий бинт, и наложила его край на пулевое отверстие. Натягивая ткань, она постаралась наложить повязку как можно плотнее. Кровь, пропитав первые слои марли, постепенно начала останавливаться, и Элис слабо улыбнулась, смотря на верхние слои бинта, белые и чистые. Для большей надежности она закрыла бинт несколькими оборотами обычной белой ткани, — она была плотнее, и казалась Эл надежнее стерильной марли.
Она успела.
Врач сказал, что пуля пробила плечо не так сильно, как могла бы.
— Скорее всего, выстрел был сделан с близкого расстояния, почти в упор. Как это произошло?
Элис попыталась вспомнить, слышала ли она выстрел, но память подсказывала только одно: это могло случиться в тот момент, когда ее душили, и значит, она могла не расслышать выстрел. Кто стрелял в ее мужа? Где это произошло? Сколько их было?
Агна Кельнер подробно отвечала на эти и множество других вопросов. И не была уверена, что ее ответы действительно слушают и записывают. Все ее показания полицейский свел к одному слову, которое теперь было хуже последней грязи. Евреи.
Стерев кровь с лица, Агна Кельнер села на стул, и в течение следующих двух часов подробно отвечала на вопросы того, кто назвал себя полицейским. Вопросы шли и повторялись по кругу, — одни и те же, снова, снова и снова. Но Агна внимательно следила за тем, что она говорит. Адреналин помогал ей не засыпать, и помнить абсолютно все, до последней подробности. Она даже запомнила выражение лица полицейского, когда на один и тот же вопрос Агна ответила одной и той же фразой. По его лицу было заметно, что он разочарован. Агна знала, что такой способ допроса был довольно эффективным, — запутать напуганного, уставшего и избитого человека, которому, к тому же, запрещено садиться на стул, — и потому он стоит последние, скажем, часов двенадцать, — очень просто.
Часто сам человек к моменту такого «разговора» готов сказать и подписать все, что угодно. Но Агне Кельнер повезло. Во время беседы с полицейским она не только сидела на стуле, но и могла закурить предложенную им сигарету.
Фрау Кельнер, улыбнувшись, отказалась от сигареты, и повторила уже сказанное, в котором полицейский даже не захотел разбираться. К чему это, если и так понятно, что во всем виноваты евреи? Посмотрите, что они сотворили с прекрасным Берлином, столицей великого рейха?! И это далеко не все, — он достоверно может сказать фрау Кельнер, что это были не простые городские беспорядки, но намеренно спланированный и хорошо организованный сговор: подумать только, — они громили все города Германии и возвращенные рейху исторические области! Разграбить прекрасную, музыкальную Вену? Кощунство и варварство! Поэтому и думать нечего о том, кто виноват в нападении на фрау и ее мужа. Но фрау Кельнер может быть спокойна, — германская полиция выполнит свой долг, и непременно найдет и воздаст по заслугам тем, кто посмел стрелять в ее супруга и угрожать ей. Агна кивнула полицейскому и уточнила, может ли она идти? Ей необходимо проведать мужа. Конечно, — ответил ей полицейский, убирая блокнот для записей во внутренний карман кителя. Он улыбнулся ей на прощание, строго рассмотрел свое отражение в зеркале, проводя ладонью по гладкому пробору, забитому бриолином, и покинул больницу.
И теперь фрау Кельнер сидела в палате, рядом с кроватью мужа.
Харри еще не пришел в сознание, но дежурный врач, принявший их рано утром, и оказавшийся тем самым врачом, чье лицо Агна помнила с того дня, когда потеряла ребенка, заверил ее, что с Харри Кельнером все будет в порядке.
— Нужно только следить за раной, — сказал доктор, и бесшумно ушел по коридору, в белом халате, полы которого были очень похожи на крыло старой птицы.
«Белый как лунь» — вспомнила Агна, провожая врача взглядом. Выслушав врача, она молча кивнула. Агна вообще стала говорить предельно мало, — исключением можно было считать только полицейский допрос. Ей нечего было сказать тем, кто окружал ее с этой стороны мира. Она хотела говорить только с Харри, но он пока молчал, и она молчала тоже. Тревога и страх постепенно стихали и отступали. Дыхание становилось спокойным и ровным, и Агна уже не проводила рукой по лицу каждую пару минут, все еще думая, что на нем — кровь Харри.
Вернувшись в палату, Элис села на стул напротив Эдварда, снова и снова медленным взглядом рассматривая его лицо и тело. Это казалось невозможным. Эдвард ранен? Он в больнице? Чем больше она думала об этом, и чем дольше смотрела на белого Милна, тем более невероятным это выглядело. Когда врач сказал ей, что герр Кельнер потерял не так много крови, как это «чаще всего бывает», и что она, Агна, хорошо сделала, что наложила давящую повязку и не пыталась, — в отличие от подавляющего большинства добрых дилетантов, наносящих тем самым непоправимый вред раненому, — тревожить или вытаскивать пулю, она молчала. А в голове безостановочно крутилась по кругу только одна, всего одна мысль: в человеческом теле всего около шести литров крови! Всего шесть! Поразительно мало. Но Агна остановила кровь, наложила давящую повязку на область предплечья. Она успела. И это было самое важное.
Элис нужно было обдумать очень многое. Например, — где теперь жить? Где искать Кайлу и Дану? Они живы? С ними все в порядке? А с их ребенком? Когда безопаснее всего съездить на развалы дома, в Груневальд? И можно ли восстановить дом? А если вещи, оставшиеся в доме, украли? Сейчас остановиться в гостинице? В какой? Нужно помнить, помнить и не забывать о повсеместной прослушке, Эдвард всегда об этом помнит. Кажется, он все помнит, и никогда не ошибается.
Ничего не говори, Агна.
Будь осторожна.
И спокойна.
Ты не можешь показывать свой страх, ужас или растерянность. Здесь так не выглядят. Где можно оставить чемоданы с большей безопасностью? Лучше позвонить или приехать на завод «Байер», чтобы предупредить о состоянии Харри? И пропустят ли Агну Кельнер? Как отреагируют в доме мод на происходящее?..
Погромы провели в ночь с девятого на десятое ноября, со среды на четверг. И как бы невероятно и абсурдно это ни было, вместе с вопросами о жизни, мелькнувшей рядом смерти и следующем дне, Эл нужно было обдумать и другие, не такие острые, и — «общего порядка». Не решаясь оставить чемодан с рацией где бы то ни было, Элис носила его с собой. Он был тяжелым и неудобным, но, в сочетании с другим чемоданом, в котором лежали вещи Агны и Харри, она, — как ей показалось по взглядам, которыми ее разглядывали окружающие,— вызывала любопытство, желание помочь и… сочувствие.
Вместе с ее растерянным, опустошенным внешним видом и немного замедленной реакцией, — она очень старалась выглядеть как можно лучше, но вся предыдущая ночь, ранение Эда, сгоревший дом, ожидание в больнице и строгая необходимость Агны Кельнер утром в четверг вовремя прийти в дом мод, на работу, — все это не слишком укладывалось в голове, и потому она, разговаривая с врачом, или обращаясь к медсестре, говорила медленно и отрешенно, как человек, который долго шел по дороге, а в следующую секунду, посмотрев на карту, узнал, что дороги больше не существует. Ни на карте, ни в реальности. Дорога стерта, изуродована, закрашена черной неровной штриховкой, разбросанной по карте толстой рукой генерала. Он смотрит на карту и ничего не видит, затем громко требует чаю, а когда адъютант его приносит, — крепко-янтарный, в высоком стакане с серебряной ложечкой на подносе, — генерал хватает его, обжигает толстые пальцы, и воет от боли. Карта летит к чертям, люди ссыпаются со своих дорог вниз, как незримые марионетки, и дороги на карте становятся перечеркнуто-черными от грифеля простого карандаша. Карта и территория больше не соответствуют друг другу. И в этом нет ничего удивительного, — они никогда не были похожи.
Элис сидит на стуле с высокой спинкой, возле больничной кровати, и смотрит на Эдварда. Все прочие тревоги отступают перед самым большим и страшным, что могло произойти. Сейчас, когда его жизни ничего не угрожает, это уже не кажется таким острым и опасным, но… «при серьезном повреждении плечевой артерии и обильном кровотечении, смерть может наступить в течение одной минуты, потеря сознания — в течение пятнадцати секунд». Элис вспоминает, что в человеческом организме всего шесть литров крови. И даже если ты высокий и сильный, у тебя тоже есть только эти шесть… Эл глубоко дышит, положив голову на грань спинки высокого стула. Смотреть на Эдварда, слышать его дыхание, и знать, что он жив. Это все, что ей хочется. Смотреть на его бледное лицо снова и снова, и видеть, как от дыхания поднимается и опускается его грудь.
Он жив.
Это главное.
Потому что невозможно представить, чтобы Эдварда не было.
Как такое может быть?
Это невозможно.
Слишком невероятно.
Так не может быть, — Эд всегда был рядом. Сначала на расстоянии, и — шутками в письмах брата, потом в Рождество. И уже тогда, как позже поняла Элис, он защищал ее. Даже от Стива, несмотря на то, что Эдвард был гостем в их доме. А теперь… Казалось невероятным, что они вместе уже пять лет, но… Нет, невозможно представить мир без Эдварда, такого просто не может быть. Элис, быстрее отталкивая от себя страшные мысли, садится еще ближе к нему, сжимает его прохладные, тонкие пальцы. Его левая рука закрыта плотной, белой повязкой. Эта повязка лучше и стерильное той, что накладывала она, и Элис рада, просто безумно рада, что с Эдвардом все хорошо. Она будет следить за его раной, она будет ухаживать за ним. Но она тоже, как и он, — после того допроса в гестапо, — успела. Это главное, с этим возможно все. Любая победа, даже самая невероятная.






|
Anna Schneiderавтор
|
|
|
h_charrington
Показать полностью
Часть 1. Здравствуйте! Если узнавая историю отношений Ханны и Харри, я еще порой испытывала к ней сочувствие, то поступок Ханны в предыдущей главе, когда она прилюдно начала бить Эл по ее бездетности, напрочь перечеркнул всякое мало-мальски доброе (?) чувство к ней. Знаете, у меня никогда не было очарования Ханной. Даже тогда, когда я была в начале работы над текстом, и было несколько вариантов для нее, и иногда я сама не понимала: а куда ее заведет? Многие, читая, отмечают именно тот момент сочувствия: вот же, Ханна протянула платок. Да. Но... так много этих "но" и до, и после платка! И внутренне у меня это ощущение преграды не проходило в отношении Ланг. Потому что она не просто ревнует (с кем не бывало?), она готова уничтожить Агну. Все вывернуть, все извратить, изгадить, подменить. Она надрывно орет Харри о том, что любит его, но это не так. Может, в ее понимании это и "любовь"... но истинная любовь, даже не получая ответа и сгорая в безумстве и горечи, не допустит зла в отношении того, кого любят. И той, "другой", которую, в этом случае, любит сам Кельнер. Вот эта душевная низость, развращенность и распущенность, грязь, выросшая на крови и пропаганде с трибун о "расе господ"... Это так омерзительно. Это останавливает меня от всякого сочувствия к Ханне. Хотя, да, — она подала платок. И тем ужаснее то, что сделалось (по ее собственному допущению, в первую очередь) с ее же душой. Она способна чувствовать. И чувствовать глубоко. И, думаю, была способна на любовь. А вышло это все вот такой мерзостью. Это уже далеко за границами ревности и зависти. Это мнение о том, что Ханне все можно. И она, чем дальше, тем больше это видно, может не остановиться ни перед чем. Собственно, о Кельнере, которого, по ее словам, она так любит, Ланг думает меньше всего. И эта беспринципная вседозволенность, как черта времени, очень пугает. Сама выбрала встать на колени, приветствуя то ли идола-фюрера, то ли идола-возлюбленного, которым обоим, как оказалось, нет до нее дела. А она и себя в грязи изваляла, и своего жениха, и там, где она надеялась выказать почтение и раболепное служение, попросту вскрылся позор и вся ее низость. Но Эл верно говорит после приступа смеха: страшно. Страшно это все. Вот мы видели ужасы Хрустальной ночи, а что в это время происходит с "благонадежными" гражданами? Они сами себя изваляли в грязи. Во всех тех случаях, когда они позволяют себе судить о представителях других наций как о второсортных, когда превозносят свою "арийскую" расу, когда морщат носы, что беспорядки заставили их изменить маршрут до работы, когда сетуют, что не могут больше закупать ткани по выгодной цене, когда утопают в роскоши, награбленной у тысяч обездоленных людей и выбирают - изо дня в день - не замечать кошмара вокруг. Поэтому фигура Ханны в финале свадьбы вся исполнена символизма. В Ханне, очевидно, собраны все те немки, которые "понятия не имели, что происходит", ну как же, и искренне радовались переменам в жизни. Но при этом нам вовремя напоминают, что Ханна, между прочим так, работает в концлагере. Она даже не может в полной мере быть той, которая "ничего не видит, ничего не слышит". Она никак не "жертва режима", а его прямое орудие. Как вы правы! Я согласна с Элис: это безумно страшно. Наблюдать все это, быть внутри такого "общества". А сколько копий сломано о тезисы "как немцы, такая просвещенная нация, дошли до такого"? Вопрос открыт. У нас И СЕЙЧАС нет ответа. Поразительно и то, что война, вроде как, окончилась, а никто ни за что не ответил. Меня беспредельно изумляет то, что эти твари рукопожатны в мире! Я просто не нахожу для этого слов. И они нам говорят о культуре? Знаем мы вашу культуру с примесью "Циклона-Б". Это не перестает меня поражать. И все эти фразы про "не знали", "нас использовали"... такая ересь! Кого они хотят обмануть? Рекомендуют себя немецким качество и "порядком"? Ну так и в лагерях был порядок: печи работали, "люди" ходили на работу, зондеркоманды исправно, каждый день, исполняли свои "обязанности"... Я в такой растерянности. Это как дверь в ад. Начинаешь думать об этом, и не можешь ни понять, ни осмыслить. Ну как такое было возможно? И, что не менее важно, как "потом" все стало внешне опять нормально, без лагерей? Я не думала над тем, является ли Ханна каким-то собирательным образом. Она так рвалась в текст, она не ушла даже тогда, когда я думала, что история будет с ней прощаться. Она смогла вытянуть до конца. И никакая она, конечно, не жертва. Она тварь. Красивая на лицо, абсолютно безжалостная ко всему человеческому. Не только к Агне, как к "сопернице", но к самому средоточию морали и человечности. И я даже думать не хочу о том, что Ханну сделало такой. Да, ее жизнь счастливой не назовешь. Но она сама, как и каждый из ее единомышленников, свернула на эту дорогу. И таким — память, чтобы помнить, и вечный, вечный позор и презрение. И сейчас я думаю еще и о том, что, имей она власть над Харри, она бы и перед прямым издевательством над ним не остановилась. Сломать душу человека, низвести его до состоянию твари, — это ее сторона. Ни о какой любви речи здесь нет. Но мысли о том, как "люди" могли жить и "не знать", меня не оставляют. Невозможно было не знать. Но "не знать" было удобно. Или они просто, тупо, выбрали то, на что им указали. И завыли только тогда, когда германские города стали рушится под ударами с воздуха. А бравый Геринг со своим "Люфтваффе" ничего не смог сделать. Они были уверены в своей силе, в своей победе (как будто кто-то на них нападал) и просто встали на сторону "сильного". А потом, к маю 1945-го завыли. И стояли в очереди за супом, который им раздавали на полевых кухнях наши, советские люди, наши солдаты. 1 |
|
|
Anna Schneiderавтор
|
|
|
h_charrington
Показать полностью
Часть 2. Надрывная надежда Эл и Эда найти Кайлу, Дану и Мариуса рвала сердце. Рассудок отметает всякий шанс, что даже если они живы, то их можно найти, но дело в том, что если прекратить поиски, это будет ведь как предательство. Надо искать, потому что так велит совесть. Надо не опускать рук, потому что иначе никак. Иначе чем они будут отличаться от тех, чья жизнь вошла в свою колею, как будто и не было ночных погромов, убийств и насилий? Да. Искать негде, и, кажется, бесполезно. А не искать — еще страшнее. Потому что это может значить ровно то, о чем писала Эл в своих "записках" к Стиву, в самом начале: она, Элис, стала как они. А это — все. Крышка гроба. Без преувеличений и пафоса. И дальше идти некуда. Вот это — самое страшное. Не смерть в войне, от руки нациста, а это предательство и переход на их сторону. Неужели это правда Кайла? Вряд ли Элис бы настолько размечталась, да еще в такой тревожный момент, под глазом Зофта, чтобы нафантазирвоать себе воплощение мечты. Кайла жива... а что ее ребенок? А муж?.. Дай Бог, их встрече ничто не помешает! Не люблю забегать вперед, но да, это правда Кайла. И я безумно рада, что линии этих, таких важных в "Черном солнце" героев, не оборвались в погромах. Агне в этих главах приходилось худо, но с каким достоинством она выстояла! И перед шакальими укусами Ханны, и перед тигриными ухватами Зофта. Им даже известно про Стивена... вот это страшно. Потому что проблема не в том, как упорно Эл и Эду удастся держать лицо на их вопросы что с подвохом, что в лоб, а в том, что в Третьем Рейхе не работает призумция невиновности, и что им стоит забрать их в Гестапо и сделать все, что захотят, просто "ради проверки"? Разве Зофту и тем, кто за ним стоит, так уж нужно чистосердечное признание Эл, что она убила Стивена, чтобы обвинить ее в этом? Но пока он медлит и даже вроде сбит с толку ее выдержкой. Как она посмотрела на него! КАк она держалась! Неимоверно горжусь ею. И Эдом, который успел найти важные бумаги. Спасибо вам! Да, от той юной, в начале истории, Эли и Агны многое осталось. Осталась такая важная доброта и трепетность, неуспокоенность сердца. А вместе с тем появилась и сила, которая теперь позволяет Эл выдерживать и такие встречи: с Ханной, с Зофтом. И хотя закалка эта стоила Эл очень и очень дорога, эта ее стойкость чрезвычайно важна. Эл не просто красивая девочка, в которую когда-то с первого взгляда влюбился Эд. Она теперь та, кто способен не просто держать удар, но и отвечать противнику. Она не подведет Эдварда. Такой Эл он может доверять, и доверяет, всецело. И это уже не столько именно про любовь, сколько про такую громадную близость и единение, когда ничего не нужно объяснять тому, кого любишь, — и так все ясно. Он и сам все понимает, по одному только взгляду или молчанию. Конечно, Зофту ничего не стоит забрать Агну и Харри в гестапо. Ему и повод для того почти не нужен. Но штука в том, что Зофт сам озабочен соблюдением приличий. Он, все же, думая о том, что Харри накоротке с Гирингом, опасается действовать прямо. Но очень старается. Эдвард, как воробей стреляный, в таких моментах вызывает уверенность. И азарт от него тоже никуда не отходит. И даже когда за него бывает страшно, все равно не покидает уверенность: ну нет, и сейчас выберется. Такие эпизоды напоминают нам, что их задача не просто выжить в Берлине в 30е годы, но и всеми силами помочь если не предотвратить, то разгадать грядущую войну и сделать все возможное, чтобы ее жертв стало как можно меньше. Что могут два маленьких человека, затерянных в самом жерле мясорубки? А все же даже если два человека спасут еще двух человек или хотя бы одного, разве это можно назвать "малым"? В масштабах всего мира и мировой войны спасение даже "только" одного, конечно, "немного". И, может, смехотворно. Но не для этого одного человека. Не для беременной женщины, которая абсолютно потрясена и напугана всем происходящим, и не знает, где Дану. И не для мальчика, которого нацисты считают не более, чем грязью. Спасибо! 1 |
|
|
Знаете, у меня никогда не было очарования Ханной. Даже тогда, когда я была в начале работы над текстом, и было несколько вариантов для нее, и иногда я сама не понимала: а куда ее заведет? Многие, читая, отмечают именно тот момент сочувствия: вот же, Ханна протянула платок. Да. Но... так много этих "но" и до, и после платка! Да, до очарования образом там далеко, и "сочувствие", которое она проявляет, можно сравнить с тем, как в карикатурных фильмах карикатурные злодеи показаны страстными любителями кошечек или собачек. Какие-то поверхностные душевные порывы не чужды и психопатам, и попросту мерзавцам, и, думаю, в сцене, где Ханна подходит к Эл с этим платком, там у Ханны больше какого-то глубинного страха перед тем, чего она никогда не сможет понять, чем реально вот сочувствия. И тот самый страх столкновения с чем-то большим, что есть в тебе, мог бы ее отрезвить, заставить пойти иной дорогой... Но нет. Не вышло. Минутная вспышка почти что благоговейного ужаса снова затоптана животной ревностью и тупой страстью. Может, в ее понимании это и "любовь"... но истинная любовь, даже не получая ответа и сгорая в безумстве и горечи, не допустит зла в отношении того, кого любят. О да, конечно. Я в каком-то из отзывов делилась соображениями о том, что у Ханны могло просто не быть понимания, что такое настоящая любовь, и та страсть, похоть и собственническое чувство могут быть ею приняты за то, что она "любит", а поскольку эта звериная жажда не находит удовлетворения, то, значит, еще и "страдает", и ей как "жертве" позволены любые средства для достижения ее "великих" целей. Ну да, ну да... Честно скажу, я отнюдь не сторонник того, чтобы объяснять все-все особенности поведения и мировоззрения человека исключительно травмами, пережитыми в детстве. Нам дана волшебная способность изменяться. Учиться на своих ошибках. Переживать опыт и взрослеть, что в 5 лет, что в 50. Поэтому просто сказать, что у Ханны не было перед глазами примера "истинной любви", и списать на такую вот "необразованность" всю ее чудовищную гнильцу, никак невозможно, на мой взгляд. Ведь даже если и так, та самая "истинная любовь" сподвигла бы ее к изменениям. Она бы видела Харри Кельнера как отдельного человека, личность, достойную счастья - такого, какое он обретет и будет беречь, она бы отпустила его. И точно не пыталась бы навредить Эл. Однако ее линия из раза в раз приводит ее на те же грабли наступать, и вот в тех двух главах, которые я успела еще прочитать, Эду и вправду пришлось уже почти к шоковой терапии прибегнуть, чтоб ее хоть как-то встряхнуть. Казалось бы, по сравнению с мировым масштабом бедствия, с которым имеют дело Эд и Эл, какая-то там истеричная ревнивая бывшая любовница просто мелюзга, вошь. Но какая же она назойливая, и сколько уже крови подпила! А сколько копий сломано о тезисы "как немцы, такая просвещенная нация, дошли до такого"? Вопрос открыт. У нас И СЕЙЧАС нет ответа. Поразительно и то, что война, вроде как, окончилась, а никто ни за что не ответил. Меня беспредельно изумляет то, что эти твари рукопожатны в мире! Я просто не нахожу для этого слов. И они нам говорят о культуре? Знаем мы вашу культуру с примесью "Циклона-Б". Это не перестает меня поражать. И все эти фразы про "не знали", "нас использовали"... такая ересь! Кого они хотят обмануть? Рекомендуют себя немецким качество и "порядком"? Ну так и в лагерях был порядок: печи работали, "люди" ходили на работу, зондеркоманды исправно, каждый день, исполняли свои "обязанности"... Я в такой растерянности. Это как дверь в ад. Начинаешь думать об этом, и не можешь ни понять, ни осмыслить. Ну как такое было возможно? И, что не менее важно, как "потом" все стало внешне опять нормально, без лагерей? Признаюсь, сколько я ни пыталась найти ответ на этот вопрос, ничто меня до конца не удовлетворяет, кроме мнения, что люди, по природе куда легче склонные ко злу, чем к добру, получая возможность творить зло и не нести за это ответственность, будут это делать с большой охотой, потому что видимых выгод больше, чем если держаться (еще и рискуя положением и даже жизнью) за совесть и моральные принципы. Полагаю, в моменте у многих просто не возникал вопрос "а правильно ли это?", они видели перспективы и выгоды - даже в убийстве 36 000 евреев - и шли на это, вовремя позволяя себя закрывать глаза и морщить носы. Тут часто гооворят о бедственном положении Германии после 1МВ. Помню, нам учительница истории рассказывала, что инвалиды, вернувшись с войны, совершали самоубийства, чтобы их вдовам и сиротам выплачивали пособия большего порядка, нежели по инвалидности кормильца. Но что, интересно, во Франции, половину которой истребила Германия в 1МВ, в России, которую мало что в 1МВ использовали как пушечное мясо, так добили напрочь революцией и Гражданской войной, не было отчаяния и бедственного положения? Но как-то не докатились до "окончательного решения еврейского вопроса", восстанавливая свои экономики. Как-то не дошли до полнейшей бесчеловечности, пробивая себе "дорогу в будущее". Да, и меня еще всегда поражало, как много раздуто причитаний вокруг послевоенной судьбы Германии. Ах, их делили на зоны оккупации, ах, им построили Берлинскую стену!.. Какое "варварство" по сравнению с тем, что Германия творила со странами и народами, которых как катком сметала во время 2МВ... Ах, бедная Германия, платила непосильные репарации. А сколько она награбила и уничтожила богатств тех страх, на которых напала в 1МВ? Поэтому... для меня это сводится к природе зла. Ненасытной, пугающей воронке, которая засасывает все глубже и глубже, давая мнимую эйфорию от чувства вседозволенности, сытости и удовлетворенного самолюбия. Читала "Доктора Фаустуса" Манна. Там в целом приводится вот к такой метафизической проблеме добра и зла. Сделка с дьяволом, бессмертная душа (совесть, мораль, ценности) в обмен на временные привилегии, достаток и славу. Там гг - гениальный композитор, Фауст 20 века, и в нем вот отражается судьба Германии. Но, знаете, меня еще напрягало всегда вот это превозношение образованности и культурности немцев. Ах, они там все поголовно играют на пианино и читают философов. Не проводила собственных исследований, спорить не буду, но и не буду держаться за это утверждение как за что-то, что может быть исползовано хоть каким-то боком как, прости Господи, "смягчение" их вины. Сволочь - она сволочь и есть. Вне зависимости от того, играет она на пианино или нет. Казалось, что феномен еврейских оркестров, которые играли на скрипках, пока других заключенных умерщвляли в газовых камерах, должен наоборот свидетельствовать о полнейшей, окончательной извращенности и вырождении этой "великой немецкой нации". Но до сих пор находятся те, кто говорит, какой у них тонкий вкус. Или еще пример слепоты и глухоты к историческому опыту: в школе одноклассница как-то пришла в ожерелье со свастикой. И когда мы к ней подошли с намерением разложить по понятиям, она на голубом глазу утверждала, что "это древний языческий символ солнышка, чего пристали, быдлота". Символ-то древний, но забывать, или даже отрицать, что он был раз и навсегда запятнан кровью миллионов?.. Я даже не знаю, как это комментировать. 1 |
|
|
[отзыв к главам 3.12-3.13]
Показать полностью
Здравствуйте! Спасибо, что подарили нам это чудо воссоединения с Кайлой. Что оставили ее в живых, что сохранили ее малыша. Когда столько боли, и история идет к финалу, не ожидаешь уже и проблеска света (разве что вспышки ракеты, которая взорвет все к чертям), однако такой вот дар напоминает нам о том, как в жизни ценно подлинное чудо. И оно случается. Быть может, в реальной жизни даже чаще, чем в искусстве. Да, Кайла пережила тяжелейшее потрясение, Дану либо погиб, либо все равно что приговорен к смерти, оказавшись в концлагере. Да, даже в этих обстоятельствах открывается возможность еще одного чуда, и еще, и еще, но узнаем ли мы о нем - неизвестно. И пока уже сама Кайла может взять на себя подвиг надежды и ожидания встречи, молитвы и веры, чтобы не впасть в глубочайшее отчаяние хотя бы ради малыша. Ему ведь тоже очень страшно, и какое мужество нужно матери, чтобы не поддаться внешим страхам и оградить от них ребенка... А он... пинается. Растет. Господи, как трогательно - особенно вот такой яркой вспышкой жизни вопреки всему посреди всей этой мглы. И тут же рядом - несчастная Эл... Я ей очень и очень сочувствую. Ей самой себя страшно: как, спрашивает она себя, я могу искренне помогать Кайле, если сам факт, что она ходит с ребенком под сердцем, а я этого лишена, вызывает во мне приступ боли, и зависти, и горя? И рука одернулась, и снова пришло страдание. Там, где надо радоваться за другого, поддерживать, верить в лучшее, все вдруг, как по щелчку пальцев, застилает собственная, кровная боль, и больше ничего не остается. Весь мир потух, и осталась одна Эл, окаменевшая на кровати, один на один со своим неизбывным горем. И даже Эду она не в силах его поверить. Интересно, что сама просит от него откровенности, но уже в который раз не делится с ним своими переживаниями. Она сильная и гордая, и, конечно, опасается ранить его своими переживаниями или обременить, или, хуже, подтолкнуть к решительным действиям (как когда он ходил угрожал Гирингу), которые могут повредить ему. И... еще ведь, как удивительно точно отражена печальна правда жизни: стоит хоть чуточку всковырнуть давнюю, непроболевшую до конца обиду, как она тут же восстает пламенным драконом. Ну вот, казалось бы, давно уже исчерпан вопрос верности Эда, его отношения к Ханне. Но стоит ему только упомянуть, что схватил Ханну за руку, как у Эл все отключается. Она уже не вдумывается в разницу между "схватил" и "взял". Она уже не слышит, что он схватил ее, чтобы уберечь Эл. Мир погас и осталась картинка: Эд и Ханна вместе, а она, Эл, одна. Крах. Почти безумная, иррациональная ревность, боль, желание рвать и метать под наносным смиренным молчанием. Эд видит, что он не может просто так успокоить Эл. Словами до нее не достучишься. Когда болит сердце, разумные увещевания только больше бесят и доводят до крайности. Единственное, что работает в этот момент - это взять (или уж схватить) как можно крепче, прижать к груди и говорить о любви. О том, что Эл - единственная, о том, что без нее жизнь не мила. Она так хочет это услышать, и, пусть это выглядит глупым, но такая уж правда о нас - нам важно это слышать. Поступки, дела - безусловно, в этом вся суть, но какое волшебство творит одно только слово любви... Эд учится произносить это слово. И не одно. Он любит - и в этих главах обнаруживает еще одну грань любви. Способность принимать и облегчать чужую боль. Он ненавидит свою слабость, ненавидит свои раны, он умеет с ними жить - но не знает, кем бы он был без них. Для него они - уродство, которое нужно скрыать от посторонних глаз. И тут он видит, как Эл умеет утешать. Как она умеет быть стойкой в чужом горе, как умеет вобрать его в себя как свое и не сойти с ума. Какая сила духа! Момент, когда Эд смотрит на Кайлу, и на его лице отражается боль, невероятно сильный. В жизни, которую ведет Эд, уение не показывать своих чувств считается достоинством, силой, но как ему самому от этого тяжело! И вот момент, когда он задумался "об Эдварде Милне", был таким значимым... и знаковым. Все это время он был озабочен такими вещами как не провалить миссию, защитить Эл, попробовать хоть немного сделать ее счастливой... А теперь он задумался будто впервые, а может ли быть счастлив он? Конечно, "счастье" - слишком громное и приторное слово для Эда и Эл, которые живут на острие ножа. Но он задумалсь об облегчении, об утешении. Об исцелении и покое. Как это дорого, когда такой закрытый и наполовину окаменевший человек может хотя бы мысль допустить о том, что его жизнь (или отношение к ней) может измениться... Пусть даже перед лицом смерти. А когда еще? "Приключение" с Ханной, как я сказала, было уже сродни шоковой терапии. Клин клином, так сказать. А ну-ка иди, если такая честна и правоверная, а ну-ка выкладывай все свои подозрения! Но там, где все построено на страхе, уже нет места честности и справедливости. И страх Ханны показывает, что и по ней, видимо, ездили. И ее, может, на скамью клали... Вопрос только, какими средставами она нашла взаимопонимание со следствием. Вопрос риторический. И пережитое, видимо, никак не помешало ей и дальше работать в концлагере (а может, ее туда после знакомства с гестапо и закинуло), носить белое пальто и пытаться растоптать чужие жизни. Жестокость порождает жестокость. И не перестаю "умиляться", как каждый раз она кричит о том, чтобы Харри был осторожен, а потом делает все, чтобы навредить ему и его жене. Сколько раз понадобится Ханне перебегать дорогу Кельнерам, чтобы грабли ей уже лоб расшибли?.. Да, очень классный момент с обменом шпильками Эда и Зофта. "Не ожидал увидеть вас здесь". А Зофт в общем-то хорошо держит мину при плохой игре, его разоблачили, а он и ухом не повел, мол, "так надо", или "я знаю, что вы знали, что я знаю, что вы знаете". Интересный он противник, учитыая, что он пытается соблюдать правила игры. Это не похотливый эсесовец и не чиновник, пользующийся своим положением, и не ревнивая стерва. Мне кажется, ему самому доставляет удовольствие изощренное этот интеллектуальный поединок с супругами Кельнер. И он хочет сам их подловить, расколоть, не силовыми методами, а чтобы как в шахматной партии кто-то совершил бы ошибку. Наконец, визит Агны к заказчице выдался действительно тошнотворным. Вот оно - говорить с возмущением о погромах только потому, что они вышли слишком уж громкими и затратными! Говорить спокойно о гибели 36 тысяч людей, переживая о финансовых издержках. И это уже не Ханна, это "достопочтенная дама", которая уж точно родилась и выросла не после 1МВ, когда бедненькие немцы так "страдали", а в самый расцвет Германской Империи, ее "культуры" и "благонравности". Вот вам и благонравность. Как "радуют" и господа англосаксы. Центр отмахивается от посланий своих шпионов, а официальный представитель комитета, который занят не много не мало спасением детей чопорно говорит: "Вас это не касается, ваше время истекло". Мне кажется, даже Гиббельс так резко не давал Эдварду поворот от ворот. Омерзительно и низко. Но британцы же уверены, что Чемберлен "привез им мир". И спасаем только тех евреев, которые не слишком похожи на евреев. Чтоб, прости Господи, "глаз не мозолили" английским аристократикам. Какое же позорище.... Если про Францию Кейтель сказал, подписывая капитуляцию, "и они у нас выиграли?", то про Англию ему следовало бы сказать: "Разве они вместе с нами не проиграли?.." Столько ведь подыгрывали... И занятно, что под словом "восток" Эд и Эл даже не помышляют об СССР. Видимо, настолько невероятным был все-таки план Гитлера воевать против самой большой в мире страны, что в головах не укладывалась такая возможность в принципе. На этот счет есть разные точки зрения, но говорят, что и Сталин не верил донесениям наших агентов, что Германия планирует воевать на два фронта и наступать на СССР. По крайней мере, начинать наступление в разгар лета, когда до осеннего бездорожья рукой подать. Но Гитлер был уже слишком самонадеян. Блицкриг, ну да, ну да... Спасибо большое! п.с. Поняла, что в прошлом отзыве не упомянула сцену с милым нашем Белым Лунем. Очень ценен его взгляд со стороны как на Эда, так и на трагедию с Эл. Честно, когда он выдал этот монолог о том, как Эл попала в больницу, и как он пытался, но не мог спасти их ребенка, довел меня до слез. При минимальных описаниях переживаний и чувств героя, один этот монолог передает всю боль старого врача, который всю жизнь видит чужие страдания и лишь малую часть их способен облегчить. Вечный разрыв между тем, к чему призван, и тем, что действительно может сделать, и не потому, что мало старается (он всего себя отдает своему служению), но потому что такова жизнь, такова судьба, таково несовершенство науки и хрупкость человека. Но трезвое понимание, что врач не всесилен, даже самый опытный, не дает нашему Луню отрешиться от чужого горя и просто развести руками. Прошло уже пять лет, а он помнит Эл, помнит ее боль и причитается к ней своей болью, ибо в том, как он говорит о ней, такой надрыв... и горечь. И, думаю, для Эда эта вспышка откровенности стала утешением. Даже большим, чем он мог бы признать на первых порах. Знать, что по твоему горю плачет искренне еще один человек - утешение, очень большое утешение. п.п.с. Спасиб за упоминание Гейдриха, сейчас нашла время и постаралась подробнее узнать о том, что это за человек. Чтение вашей истории как всегда располагает к самообразованию. 1 |
|
|
Anna Schneiderавтор
|
|
|
h_charrington
Показать полностью
Здравствуйте! там у Ханны больше какого-то глубинного страха перед тем, чего она никогда не сможет понять, чем реально вот сочувствия. И тот самый страх столкновения с чем-то большим, что есть в тебе, мог бы ее отрезвить, заставить пойти иной дорогой... Но нет. Не вышло. Минутная вспышка почти что благоговейного ужаса снова затоптана животной ревностью и тупой страстью. Согласна с вами, именно такой там страх. Страх перед неведомым, тем, что гораздо больше слов. И Ханна, верная себе, не удерживается от вопроса о Харри. Все ли с ним в порядке? Думаю, этот жест с платком был в чем-то искренним, но он, как вы и сказали, не повел Ханну дальше. Точнее, не вернул ее обратно. И все покатилось дальше, под гору. Я в каком-то из отзывов делилась соображениями о том, что у Ханны могло просто не быть понимания, что такое настоящая любовь, и та страсть, похоть и собственническое чувство могут быть ею приняты за то, что она "любит", а поскольку эта звериная жажда не находит удовлетворения, то, значит, еще и "страдает", и ей как "жертве" позволены любые средства для достижения ее "великих" целей. И при этом Ланг очень высокого мнения о себе. Но если отставить в сторону ее красивую внешность, такую правильную по тем временам, то что останется? Горечь? Ярость? Злость, ставшая озлобленностью? Повторю, она, как и всякий другой человек, могла пойти иным путем. Но выбор ее, как и выбор другого, всегда, конечно, свободен. И ее самомнение о себе, что примечательно, основано тоже, в общем-то, только на собственной внешности. В этом смысле яркий момент — тот, где Кельнер подвозит ее до дома, а она всю дорогу уязвлена тем, что он реагирует на нее сухо, не так, как она к тому привыкла. И если круг ее собственных интересов и ценностей узок настолько, то стоит ли удивляться тому, что она всё судит лишь внешне? Сама не обладая почти никаким душевным содержанием. И на основе своих нынешних "страданий", она, видимо, решает стать судьей и решать: кого миловать, а кому — голова с плеч. Все ее истерики и метания утомляют. Будь иное время, не такое опасное, Харри сказал бы ей гораздо более открыто гораздо больше "хороших" слов. Но время не то. С ней ему тоже приходится сдерживать себя. Честно скажу, я отнюдь не сторонник того, чтобы объяснять все-все особенности поведения и мировоззрения человека исключительно травмами, пережитыми в детстве. Нам дана волшебная способность изменяться. Учиться на своих ошибках. Переживать опыт и взрослеть, что в 5 лет, что в 50. Поэтому просто сказать, что у Ханны не было перед глазами примера "истинной любви", и списать на такую вот "необразованность" всю ее чудовищную гнильцу, никак невозможно, на мой взгляд. Ведь даже если и так, та самая "истинная любовь" сподвигла бы ее к изменениям. Я не задумывалась так четко о том, чем объяснить поведение человека. Но тема с детскими травмами кажется очень узкой и заезженной. Сколько можно? Нам и Гитлера впихивают в рамочки несчастного, непонятого художника. Вот прими его тогда в венское училище, вот было бы всё хорошо... А если нет? Все? От одной неудачи, пусть и болезненной, сломался и пошел всех жечь и ломать? Как же это уродливо и отвратительно. Только твари способны на такую лютую месть, истинные твари. И не надо никаких объяснений — нет их, не существует в таких случаях. Неважно, был ли у Ханны счастливый опыт любви или нет, а действует она ровно так же. Мстит, гадит, и в этой своей пакости не хочет видеть никаких границ. Дай такой волю, и была бы еще плюс одна Ильза Кох. Есть люди, которые, к примеру, не познают в своей жизни счастливую любовь. Не знаю, почему так, но бывает. И что, теперь всем мстить? Кто виноват в твоей боли? Никто. Может, и ты не во всем виноват, и есть еще какие-то иные факторы, но винить других, "мстить" им, — это гадость и низость. Но какая же она назойливая, и сколько уже крови подпила! Да, очень много сил и души уходит на нее, к сожалению. И поразительнее только то, что до сих пор, даже после почти визита в гестапо, она не успокаивается. Совершенно сошла с ума, я думаю. И не хочет остановки. Признаюсь, сколько я ни пыталась найти ответ на этот вопрос, ничто меня до конца не удовлетворяет, кроме мнения, что люди, по природе куда легче склонные ко злу, чем к добру, получая возможность творить зло и не нести за это ответственность, будут это делать с большой охотой, потому что видимых выгод больше, чем если держаться (еще и рискуя положением и даже жизнью) за совесть и моральные принципы. Полагаю, в моменте у многих просто не возникал вопрос "а правильно ли это?", они видели перспективы и выгоды - даже в убийстве 36 000 евреев - и шли на это, вовремя позволяя себя закрывать глаза и морщить носы. Тут часто гооворят о бедственном положении Германии после 1МВ. Помню, нам учительница истории рассказывала, что инвалиды, вернувшись с войны, совершали самоубийства, чтобы их вдовам и сиротам выплачивали пособия большего порядка, нежели по инвалидности кормильца. Но что, интересно, во Франции, половину которой истребила Германия в 1МВ, в России, которую мало что в 1МВ использовали как пушечное мясо, так добили напрочь революцией и Гражданской войной, не было отчаяния и бедственного положения? Но как-то не докатились до "окончательного решения еврейского вопроса", восстанавливая свои экономики. Как-то не дошли до полнейшей бесчеловечности, пробивая себе "дорогу в будущее". Да, и для меня этот вопрос открыт. А может, при наступлении нацизма, для таких, "более склонных" ко злу, и выбора не было? То есть и вопроса не стояло: плохо или хорошо? Выгодно, — вот и ответ. Сколько было уверено в победе "германского гения", в "расчистке новых территорий"... Гитлер и Ко орали с трибун о том, что "ничего не бойтесь, всю ответственность я возьму на себя!", — уверенные в том, что всё им не просто сойдет с рук, а зачтется как праведная цель в очищении пространства. Странно обо всем этом говорить, когда у самой (то есть у меня:) немецкая фамилия. Но всю эту "риторику" ненавижу люто. Просто какая-то внутренняя ненависть просыпается. Согласна с вами в ваших размышлениях о немцах. Меня умиляет еще и то, что они нам на полном серьезе заявляли, что зачем это мы к ним пришли? А Геринг вообще в своих речах дошел до того, что какие-то советские люди (недолюди, конечно же, по их размышлению культурных людей) не имеют права (!) судить их, немцев и национал-социалистов. То есть настолько все человеческое было выхолощено в этих уродах. То есть убивать людей миллионами, грабить их, насиловать — они, "великие" и "культурные" имеют право, а судить их не может никто. На такое даже не знаю, что ответить. Жалею, что Геринг сумел сам убиться. Хотелось бы, чтобы его, как большинство его единомышленников на том первом суде, вздернули. Веревка бы только оборвалась: толстый был непомерно. Но ничего, подвязали бы снова. Мне хочется верить, что мы никогда не дойдем до таких "окончательных решений". Меня, со временем, стало поражать другое: как обескровлен, как разрушен был СССР войной. И как быстро восстановлен! Параллельно с этим шла насмерть гонка по разработке ядерного оружия. А в 1961 г. не кто-нибудь, а мы — первые в космосе. Всего через 16 лет по окончании такой войны... Раньше я смотрела на снимки моделей в платьях Диор, прилетевших в Москву в то время, с сочувствием к нашим женщинам, одетым в самые простые платья. А теперь хочется сказать: идите на ... со своими платьями, в свою Францию. Где бы они все были, если бы не СССР? Но страх в том, что им там, на той стороне, нравилось. И ничего не казалось страшным. А что такого? Спасибо за отзыв! 1 |
|
|
Anna Schneiderавтор
|
|
|
h_charrington
Показать полностью
Часть 1. Здравствуйте! Спасибо, что подарили нам это чудо воссоединения с Кайлой. Что оставили ее в живых, что сохранили ее малыша. Когда столько боли, и история идет к финалу, не ожидаешь уже и проблеска света (разве что вспышки ракеты, которая взорвет все к чертям), однако такой вот дар напоминает нам о том, как в жизни ценно подлинное чудо. И оно случается. Я просто не могла лишиться Кайлы. Пусть она не главная, но очень важная героиня. То же касается и ее ребенка. Даже если все это, может, выглядит неправдоподобно, — плевать. Вокруг и так слишком много смертей и пожаров. Но Кайла будет жить. В конце концов, правдоподобие самой жизни иногда очень "хромает": есть в нашей истории воины, прошедшие через 17 концлагерей, и не сломленные этим ужасом. Господи, как трогательно - особенно вот такой яркой вспышкой жизни вопреки всему посреди всей этой мглы. И тут же рядом - несчастная Эл... Я ей очень и очень сочувствую. Ей самой себя страшно: как, спрашивает она себя, я могу искренне помогать Кайле, если сам факт, что она ходит с ребенком под сердцем, а я этого лишена, вызывает во мне приступ боли, и зависти, и горя? И рука одернулась, и снова пришло страдание. Это то же отчасти, что испытывает Росаура: личное (как всегда, но в такие времена это особенно) очень переплетено с "внешним". И хотя опасность — везде и всюду, вокруг Эл и Эда, личное отменить невозможно. Потому что оно и есть ты. И даже понимая, что мир уже слетает в темноту, забыть свое не можешь. И заглушить такую боль окончательно вряд ли возможно. Даже если потом будут другие дети, этот, не рожденный малыш, останется самим собой, тем же самым малышом, что умер. И тут же поднимается неусыпно другая волна: следить за собой, соблюдать осторожность, — все то, что уже вшито под кожу у Элис, и у Эдварда. И хорошо, что в такой момент рядом с Эл была Кайла. Даже если она что-то и подозревает (хотя я не думаю), то в любом случае никому не выдаст ни Агну, ни Харри. Интересно, что сама просит от него откровенности, но уже в который раз не делится с ним своими переживаниями. Она сильная и гордая, и, конечно, опасается ранить его своими переживаниями или обременить, или, хуже, подтолкнуть к решительным действиям (как когда он ходил угрожал Гирингу), которые могут повредить ему. И... еще ведь, как удивительно точно отражена печальна правда жизни: стоит хоть чуточку всковырнуть давнюю, непроболевшую до конца обиду, как она тут же восстает пламенным драконом. Ну вот, казалось бы, давно уже исчерпан вопрос верности Эда, его отношения к Ханне. Но стоит ему только упомянуть, что схватил Ханну за руку, как у Эл все отключается. Она уже не вдумывается в разницу между "схватил" и "взял". Она уже не слышит, что он схватил ее, чтобы уберечь Эл. Да, интересный перевертыш: просьба об откровенности и уже, в самом деле (как в случае с примеркой платья Ханной и "упреком" Агны в бездетности), не первая — с одной стороны, причем со стороны Элис, которая раньше, сама по себе была гораздо откровеннее, и Эд даже гордился своим умением легко "читать" ее лицо и эмоции, и нежелание рассказать Милну о том, что ее саму беспокоит. Но, думаю, Эдвард из проницательности, плюс-минус все знает. Конечно, это не скытность Эл, равная отстранению, а нежелание увеличивать и так то горькое и страшное, что есть. Только вот, конечно, от молчания ей легче не станет. Да и с кем еще ей всё делить, как не с Милном? Громадная радость (если уместно употребить это слово в данном контексте) в том, что они вместе не только как влюбленные, они вместе и на одной стороне и в жизни, и в миропонимании, в том деле разведке, о которой даже любимому не скажешь, нельзя. А понять это другой, сам не бывавший по эту сторону разведки, не сможет. К тому же, Элис уже не та девочка, прибежавшая в страхе в комнату Милна в первую ночь в Берлине. И думаю, теперь Эд не всегда может похвалить себя за умение "читать" Эл. Ну а что касается Ханны... тут все то же: та рана, как потеря ребенка, в какой-то степени всегда будет открытой. Это признали в том примирении после вечера с танцем и Софи, оба: и Эд, и Эл. Да и глупо было бы делать вид, что этого не было. Кто-то, конечно, выбирает и такой ход, но смысл? Глухой, постоянный стук-напоминание и саму память — не отменить, как ни старайся. Честность гораздо лучше в такой ситуации. Эд видит, что он не может просто так успокоить Эл. Словами до нее не достучишься. Когда болит сердце, разумные увещевания только больше бесят и доводят до крайности. Единственное, что работает в этот момент - это взять (или уж схватить) как можно крепче, прижать к груди и говорить о любви. О том, что Эл - единственная, о том, что без нее жизнь не мила. Она так хочет это услышать, и, пусть это выглядит глупым, но такая уж правда о нас - нам важно это слышать. Поступки, дела - безусловно, в этом вся суть, но какое волшебство творит одно только слово любви... Слова, правда, здесь не работают. Ну что он скажет? Все то же: то было ошибкой, а все, что у нас — и было, и есть одно настоящее? Эл это умом знает, она это слышала от Эдварда не раз, и, думаю, верит ему. Но боль, острую и сердечную, все это не отменяется Потому что рана всегда будет открыта. А доверие уже было основательно нарушено, и в той темноте они уже оба были. А скатиться в темное нам, не таким уж и уверенным в себе, всегда гораздо быстрее и проще, чем удерживаться в луче света. Поэтому выход один — быть рядом и ждать, когда стихнет приступ боли. И снова врачевать рану. Ну а слова... да, так вот удивительно они действуют на нас. Все всё знают про "смотри на дела и действия", но слова способны как исцелить, так и погубить. Притом, что это не просто слова, это — истинная правда для них двоих. В форме слова. Он ненавидит свою слабость, ненавидит свои раны, он умеет с ними жить - но не знает, кем бы он был без них. Для него они - уродство, которое нужно скрыать от посторонних глаз. И тут он видит, как Эл умеет утешать. Знаете, я думаю, Эд не ненавидит свои раны. Он их принимает. Да, возможно, он хотел бы, чтобы ни их, ни того опыта, что они ему принесли с собой, у него не было. Но без них он не был бы таким, каким мы его знаем. А может, сложись его жизнь более благополучно, он вырос бы рафинированным болваном? А потом, как Стив, решил бы, что и ему "все можно"? А что? Деньги, положение есть. Бороться "за место под солнцем" не нужно. Вообще ничего не нужно, — безбедное существование обеспечено на всю жизнь капиталом от родителей. Я не знаю, где эта золотая середина между правильным неравнодушием сердца и души и абсолютным равнодушием ко всему, возникшим из-за привычки к достатку. Мы так часто привыкли считать, что любви много не бывает. Но я смотрю на ту же дочь Делона и меня берет ужас, отвращение. Ей не на что жаловаться в своей жизни. Она, в отличие от своего отца, не знала бед или нужды. Отец ее обожал. А выросло на этом обожании чудовище. Монстр, приложивший руку к тому, что последние годы его жизни, судя по всему, были полны и горечи, и боли. И при этом, кажется, абсолютное непонимание того, кем был ее отец. Да, для нее он, прежде всего, папа. И потом "Ален Делон". Но такая душевная тупость... это так страшно. Безумно. Боль свою Эд скрывает из соображений того, что знание о ней никому не сделает лучше. Но и сам он, под ее гнетом, как мы видим, уже не выдерживает. Все это глубоко личное, опять же, совсем "не к месту", когда такая обстановка вокруг. Но сама мысль о том, что он, после всех этих лет абсолютного молчания, может быть принят и понят, а не отвергнут... Я думаю, для него это не меньше, чем потрясение. И я очень рада, что такая мысль пришла к нему, не оставила его в покое, а растревожила. Во имя дальнейшей жизни и любви, как бы странно это ни звучало на пороге войны. 1 |
|
|
Anna Schneiderавтор
|
|
|
h_charrington
Показать полностью
Часть 2. "Приключение" с Ханной, как я сказала, было уже сродни шоковой терапии. Клин клином, так сказать. А ну-ка иди, если такая честна и правоверная, а ну-ка выкладывай все свои подозрения! Но там, где все построено на страхе, уже нет места честности и справедливости. И страх Ханны показывает, что и по ней, видимо, ездили. И ее, может, на скамью клали... Вопрос только, какими средставами она нашла взаимопонимание со следствием. Вопрос риторический. Да, вопрос более, чем риторический. Тот, на который ответ не важен и не интересен. Именно потому, что всей своей сутью Ханна вызывает, может быть, сожаление (как человек, свернувший не туда), но не сочувствие. Я знала, что она как-то использует тот случай с подменой чемоданов. Это была бы не Ланг, упусти она такой повод задеть и зацепить. Но до того, как описала эту встречу Харри и Ханны под аркой, не знала, как именно. И, опять же, радуюсь наблюдательности Милна, заточенной годами разведки. Ведь он мог ее и не заметить. Да, очень классный момент с обменом шпильками Эда и Зофта. "Не ожидал увидеть вас здесь". А Зофт в общем-то хорошо держит мину при плохой игре, его разоблачили, а он и ухом не повел, мол, "так надо", или "я знаю, что вы знали, что я знаю, что вы знаете". Интересный он противник, учитыая, что он пытается соблюдать правила игры. Это не похотливый эсесовец и не чиновник, пользующийся своим положением, и не ревнивая стерва. Мне кажется, ему самому доставляет удовольствие изощренное этот интеллектуальный поединок с супругами Кельнер. И он хочет сам их подловить, расколоть, не силовыми методами, а чтобы как в шахматной партии кто-то совершил бы ошибку. Все верно, — Зофт не так прост, как хочет казаться. Это не обезумевший то ли от вспышки влюбленности в начале, то ли похоти, Биттрих. Это не новенький эсесовец, вчера взятый из "Гитлерюгенд", и пугающийся собственной тени. Это даже не Хайде, слишком взбешенный по эмоциям, чтобы всерьез противостоять Харри. Это именно противник. Умный. Потому что те твари во многих случаях были умными. И да, Зофт жаждет победы. Но еще — отменной игры. А она предполагает все эти словесные "не ожидания". Наконец, визит Агны к заказчице выдался действительно тошнотворным. Меня до сих пор это очень интересует: а как себя вели тогда немцы? Простые немцы, рядовые немцы? Все нравилось, ничего не волновало? Это тоже, во многом, вопрос без ответа. Тем более, что после нашей Победы они быстренько переквалифицировались в сплошь тайное сопротивление, которое с 1933 по 1945 было всегда резко против Гитлера. Ну-ну, знаем. Центр отмахивается от посланий своих шпионов, а официальный представитель комитета, который занят не много не мало спасением детей чопорно говорит: "Вас это не касается, ваше время истекло". Мне кажется, даже Гиббельс так резко не давал Эдварду поворот от ворот. Омерзительно и низко. Тут, в случае с новым героем, с Фоули, я могу только посоветовать подождать. Очень мне интересно узнать ваше мнение о нем после всех событий. Ну а Центр — на то Центр. Оттуда, с Форрин-офис в Лондоне, видно лучше обстановку в Германии. Вон, даже Милна, в делах почти всегда предельно выдержанного, довели до кипения. И спасаем только тех евреев, которые не слишком похожи на евреев. Чтоб, прости Господи, "глаз не мозолили" английским аристократикам. Какое же позорище.... Да. Я когда читала реальные данные об этой программе "Киндертранспорт", поверить не могла этому. Но очевидцы, которых просили рассказать о ней, подтверждали слова друг друга: дети внешне должны были внешне походить на евреев. Еще — здоровыми, придежными в поведении и учебе. Не инвалидами какими-нибудь, конечно же, ну что вы! И в этом — расчет, а не настоящая помощь. Причем, семьи могли отправить по этой программе только одного ребенка из семьи. А семьи тогда, как правило, были многодетными. И понятно, что ожидало оставшихся в Германии. И занятно, что под словом "восток" Эд и Эл даже не помышляют об СССР. Видимо, настолько невероятным был все-таки план Гитлера воевать против самой большой в мире страны, что в головах не укладывалась такая возможность в принципе. Я думаю, и война Гитлера против Англии и Франции тогда еще тоже могли выглядеть невероятным. Как? Как это возможно? А между тем "блицкриг" настолько отбил Гитлеру даже его больные мозги, что эту кальку он приложил и на СССР, с его громадными территориями. Как сказал Геринг: у нас было очень много информации о состоянии СССР перед войной. Численность населения, подготовка, запасы, ресурсы... одного мы не учли и не могли знать: советского солдата, который так яростно сражался за свою землю. Так, что и смерть не останавливала. На этот счет есть разные точки зрения, но говорят, что и Сталин не верил донесениям наших агентов, что Германия планирует воевать на два фронта и наступать на СССР. По крайней мере, начинать наступление в разгар лета, когда до осеннего бездорожья рукой подать. Да, многие говорят, что Сталин не верил. И донесениям многих разведчиков, и даже тому, что, конечно же, не просто так ранее был заключен пакто Молотова-Риббентропа. Не верил он и донесениям Зорге. А уж Зорге — какой разведчик! Могли его вытащить из тюрьмы, а вытаскивать не стали. Он тоже, кстати, называл точную дату: 22 июня 1941. А Сталин думал, что он двойной агент. А Зорге умер в тюрьме, но своих не сдал. Поняла, что в прошлом отзыве не упомянула сцену с милым нашем Белым Лунем. Очень ценен его взгляд со стороны как на Эда, так и на трагедию с Эл. Честно, когда он выдал этот монолог о том, как Эл попала в больницу, и как он пытался, но не мог спасти их ребенка, довел меня до слез. Спасибо вам за такое неравнодушие! Я тоже очень люблю этот горький момент. Это сочувствие старого человека, опытнейшего врача. Чего и кого он, действительно, не видел в своей жизни? А Эл, эту девочку, запомнил. И столько сострадания к ней, к Эдварду. К чужой жизни, которая столкнулась с таким непоправимым горем. На таком сердце и на таком умении сопереживать, и держится, думаю, во многом, наш мир. А Гейдрих, кстати, — из тех самых очень "культурных" нацистов, о которых вы писали в недавнем отзыве. И скрипка, и фортепиано... Образцовый на всю сотню. А вместе с тем, — не человек, а чудовище. Спасибо вам! 1 |
|
|
отзыв на главы 3.14-3.15, 1 часть
Показать полностью
Здравствуйте! Вот, я снова плачу. Вообще я очень ценю моменты, когда искусство вызывает во мне такую реакцию. Это настоящие переживания, они как ничто показывают, как искусство проникает в жизнь и обнажает самые сокровенные и красивые, осмысленные и значимые её моменты. Над чем я плакала в этот раз? Во-первых, конечно же, сцена встречи Мариуса и Эл. Вначале я была обескуражена, как это, он ее не узнает, а еще так озлоблен, что готов растерзать своих спасителей!.. Но что еще можно было требовать от человека, на глазах которого убили мать? И не просто не дают ему прожить горе, а вокруг во всеуслышанье объявляют, что "ничего такого" не было... какая гнусность, какая ложь... Мальчику 12 лет, он не способен думать о целесообразности, безопасности, благоразумии... И, может, он честнее и искреннее всех собравшихся. Это взрослые могут запирать сердце на замок, зашивать рот суровой ниткой, и в страшном мире Берлина конца 30-х, где все говорят шепотом, а лучше - вообще молчат, нам просто необходим был этот крик разгневанного, обездоленного ребенка. Именно уже подросшего, в котором потеря вызовет не только горе, но и гнев. Который будет уже понимать прекрасно, что происходит, без тонкостей и политики, но в самой что ни на есть правде жизни: там звери. Здесь люди. Да, он натерпелся страха, но гнев выжег страх, гнев оказался сильнее шока, и ребенок, эта чистая душа, уже способен испытывать такую лютую ненависть, что иным бы поучиться у него. Потому что ни о каком "примирении" и уж тем более "принятии" зверства речи быть не может. И когда сейчас я порой слышу о попытках говорить о преступлениях нацистов "помягче", у меня волосы дыбом встают. Как видим, в те времена взрослые, осознанные, зрелые люди вообще не смели назвать это "преступлениями", по крайней мере вслух (и самое страшное, что многие ведь и вправду не считали происходящее таковыми?...), так пусть остаётся этот гневный крик ребенка, который ненавидит. И тем сильнее впечатление, когда он наконец-то из-за кровавой пелены перед глазами сумел различить и узнать перед собою Эл. Свою фею-крестную... Конечно, он по-рыцарски, по-юношески влюблен. И я думаю, это прекрасно для него - быть влюбленным в такую женщину, как Элисон Эшби. Эта влюбленность преподымет его над гневом и болью. Поможет отделить зерна от плевел, набраться стойкости, воли, превратит его из гранаты, которая готова была взорваться в любую секунду от малейшего неосторожного жеста, в борца. Который будет неутомим, но не растратит себя попусту. И Эл - вовсе не та фея, которая заманит этого маленького рыцаря в свой волшебный Бугор, где потеряется счет времени, и все былое покажется дурным сном. Нет. Наоборот, она научит помнить, ценить, поможет, чтобы боль, которая сейчас может довести до саморазрушения, стала болью, которая, как ни странно, придает сил и напоминает о смысле, что к чему. Как у Высоцкого, "если в жарком бою испытал, что почем", и там продолжение про нужные книги, которые прочитал в детстве. Думаю, равноценно будет сказать про нужных людей, которые тебя поддержали, направили и утешили. Потому что Мариус, как всякий переживший потерю человек, нуждается в утешении. но не приторно-сладком, а в трезвящем. И Эл иное дать и не может. Она видит своими глазами весь ужас происходящего, она все прекрасно понимает, она переживает свою боль, свой страх, она ведет свою борьбу. И те чудесные мгновения, о которых говорит в финале этой главы Эд, они возможны между Мариусом и Эл именно потому, что там не будет притворства, попыток "сгладить углы", отвлечься на что-то несущественное, затереть и забыть(ся). Это не значит, что в их общении они будут обмусоливать новости или говорить лозунгами сопротивления, но там будет честность и чистый взгляд на мир, даже если разговор будет идти о самых отвлеченных вещах. Да и вообще, мне кажется, когда между людьми _правда_, там не может быть "отвлеченного" и "несущественного". ...к слову, Мариус и книги нужные читает. Конечно же, рискует. И с точки зрения взрослого, который болеет душой за жизнь мальчика, мне, как и Эду, хочется посетовать, что вот, он неосмотрителен, зазря подвергает себя опасности, рискует... Но не могу не понять Эл, которая говорит о Ремарке под полой пальто Мариуса с гордостью. И конфликт, который на протяжении главы охладил отношения Эда и Эл касательно всей ситуации, тоже очень понятен. Эл вся - сердце, она чувствует, что вот сейчас - самые что ни на есть мгновения жизни, и ее мечта стать матерью вот так внезапно осуществилась. Конечно, она видит в Мариусе сына. С самого начала видела. Это невероятно трогательно не в слезливо-сентиментальном смысле, а опять же в своей правде, в том, что это - кусочек счастья для несчастной Эл, и это надежда и возможность приподняться после потерь для Мариуса, это тот опыт, который жизненно необходим им обоим. Второй раз меня пробило, когда Эд вновь вспоминал об аварии своих родителей. Теперь его мысли были сконцентрированы вокруг отца. И эти говорящие без всяких слов подробности... Как он аккуратно уложил его руку... Как ему пришло осознание, что на горячая, потому что на самом деле уже остыла, но ее нагрело солнце... И страх, и ужас, и боль, и оцепенение, которое приносит потеря, и то таинственное действие любви, которое выражается в горе. Шокировал эпизод с Эрихом, вот же подонок, мало из него Эд сделал отбивную? Кстати, вспоминаю, что я была уверена тогда на боксерском поединке, что Эд его именно что насмерть избил (и, кажется, сам Эд так решил поначалу). Сейчас допускаю, что Эд (и я) подумал так, потому что пережил внутри ту ненависть и остервенелую ярость, которая и доводит человека до возможности совершить убийство. Внутри переступлена какая-то грань, и это пугает. Не успела я задуматься, испытываю ли облегчение, что Эд все-таки не убил Эриха, как эта скотина (пардон, но мерзавец же) вваливается в сюжет и самым варварским образом ведет Эда на пытки... просто потому что может. Просто потому что он не Зофт, который удовлетворился бы ответами Эда и отступил до поры, а потому что сделал именно то, чего Зофт себе не позволяет: выбесило его, что Эд явно умнее, находчивее и проворнее, и просто использовал право сильного. То бишь, наделенного властью и не обремененного больной рукой. Наверное, самое шокирующее в этой сцене именно то, что Эд почти что уже вышел сухим из воды благодаря своим умным ответам и прекрасной выдержке, но суровая реальность показала, что ты можешь быть хоть семи пядей во лбу (и это оценят Зофт или Гиббельс), а такие дуболомы, как Эрих, только больше выбесятся и потащат тебя в подвал, просто потому что могут. И, конечно, долгая партия с Зофтом может привести к последствиям попросту необратимым и гораздо более страшным, чем сеанс избиения за десять метров от собственного рабочего места, однако вот это отсутствие всяких правил, беспринципность, звериная жестокость и тупая сила... Это страшно. Страшно, страшно... 1 |
|
|
отзыв на главы 3.13-3.15, 2 часть
Показать полностью
Интересен был отрывок от лица Зофта, как всегда, мурашки по коже пробегают, когда благодаря мастерству автора как бы влезаешь в шкуру зверя. Так было с Биттрихом, с насильником в Хрустальную ночь, теперь вот - очередной хищник. Умный, самовлюбленный, уверенный, что он идет на жертву ради "искусства контрразведки", просиживая часы в неудобной машине. И раздумывает над тем, как бы прижать беззащитную девушку, заставив ее пройти через ужас, боль и унижение, лишь бы "найти доказательства". Ну да, он-то "играет по правилам". Жуть. Зато какая красивая и эффектная сцена погони! Как Эд выложился на все сто! Такое опасное и красивое сочетание предельного риска и максимального контроля... Да, я вторила словам Эл: "Никогда не видела тебя таким..." Вспомнила сцену, где Руфус катает Росауру на метле)) Обстоятельства у них, конечно, куда как благоприятнее, здесь-то у Эда ни толики "лихачества ради лихачества". Он спасает их жизни, но в то же время играет с огнем. Он дает нам увидеть на пару мгновений, в каком адском напряжении он живет каждодневно, и этот порыв, от него веет такой жизненной силой, жаждой, скоростью... Вспоминаю о том, как Эд увлекся гонками вскоре после смерти родителей, чтобы на грани жизни и смерти ловить этот адреналин и чувствовать себя живым. Мне кажется, это была главная потребность у него и сейчас. Постоянно играть роль, быть на пределе контроля, оберегать Эл, оставаться сильным, невозмутимым, несокрушимым... Вот так красиво и пугающе прорвалось это напряжение. Знакомство с Кете вселяет веру в сильных, несломленных людей, которых изрядно пинала судьба, но они не сдались. В ее положении она может подвергнуться насилию, преследованию, быть заключенной в тюрьму, лагерь, а то и вовсе быть расстерелянной, в любой момент, но она упорно и неутомимо делает свое дело. Да, отношение к Фоули потихоньку меняется, по крайней мере, рекомендация его как друга Кете многого стоит, и факт, что он разведчик, обуславливает его поведение уже не столько трусостью и черствостью, сколько предусмотрительностью и осторожностью. Однако встреча с феей, конечно, заставила и улыбнуться, и удивиться. Ну, Эд прав, ничего не попишешь: все мужчины теряют голову от Агны Кельнер, он по себе знает))) И то, как этот с иголочки одетый, запакованный в твидовый костюмчик британец вдруг потерял дар речи, способность мыслить трезво и связывать слова последовательно, было даже забавно, вот только, увы, чары Агны не привели к нужному результату: вместо того, чтобы пасть перед ней на колени и спешить выполнить любой каприз, Фоули отказал ей и весьма жестко, отказал в присутствии своей подруги Кете. Быть может, подумал, что его пытаются перевербовать?...)))) Да, эта линия однозначно цепляет и интригует. Но... не могу не подчеркнуть, какой щемящий осадок оставляет последняя фраза Эда, что таких вот мгновений у Эла и Мариуса, а там и у них, уже, может и не будет. Конец 38 года. Через полгода уже начнется Вторая мировая война. А до конца истории (каждый раз с тоской смотрю на оглавление) осталось всего три главы... И мне и хочется, и колется листать страницы дальше. Слишком страшно за героев - раньше, хоть с ними и происходили самые ужасные вещи, а все-таки объем книги располагал к надежде, что они как-нибудь выберутся. Но теперь... неужели вот-вот будет подведена черта?.. Спасибо вам огромное! 1 |
|
|
Anna Schneiderавтор
|
|
|
1 часть ответа.
Показать полностью
h_charrington Здравствуйте! Вот, я снова плачу. Вообще я очень ценю моменты, когда искусство вызывает во мне такую реакцию. Это настоящие переживания, они как ничто показывают, как искусство проникает в жизнь и обнажает самые сокровенные и красивые, осмысленные и значимые её моменты. Спасибо за такие чудесные слова. Эти главы писались в диком цейтноте: не знаю, что или кто меня торопил. Но писать все эти главы, заключительные, спокойно и медленно, я просто не могла. И если получилось передать в тексте хотя бы часть настоящего, то я очень-очень рада. Над чем я плакала в этот раз? Во-первых, конечно же, сцена встречи Мариуса и Эл. Вначале я была обескуражена, как это, он ее не узнает, а еще так озлоблен, что готов растерзать своих спасителей!.. Но что еще можно было требовать от человека, на глазах которого убили мать? И не просто не дают ему прожить горе, а вокруг во всеуслышанье объявляют, что "ничего такого" не было... какая гнусность, какая ложь... Мальчику 12 лет, он не способен думать о целесообразности, безопасности, благоразумии... И, может, он честнее и искреннее всех собравшихся. Это взрослые могут запирать сердце на замок, зашивать рот суровой ниткой, и в страшном мире Берлина конца 30-х, где все говорят шепотом, а лучше - вообще молчат, нам просто необходим был этот крик разгневанного, обездоленного ребенка. Я сама была удивлена встречей с Мариусом. Таким Мариусом, и удивлена такой встречей. И, в то же время, а как могло быть иначе? Он видел то, что никому, тем более ребенку (еще) не пожелаешь. И всему этому гневу, всей этой боли в том Берлине не то что нет, а, по заветам нацистов, не должно быть места. И что делать? Как выразить эту дикую боль? Вот и остаются безрассудные, конечно, с точки зрения взрослых, забеги по городу с ножом. Но и сами взрослые недалеки от своей грани. Когда грань стирается, некоторые взрослые идут к веревке или к воде. Я не думаю, что Кете, Эл или Эд не честны здесь. Они, как никто, все понимают. Все, на самом деле. И, если бы могли, они бы тоже кричали от ужаса. Но нужно, необходимо ради жизни смирить себя. Иначе из этого ада и Мариус не выберется. Эд, как никто, понимает боль Мариуса. К тому же, он и Эл переживают боль от утраты своего малыша. У Кете много своих ран, ее жизнь тоже не благополучна. Но ради спасения нужно перестать кричать. И действовать. Иначе все они умрут от горя, если задумаются о нем и остановятся на месте. Конечно, это и больно, и невыразимо, и страшно. Но дорога ведет только вперед. И когда сейчас я порой слышу о попытках говорить о преступлениях нацистов "помягче", у меня волосы дыбом встают. Я сначала хотела пересказать своими словами. Но лучше дам прямую цитату (Борис Полевой, "В конце концов"): "Вот подвал — опять трупы, сложенные аккуратными штабелями, как на заводских складах размещают сырье. Да это и есть сырье, уже рассортированное по степени жирности. Вот отдельно в углу отсеченные головы. Это отходы. Они негодны для мыловарения, а может быть, нацистская наука отстала от потребностей жизни и еще не нашла метода промышленного использования человеческих голов. А вот расчлененные человеческие тела, заложенные в чаны, — их не успели доварить в щелочи". Это даже невозможно ни осмыслить, ни комментировать. И это — только часть сделанного нацистами. И об этом "помягче"?.. И тем сильнее впечатление, когда он наконец-то из-за кровавой пелены перед глазами сумел различить и узнать перед собою Эл. Свою фею-крестную... Конечно, он по-рыцарски, по-юношески влюблен. И я думаю, это прекрасно для него - быть влюбленным в такую женщину, как Элисон Эшби. Да, вы правы. Любовь с людьми способна творить чудеса. И здесь такое чудо Мариусу необходимо. Чтобы не сойти с ума. Потому что Мариус, как всякий переживший потерю человек, нуждается в утешении. но не приторно-сладком, а в трезвящем. И Эл иное дать и не может. Она видит своими глазами весь ужас происходящего, она все прекрасно понимает, она переживает свою боль, свой страх, она ведет свою борьбу. И те чудесные мгновения, о которых говорит в финале этой главы Эд, они возможны между Мариусом и Эл именно потому, что там не будет притворства, попыток "сгладить углы", отвлечься на что-то несущественное, затереть и забыть(ся). Это не значит, что в их общении они будут обмусоливать новости или говорить лозунгами сопротивления, но там будет честность и чистый взгляд на мир, даже если разговор будет идти о самых отвлеченных вещах. Впереди очень важный разговор Эл и Мариуса. И он именно такой, как вы предполагаете. А те слова Эдварда вызывают во мне острую боль. Потому что известно, что и сколько за ними стоит. И конфликт, который на протяжении главы охладил отношения Эда и Эл касательно всей ситуации, тоже очень понятен. Эл вся - сердце, она чувствует, что вот сейчас - самые что ни на есть мгновения жизни, и ее мечта стать матерью вот так внезапно осуществилась. Конечно, она видит в Мариусе сына. С самого начала видела. Это невероятно трогательно не в слезливо-сентиментальном смысле, а опять же в своей правде, в том, что это - кусочек счастья для несчастной Эл, и это надежда и возможность приподняться после потерь для Мариуса, это тот опыт, который жизненно необходим им обоим. Иначе и здесь быть не могло. Эл — именно раскрытое сердце. И ничто не может заставить ее действовать иначе. Да, я тут сама говорю про "делать", "собраться". Но когда на плечах столько всего, то иногда это становится совсем невыносимой тяжестью. Ценно и радостно для меня то, что Эл и Эд теперь, даже будучи в непонимании, иначе ведут себя. Оба. Переживают не меньше, но внешне ведут себя иначе. И за всем этим — громадное понимание боли другого, сочувствие, несогласие с ним и любовь. Второй раз меня пробило, когда Эд вновь вспоминал об аварии своих родителей. Теперь его мысли были сконцентрированы вокруг отца. И эти говорящие без всяких слов подробности... Как он аккуратно уложил его руку... Как ему пришло осознание, что на горячая, потому что на самом деле уже остыла, но ее нагрело солнце... И страх, и ужас, и боль, и оцепенение, которое приносит потеря, и то таинственное действие любви, которое выражается в горе. Спасибо, что так сочувствуете Эдварду. Мне безумно больно за него. И я очень горжусь им. Тем, как он смог, — пусть неровно (а ровно не будет уже никогда) — собрать себя напополам с этой утратой. Не люблю мелодраматическиих сцен, с криками "на разрыв аорты". Но в таких движениях, как здесь, деталях, взглядах, касаниях руки, мыслях — гораздо больше правды. Они, в то же время, очень точно характеризуют Эда. И воспоминания эти накрывают Милна все чаще. Значит, и его прочность подтачивается. Шокировал эпизод с Эрихом, вот же подонок, мало из него Эд сделал отбивную? Кстати, вспоминаю, что я была уверена тогда на боксерском поединке, что Эд его именно что насмерть избил (и, кажется, сам Эд так решил поначалу). Сейчас допускаю, что Эд (и я) подумал так, потому что пережил внутри ту ненависть и остервенелую ярость, которая и доводит человека до возможности совершить убийство. Внутри переступлена какая-то грань, и это пугает. Не успела я задуматься, испытываю ли облегчение, что Эд все-таки не убил Эриха, как эта скотина (пардон, но мерзавец же) вваливается в сюжет и самым варварским образом ведет Эда на пытки... просто потому что может. Просто потому что он не Зофт, который удовлетворился бы ответами Эда и отступил до поры, а потому что сделал именно то, чего Зофт себе не позволяет: выбесило его, что Эд явно умнее, находчивее и проворнее, и просто использовал право сильного. А вот там Эрих — во всей своей красе. Конечно, нет разницы (только внешняя) между ним и Зофтом. И, кстати, говоря о Зофте, скажу, что он еще себя "проявит". Так, как Эриху не снилось и не думалось. Я думаю, в конце поединка Милна ослепило его эмоциональное состояние, мысли об Элис, и знание, что он убивал, и — много. Именно поэтому в конце боксерского раунда у него нет никакой радости от победы, с которой его поздравляли буквально на каждом шагу. Да, — это Хайде, и он враг. Но и в отношении к нему Милн не испытывает жажды убийства. Ну, а Эрих, как видим, ни в чем себя не сдерживает. Тем больше, что знает за собой именно все то, что так бесит его в Харри — ум, утонченность, выдержку, настоящую силу. Поэтому Хайде делает то, что в его власти. Может увести на допрос. И уводит. И, конечно, долгая партия с Зофтом может привести к последствиям попросту необратимым и гораздо более страшным, чем сеанс избиения за десять метров от собственного рабочего места, однако вот это отсутствие всяких правил, беспринципность, звериная жестокость и тупая сила... Это страшно. Страшно, страшно... Нам все еще необычно отсутствие морали и правил. И пока это так, мы остаемся людьми. А вот это "могу" Эриха стоит именно на том, что в его власти допросить Кельнера. Неважно, виновен он или нет. Само чувство власти и безнаказанности (хоть забей до смерти) таких мразей пьянит. И да, это страшно. |
|
|
Anna Schneiderавтор
|
|
|
h_charrington 2 часть.
Показать полностью
Интересен был отрывок от лица Зофта, как всегда, мурашки по коже пробегают, когда благодаря мастерству автора как бы влезаешь в шкуру зверя. Так было с Биттрихом, с насильником в Хрустальную ночь, теперь вот - очередной хищник. Умный, самовлюбленный, уверенный, что он идет на жертву ради "искусства контрразведки", просиживая часы в неудобной машине. Спасибо за комплимент тексту. Меня же искренне не перестает изумлять вот это непробиваемая уверенность и вера нацистов в то, что они заняты правым делом, и что все, сделанное ими — во имя истины и торжества справедливости. Вот как они смогли так откалибровать свои мозги, все извратить в сути своей? Зато какая красивая и эффектная сцена погони! Как Эд выложился на все сто! Такое опасное и красивое сочетание предельного риска и максимального контроля... Да, я вторила словам Эл: "Никогда не видела тебя таким..." Вспомнила сцену, где Руфус катает Росауру на метле)) Обстоятельства у них, конечно, куда как благоприятнее, здесь-то у Эда ни толики "лихачества ради лихачества". Он спасает их жизни, но в то же время играет с огнем. Он дает нам увидеть на пару мгновений, в каком адском напряжении он живет каждодневно, и этот порыв, от него веет такой жизненной силой, жаждой, скоростью... Вспоминаю о том, как Эд увлекся гонками вскоре после смерти родителей, чтобы на грани жизни и смерти ловить этот адреналин и чувствовать себя живым. Мне кажется, это была главная потребность у него и сейчас. Постоянно играть роль, быть на пределе контроля, оберегать Эл, оставаться сильным, невозмутимым, несокрушимым... Вот так красиво и пугающе прорвалось это напряжение. Взрослый мальчишка тоже нашел способ отпустить накопившееся напряжение:) Есть в Милне этот неутихающий азарт, даже в окружающих обстоятельствах. И эту его остроту, этот кураж, любовь к риску и смелость на грани отчаянности и опасности, я очень в нем люблю. В этом тоже — та самая жажда жизни, о которой вы упомянули. В общем, девочки любуются такими мальчиками:) И в такие моменты — особенно. Улыбнулась той сцене с Руфусом и Росаурой:)) Кому метла, а кому автомобиль. Транспорт роздан согласно времени действия. И я тоже думаю, что чисто по-мужски для Эдварда это важно: выдерживать всё, стараться еще больше. Не только ради себя, но ради любимой Эл. Быть мужчиной и оставаться им, оставаться сильным, быть именно тем, к кому Эл может прибежать ночью, перепуганная от собственных волнений, или сказать: "объясни мне, я, кажется, совсем запуталась". А он улыбнется и объяснит. Знакомство с Кете вселяет веру в сильных, несломленных людей, которых изрядно пинала судьба, но они не сдались. В ее положении она может подвергнуться насилию, преследованию, быть заключенной в тюрьму, лагерь, а то и вовсе быть расстерелянной, в любой момент, но она упорно и неутомимо делает свое дело. Кете Розенхайм — это реальная личность. И место ее работы, и детали ее биографии, все — от реальной Кете. Она в самом деле занималась программой "Киндертранспорт", она помогла огромному количеству людей. И не уезжала из Берлина до самой последней, крайней минуты. Сопровождала детей в поездках, и могла бы выехать сама. Но возвращалась, и помогала снова и снова. Только когда ей уже совсем грозила смертельная опасность, она выехала из Берлина вместе со своей мамой. На таких чудесных людях и держится наш мир. Однако встреча с феей, конечно, заставила и улыбнуться, и удивиться. Ну, Эд прав, ничего не попишешь: все мужчины теряют голову от Агны Кельнер, он по себе знает))) И то, как этот с иголочки одетый, запакованный в твидовый костюмчик британец вдруг потерял дар речи, способность мыслить трезво и связывать слова последовательно, было даже забавно, вот только, увы, чары Агны не привели к нужному результату: вместо того, чтобы пасть перед ней на колени и спешить выполнить любой каприз, Фоули отказал ей и весьма жестко, отказал в присутствии своей подруги Кете. Быть может, подумал, что его пытаются перевербовать?...)))) Да, эта линия однозначно цепляет и интригует. Хотелось хотя бы где-то, хоть капельку иронии и улыбки. И тут, — бац! — Фрэнк:)) Его, кстати, чувства к Агне доведут до отчаяния, и он предпримет свой рискованный поступок. Но... не могу не подчеркнуть, какой щемящий осадок оставляет последняя фраза Эда, что таких вот мгновений у Эла и Мариуса, а там и у них, уже, может и не будет. Конец 38 года. Через полгода уже начнется Вторая мировая война. А до конца истории (каждый раз с тоской смотрю на оглавление) осталось всего три главы... И мне и хочется, и колется листать страницы дальше. Слишком страшно за героев - раньше, хоть с ними и происходили самые ужасные вещи, а все-таки объем книги располагал к надежде, что они как-нибудь выберутся. Но теперь... неужели вот-вот будет подведена черта?.. Мне безумно больно было заканчивать историю моих ребят. Я очень остро и долго все это переживала. Но, работая над этими главами, знала: они — завершающие. Я вам очень благодарна за такое искреннее, неравнодушное прочтение истории. Очень не хочется расставаться с таким собеседником и читателем, как вы. Могу предложить в качестве нового текста (если, конечно, вы захотите читать) "Хрупкие дети Земли". Космоса там совсем немного, и только в первой главе. А истории о людях, по сути, все те же: со своими взлетами и падениями, со своим светом и со своей любовью. И, конечно, незаурядный главный герой, с ярко-голубыми глазами:) Спасибо за отзыв! |
|
|
Здравствуйте!
Показать полностью
Давно прочитала главу, но не сразу нашла время, чтобы написать отзыв. Тем более ощущения были очень тягостными от первой части, где идет мучительное погружение в самые жуткие воспоминания Эда... Честно, в какой-то момент натурализм и звериное удовольствие, которое получал риф от пыток Эда достигли такой грани, что читать стало почти невыносимо - в хорошем смысле слова, поскольку эффект оглушительный получился. Это ни в коем случае не воспринимается как "чернуха ради чернухи", это вновь мучительный, я полагаю, и для автора, и для читателя эксперимент - взглянуть на происходящее глазами палача, а не жертвы, и мы, лишенные сочувствия к герою, глазами которого смотрим на мир, должны в подробностях впитывать каждую секунду его злодеяния. Мы уже проходили это с Биттрихом, с Ханной, с бандитом из переулка, с Зофтом, и вот - безымянный риф. Которого, несмотря на жуть сцены, можно понять (не оправдать, но понять... до тех пор, пока он не переходит грань человечности и не становится сущим зверем. Потому что одно дело - защищать свою землю и уничтожать врага, а другое - вот это хищническое, садистское извращенное удовольствие от причинения мук другому живому существу). война, которая ведется в отрыве от понятий долга, чести и моральных законов, всегда будет войной зверей. Долгие годы, века, земля рифов была разменной монетой "цивилизованных" людей. Которые и в середине 20 века фотографируются с головами рифов. И считают себя проводниками Культуры именно что с Большой Буквы. Ох, тема колониализма и "бремени белого человека" - очень болезненная и приводящая меня в возмущение, по сути-то недалеко ушедшая от истории нацизма. Мне кажется очень важным, что в вашей книге линия Эда проходит в нацистский Берлин именно через войну с рифами, хотя в Европе тех лет тут и там творились зверства, вполне себе предвещавшие ад 2МВ. Но мне особенно кажется ценным, что Эд, скажем так, побывал по обе стороны баррикад. Он выступил (почти невольно) на стороне поработителей, захватчиков, которые пришли в чужую землю как хозяева, хотя не имели на это никакого иного права, кроме варварского права сильного. Конкретно Эд, быть может, не совершал военных преступлений, но, как на любой войне, он убивал, только вопрос, ради чего и ради кого. Просто потому что приказали, потому что направили. Солдату не пристало задумываться, за что он убивает врагов, правда?.. или благодаря опыту 20 века этот вопрос все же выходит за рамки риторического? Конечно, читая о мучениях Эда, попросту нечеловеческих (признаюсь, некоторые моменты я просто не смогла прочитать, зная, что у меня бывает непредсказуемая реакция на натуралистические описания ранений - прости, Эд! Вот видишь, я, например, не смогла полностью испить твою чашу...), невероятно ему сочувствуешь, но больше задаешься в конце концов вопросом: почему, почему люди становятся как звери? Почему причиняют друг другу столько боли, страданий, почему в них (да что уж там, в нас) столько вражды и ненависти? Где предел, "доколе"? Такое ощущение, что предела нет. И боль терзает Эда всерьёз, как будто всё это было не то что вчера, а вот прямо сейчас, пока он спал в объятьях Элис. Страх, боль и ненависть вырывают его из призрачного покоя, отнимают у него и без того сосчитанные уже минуты нежности и радости. Бедный Эд, бедная Элис! Сердце ее привело к нему, она почувствовала, что он не справляется, что он ослаб, что ему больно и тяжело. Но вот правда, как в такое "впустить" другого человека? Даже не то что пустить... рассказать-то можно. Можно описать. Даже такими вот страшными, жестокими словами. Вопрос скорее, а поможет ли, если другой человек будет об этом знать? Насколько это безотказный способ, когда мы поверяем душу другому? Очень велик риск столкнуться с непониманием, преувлеличенной жалостью или любой другой реакцией, которая, ну вдруг, сделает только хуже? Быть может, и не всегда обязательно душу наизнанку выворачивать, бередить раны? Просто тот, другой, должен смириться, привыкнуть и с пониманием отнестись к этим состояниям, болям, страхам своего избранника. Не торопить, не сетовать, не закрывать глаза. И... не думать, что это когда-нибудь пройдет. У меня в черновиках Росаура говорит Руфусу: это пройдет. А он отвечает: лучше жить так, как будто не пройдет. И мне видится в этом не пессимизм или упадничество, а трезвый взгляд и мужество. Если у человека отрублена рука, он не живет с мыслью, что она когда-нибудь снова вырастет. Он приноравливается быть одноруким. Не называя себя "здоровым", кстати. Эта честность, которой, мне кажется, в наше время очень старательно избегая, на каждую проблему придумывая кучу других названий, лишь бы не называть проблему проблемой, что в итоге это сводится не к решению ее, а наоборот, к усугублению. Мне кажется, мы на протяжении всей истории еще не видели Эда настолько слабым. Говорю это безо всякого, Боже упаси, разочарования или укора, он непрестанно заслуживает восхищение, что вообще держится и взваливает все на себя, но его неизменная улыбка, с которой он выходил из страшных переделок и словесных дуэлей с самим Гиббельсом, создавала иллюзию, что его стальные нервы и железная выдержка не могут быть сломлены вообще. Но они истончаются. И здоровье подводит. И это так больно читать и видеть, когда молодой, сильный, красивый человек в своем возрасте уже растратил себя, уже не может с той же легкостью, как и в 20 лет, выйти из кризиса, побороть болезнь, бессонницу, нервозность и тд. Это очень трагично и жизненно, когда человек оглядывается сам на себя и вдруг видит, что он уже "не тот, что раньше". Как ни прискорбно, это касается всех нас. И в мирное время, и в более опасное. Такая неумолимость времени и жизни. В случае Эда и Элис помноженная на беспощадность обстоятельств. Омерзительные попытки Зофта унизить и вывести из себя Эда и Эл вызывают чувство отвращения. Хотелось сказать ему, ну что ж, и ты, "злодееще", оказался червем калибра Ханны, который только и может придумать, чтобы давить беззащитной женщине на ее самое очевидно больное место, и ухмыляться? Этот подлый прием, низкий и грязный, обличает и в высокоумном Зофте и в глупой Ханне людей, которые понятия не имеют, что такое любовь. Им кажется, что спустя пять лет брака Эл и Эд вдруг с их насмешек возьмут и разбегуться? Разули бы хоть чуток глаза свои, увидели бы, что Эд за Эл горой, уж сколько раз их пытались рассорить, развести, но даже измена их брак не расколола, чего ж они... Глупые, мерзкие твари. Простите, иначе язык не поворачивается помягче сказать. Не заслуживают такие чудища мягкости и снисхождения. А Эл и Эд... держитесь, ребята. Держитесь. На фоне пережитого эти гадкие поддевки - как укусы комара слону, но, увы, если укус произведен в больное место, он все равно будет ощутимым. Для Эл бездетность - причем не врожденная, а приобретенная по вине людей и самого времени - это незаживающая рана. Никак этого не исправить. И я просто говорю: слава Богу, сейчас у нас все-таки хоть немного сменился менталитет. Сейчас человек, который попробует осуждать вслух женщину за бездетность, вызовет только осуждение окружающих (я надеюсь), а женщина не будет (надеюсь) испытывать стыд или чувство вины! Боль - да, но это будет ее выбор, а не давление общественности. Ох, как же это гнусно. Эл, мое сочувствие всецело с тобой. Знаете, мне приснилось после этой главы вскоре, что я читаю следующую, и она оканчивается тем, что Эл и Эд на каком-то званом вечере, и вдруг в дом врывается отряд солдат. Всем понятно, что дорога отсюда теперь одна.. И... Эд достает гранату, говорит Эл, что любит ее, и на его улыбке заканчивается глава. И я боюсь открыть следующую, потому что не знаю, что нас там ждет. Вдруг - Эпилог и пара строк? Или мучительное описание последних минут? Вот и сейчас смотрю на две (!!!) оставшиеся главы. Не могу оторваться от этой истории (разве приходится прерываться из-за насущных дел), но как думаю, что там, на следующей странице, сразу так страшно и горько... Потому что ощущение, что жизни Эда и Эл могут оборваться в любую, вот в совершенно любую секунду, очень острое. Особенно после того, как оба они признали, что не хотят обживаться в новом доме... Но еще хуже - думать о том, а вдруг кому-то придется пережить другого, и как это вообще будет возможно для них, как их великая любовь это стерпит? Хотя, что, разве Кайла и Дану не любили друг друга, разве война не обрекала любимых на то, чтобы расстаться навсегда? Это настолько общая трагедия, рядовая, можно сказать, но я просто не могу вместить эту боль, думать, что с этим в те страшные времена столкнулся, считай, каждый.... 1 |
|
|
Anna Schneiderавтор
|
|
|
h_charrington
Показать полностью
Здравствуйте! Часть 1. Тем более ощущения были очень тягостными от первой части, где идет мучительное погружение в самые жуткие воспоминания Эда... Честно, в какой-то момент натурализм и звериное удовольствие, которое получал риф от пыток Эда достигли такой грани, что читать стало почти невыносимо - в хорошем смысле слова, поскольку эффект оглушительный получился. Это ни в коем случае не воспринимается как "чернуха ради чернухи", это вновь мучительный, я полагаю, и для автора, и для читателя эксперимент - взглянуть на происходящее глазами палача, а не жертвы, и мы, лишенные сочувствия к герою, глазами которого смотрим на мир, должны в подробностях впитывать каждую секунду его злодеяния. Я понимаю. Писать подобные моменты очень тяжело. Да, как автор я в момент написания знала, — Эд выжил, выбрался и из той "передряги". Но все же это очень страшно. И дело как раз в том, как рифу нравилось управлять той ситуацией. Я тоже могу понять враждебность к противнику, до определенного момента. Но здесь, как вы верно заметили, мы видим иное: удовольствие от расправы, с которой рифа никто не торопил, и торопить не мог. Это наслаждение болью другого. Пытка физической болью. Да, Милн тоже убивал на той войне и потом, он пришел, как и другие французы с испанцами, как сторона силы, с расчетом на выигрыш. Только вот выигрыш в таких битвах, — всегда за теми, кто управляет такими солдатиками. Как у Высоцкого: Будут и стихи, и математика, Почести, долги, неравный бой. Нынче ж оловянные солдатики Здесь, на старой карте, встали в строй. Вот и там, в Фесе или в Марокко, они — такие же солдатики. Я не оправдываю Эда, мне в этой ситуации важно было, как автору, решить иное: показать, как появились те шрамы, что у него остались. Не знаю, возникают ли у читаталей вопросы об этом по мере чтения текста, но мне, как автору, было важно дать ответ и на эту ситуацию. И та война, в самом деле, очень сильно повлияла на него. В общем, мы видим, что это событие — из ряда тех, что всегда с ним. И как Эл (если проводить параллель между ними и тем, что с ними происходило в их 18-19 лет) навсегда запомнит домогательства Гиббельса, случившиеся в самое первое ее время в Берлине, так и Эд будет дальше нести в себе след той войны. Мне кажется очень важным, что в вашей книге линия Эда проходит в нацистский Берлин именно через войну с рифами, хотя в Европе тех лет тут и там творились зверства, вполне себе предвещавшие ад 2МВ. Но мне особенно кажется ценным, что Эд, скажем так, побывал по обе стороны баррикад. Он выступил (почти невольно) на стороне поработителей, захватчиков, которые пришли в чужую землю как хозяева, хотя не имели на это никакого иного права, кроме варварского права сильного. Конкретно Эд, быть может, не совершал военных преступлений, но, как на любой войне, он убивал, только вопрос, ради чего и ради кого. Думаю, и тогда, и позже, повзрослев, оказавшись в Берлине, Эд понимает: та война, как и всякая другая колониальная, — на обогащение. Ему, мальчишке, как и испанским нищим мальчишкам, которых гнали на войну, с той битвы "ничего": умерли? И ладно. А за счет того, что Милн, как вы сказали, побывал по обе стороны баррикад, я уверена: никакого удовольствия от убийства рифов он не испытывал. Ни тогда, ни позже. И он — такая же разменная монета. Я пишу это, и понимаю, что если бы не Эд, столь близкий мне герой, я написала бы иначе. Потому что для меня всегда это вопрос: вольный или невольный ты участник войны? Я не особо верю в прозрение или раскаяние пленных, и сегодняшних, со стороны ВСУ, в том числе. Я не хочу их слушать. Но здесь, в случае Милна, для меня все иначе. И все же, такой злости, зверства, что показывает риф, в нем нет. Я ни разу не замечала в нем удовольствия или наслаждения от боли другого, даже противника. Даже если это Хайде, к примеру. И, хотя, по крайней мере, во Второй Мировой ясно, что чему противостоит (для Эда тоже ясно), выходит, что та, рифская война — очередная "просто война". А Франция и сегодня мучительно не хочет отпускать свои колонии. Которые сегодня уже типа и не колонии. Конечно, читая о мучениях Эда, попросту нечеловеческих (признаюсь, некоторые моменты я просто не смогла прочитать, зная, что у меня бывает непредсказуемая реакция на натуралистические описания ранений - прости, Эд! Вот видишь, я, например, не смогла полностью испить твою чашу...), невероятно ему сочувствуешь, но больше задаешься в конце концов вопросом: почему, почему люди становятся как звери? Почему причиняют друг другу столько боли, страданий, почему в них (да что уж там, в нас) столько вражды и ненависти? Где предел, "доколе"? Такое ощущение, что предела нет. Я тоже не поклонник таких описаний. Но лично мне, как автору, было нужно и важно это прописать. Быть со своим героем не только в минуты радости или шутки, но и в такие. Особенно в такие. И задача автора здесь — выдержать и записать. У читателя есть право отойти в сторону, пропустить, если тяжело, а у автора — нет. У него есть вместо этого обязанность пройти со своим героем все пути. Всё увидеть, всё договорить. У меня всё последнее время ощущение такое же: пределов нет. Даже если читать новости быстро. Читаешь и думаешь: как это возможно? И ответа нет. И боль терзает Эда всерьёз, как будто всё это было не то что вчера, а вот прямо сейчас, пока он спал в объятьях Элис. Страх, боль и ненависть вырывают его из призрачного покоя, отнимают у него и без того сосчитанные уже минуты нежности и радости. Бедный Эд, бедная Элис! Сердце ее привело к нему, она почувствовала, что он не справляется, что он ослаб, что ему больно и тяжело. Но вот правда, как в такое "впустить" другого человека? Даже не то что пустить... рассказать-то можно. Можно описать. Даже такими вот страшными, жестокими словами. Вопрос скорее, а поможет ли, если другой человек будет об этом знать? Насколько это безотказный способ, когда мы поверяем душу другому? Очень велик риск столкнуться с непониманием, преувлеличенной жалостью или любой другой реакцией, которая, ну вдруг, сделает только хуже? Быть может, и не всегда обязательно душу наизнанку выворачивать, бередить раны? Просто тот, другой, должен смириться, привыкнуть и с пониманием отнестись к этим состояниям, болям, страхам своего избранника. Не торопить, не сетовать, не закрывать глаза. И... не думать, что это когда-нибудь пройдет. У меня в черновиках Росаура говорит Руфусу: это пройдет. А он отвечает: лучше жить так, как будто не пройдет. Да, я тоже думаю, что для Эда нет временного расстояния между его страшным "прошлым" и тем днем, который для него — сегодняшний. Всё это поразительно об одном, по сути. В Элис, опять же, уже почти ничего не осталось от той юной девочки, только приехавшей в Берлин. А если осталось, то это глубоко спрятано. И теперь она выдерживает такие происшествия. Если раньше Эд все больше помогал ей, а она пряталась за него в поисках защиты, пожимая руку украдкой, то теперь она спасает его. Таков долг. Любви, долг человека. Долг той, что знает всё лучше всех, и обязана, — скрепив свои страдания и страхи, — помочь и превозмочь. Да, Эдвард — сильный. Но иногда даже самому сильному нужна помощь. Я думаю, что о войне Эд никогда не скажет Эл. Не потому, что она не поймет. "Благодаря" Берлину она многое сможет понять и без слов. Но как это объяснить, какими словами выразить? Эда во многом поддерживает именно любовь Элис в настоящем. А то его прошлое, стань оно известно Эл, отяготит их двоих. Лучше его оставить там, где оно уже есть, — в прошедшем времени. В ответе Руфуса мне видится очень много Руфуса и истинной правды. Я согласна с ним. И с вами. Сегодня мы, как будто, все пытаемся сказать себе и другим: как бы чего не вышло. Не говорить прямо. Не говорить серьезно. Не пугать. "Давайте не будем о грустном". Можно, конечно. Только где в этом правда? И настоящее? Или мы всегда будем стоять за этот удобный инфантилизм? Из серии "на Украине нацизма нет". Нет, что вы. Просто так поклонники Гитлера с флажками, да в ночных шествиях ходили. Но вы не бойтесь, это совсем не опасно. Мне кажется, мы на протяжении всей истории еще не видели Эда настолько слабым. Говорю это безо всякого, Боже упаси, разочарования или укора, он непрестанно заслуживает восхищение, что вообще держится и взваливает все на себя, но его неизменная улыбка, с которой он выходил из страшных переделок и словесных дуэлей с самим Гиббельсом, создавала иллюзию, что его стальные нервы и железная выдержка не могут быть сломлены вообще. Но они истончаются. И здоровье подводит. И это так больно читать и видеть, когда молодой, сильный, красивый человек в своем возрасте уже растратил себя, уже не может с той же легкостью, как и в 20 лет, выйти из кризиса, побороть болезнь, бессонницу, нервозность и тд. Это очень трагично и жизненно, когда человек оглядывается сам на себя и вдруг видит, что он уже "не тот, что раньше". Как ни прискорбно, это касается всех нас. И в мирное время, и в более опасное. Такая неумолимость времени и жизни. В случае Эда и Элис помноженная на беспощадность обстоятельств. Да, здесь он слаб от усталости, устал от взятой на себя тяжести. И взято все это по причине того, что кроме него — никто. А он, как и все, — просто человек. Который и без того не дает себе ни минуты покоя, который взрастил в себе это долженствование гораздо выше собственных нужд или желаний. Это и накопительный эффект. Чувствовалась, к моменту написания этой главы, громаднейшая усталость от всего. Иногда я даже не знала, как мы из этого выйдем. И выйдем ли. А страшнее становится именно от того, что и такие сильные, как Милн — устают. И за собой, конечно, все эти перемены от времени примечаешь. Но сдаваться все равно нельзя. Даже если не видно пути. 1 |
|
|
Anna Schneiderавтор
|
|
|
Часть 2.
Показать полностью
Омерзительные попытки Зофта унизить и вывести из себя Эда и Эл вызывают чувство отвращения. Хотелось сказать ему, ну что ж, и ты, "злодееще", оказался червем калибра Ханны, который только и может придумать, чтобы давить беззащитной женщине на ее самое очевидно больное место, и ухмыляться? Этот подлый прием, низкий и грязный, обличает и в высокоумном Зофте и в глупой Ханне людей, которые понятия не имеют, что такое любовь. Им кажется, что спустя пять лет брака Эл и Эд вдруг с их насмешек возьмут и разбегуться? Разули бы хоть чуток глаза свои, увидели бы, что Эд за Эл горой, уж сколько раз их пытались рассорить, развести, но даже измена их брак не расколола, чего ж они... Глупые, мерзкие твари. Простите, иначе язык не поворачивается помягче сказать. Ничего:) Я про Ханну и не так еще думала. Про Зофта нет, потому что как-то предпочитала не тратить на него сил. Просто сесть, написать и увидеть, как с ним будет в конце истории. Зофт, в силу своего ума, конечно, не похож на Хайде, которого ненависть и жажда мести уже накрывает. Зофт выглядит этаким "достойным противником", но, как видно, ничего он не гнушается. Да и зачем, если все эти "приемы" так для него естественны, привычны? Уколы Ханны на счет бездетности Эл, еще можно хоть как-то списать на ее эмоциональную жестокость и тупость, и зависть, и дикую ревность. Но тут... "мужчина"... Не нашел, как и безумная Ланг, ничего лучше этих мер? Про любовь в отношении Зофта и Ханны и таких, как они, даже говорить не приходится. Это просто что-то несовместимое. Внешне — люди. А внутри ничего нет. Одни директивы да настройки нацизма. И вместе с тем, я очень рада той потрясающей, настоящей близости, что установилась между Элис и Эдвардом. Это то, чего я им всегда желала. Но в иные, очень острые и страшные моменты, совсем не была уверена, что они смогут дойти до такого сближения. Потому что, к примеру, после измены Эда, у меня не была уверенности и в том, что они смогут быть вместе. Так, как того требует разведка (если говорить об их общем деле; а чувств Элис и Эдварда тогда и касаться было страшно). А Эл и Эд... держитесь, ребята. Держитесь. На фоне пережитого эти гадкие поддевки - как укусы комара слону, но, увы, если укус произведен в больное место, он все равно будет ощутимым. Для Эл бездетность - причем не врожденная, а приобретенная по вине людей и самого времени - это незаживающая рана. Никак этого не исправить. И я просто говорю: слава Богу, сейчас у нас все-таки хоть немного сменился менталитет. Сейчас человек, который попробует осуждать вслух женщину за бездетность, вызовет только осуждение окружающих (я надеюсь), а женщина не будет (надеюсь) испытывать стыд или чувство вины! Боль - да, но это будет ее выбор, а не давление общественности. Ох, как же это гнусно. Эл, мое сочувствие всецело с тобой. Спасибо большое. Они держатся. Конечно, слова, какими бы сильными ребята ни были, доходят в какой-то степени до цели. Но... нужно именно держаться. Непозволительно, как бы больно ни было, перед лицом настоящих угроз, тратиться на Зофта. Он этого и добивается, конечно. Я думаю, что менталитет наш, на деле, в смысле бездетности, сменился именно "немного". Но хорошо, что возможностей, свободы у женщин стало больше. Знаете, мне приснилось после этой главы вскоре, что я читаю следующую, и она оканчивается тем, что Эл и Эд на каком-то званом вечере, и вдруг в дом врывается отряд солдат. Всем понятно, что дорога отсюда теперь одна.. И... Эд достает гранату, говорит Эл, что любит ее, и на его улыбке заканчивается глава. И я боюсь открыть следующую, потому что не знаю, что нас там ждет. Вдруг - Эпилог и пара строк? Или мучительное описание последних минут? Вот и сейчас смотрю на две (!!!) оставшиеся главы. Не могу оторваться от этой истории (разве приходится прерываться из-за насущных дел), но как думаю, что там, на следующей странице, сразу так страшно и горько... Потому что ощущение, что жизни Эда и Эл могут оборваться в любую, вот в совершенно любую секунду, очень острое. Особенно после того, как оба они признали, что не хотят обживаться в новом доме... вам очень признательна за такое искреннее отношение к героям. Удивительно, что вам приснился сон о них. К сожалению, все идет к завершению. Как бы горько и больно это ни было. И состояние ребят именно такое, как вы сказали: все может окончиться, оборваться в любую минуту. Остается в таких случаях только все та же надежда. Призрачная она или нет. Правда, Скримджер? К сожалению, страданий в том времени столько, что, кажется, не перечесть. И много было любящих до Элис и Эдварда, и много после, кто терял своих. Но они — всё, что у них есть. У Эдварда есть только Эл, у нее — только он. И, я думаю, ни один из них без другого не сможет. По-настоящему. Да, можно сказать про "надо жить, жизнь на этом не заканчивается...", но... если честно. С чего вы взяли, что на смерти любимого человека она, на самом деле, не заканчивается. В этом тоже проглядывает та честность, о которой сказал Руфус. Спасибо вам! 1 |
|
|
Отзыв к глае 3.17
Показать полностью
Здравствуйте! Вот знаете, от чего страшно? От того, что осталась одна глава. И если предчувствия Элис верны, и случится что-то плохое, то очевидно, что оно подведет черту под судьбами всех героев. Если бы дальше еще нащупывались страницы, они давали бы надежду, что и сбывшиеся дурные предчувствия еще не означали конец. А здесь... Очень хочу ошибаться. Очень хочу верить, что герои, несомненно заслужившие счастливый финал, его обретут, и не будет никакого упавшего неба в их конкретном случае. Нет, разумеется, небо упадет, когда начнется Вторая мировая война. И слишком многих это небо придавит. И странно, наверное, сравнивать, взешивать, какая смерть страшнее - на поле боя или в концлагере, от голода в осажденном городе или в подвалах гестапо. В этой истории нам были продемонстрированы различные, разнообразнейшие грани ужаса, страха, боли, стыда, вины, ненависти и утраты. Но все-таки грани любви, доверия, икренности, храбрости и человечности куда как удивительне и ярче. В первом случае все сливается в беспросветный мрак и задавливает ледяной тяжестью. Во втором же случае красота и свет раскрываются всё более полно и разнообразно - как в приземленно-бытовых сценах, так и в моментах нравственного подвига. Для меня сильнейшими сценами, остаются всё же не эпизоды насилия, жестокости и страха, а эпизоды примирения между Эдвардом и Элис, воспоминания Эда о его родителях (пусть прочно связанные с их гибелью, но все же эти сцены больше о любви, чем о смерти), воссоединение с Кайлой, потом - с Мариусом, воспоминания Элис и доктора о том, как она попала в больницу, теряя ребенка (опять же, казалось бы, крайне трагическая сцена, но в ней ведь неимоверно много любви)... Да, свет, которым полна эта глава, стал для меня прекрасной неожиданностью. Я ожидала Зофтов из-за каждого угла, я ожидала подлости от Ханны, ожидала жестокости от начальника Эда, ожидала непокорства и ошибки Мариуса, ожидала подности от Фоули, ожидала печальную гибель надежд на спасение Дану (и вообще на его обнаружение). Но из раза в раз то, что уже привычно было видеть черным, оказывалось белым, и это такое чудо!.. Даже стыдно немного за себя, что, как и Элис, в этом пытаешься найти какой-то подвох, сложно даётся вера в хорошее, в то, что всё получилось, каждый раз поправляешь себя и добавляешь это подлое "почти". Наверное, редко мне хотелось, чтобы история не оправдала моих ожиданий (точнее, сомнений и страхов) и подарила мне счастливый финал, который для такого маловера, как я, точно будет незаслуженным)) Помню, похожее переживание незаслуженного счастья со мной случилось, когда я читала самиздатовскую историю про Титаник, и там главными героями были дети, которые подружились во время его плавания, и, несмотря на страшную катастрофу, в конце все-таки спаслись и даже вновь встретились. Чудо? Чудо. И почему мы редко пишем о чудесах? Будто это что-то "недостоверное". Мне кажется, тут важнейшим фактором выстуает личная вера автора и способность читателя довериться истрии. Чудо особенно явно себя проявляет именно в самых безвыходных обстоятельствах. Быть может, действительно хорошие истории и должны учить нас не терять надежды, а не просто бить нас лицом об асфальт страшной реальности. К сожалению, лично у меня писать о чудесах вот вообще никак не получается. Я как-то пять лет переписывала одного своего бегемота, чтобы хоть немного уйти от тотального мрака в финале и дать персонажам хоть маленький шанс, если не на счастливую жизнь, то хотя бы на возрождение души. Вот и с Руфусом и Росаурой у меня никак не получается выплыть на что-то жизнеутверждающее. Но что это я всё о финале, стоит обратиться к событиям главы. Просто хотела сказать, что даже если финал все-таки выбьет почву из-под ног и обрушит небо, свет, который пролился на нас в этой главе, останется в моем сердце. Начну, пожалуй, с Фоули. Я читала о нем и думала, Боже, неужели редчайший человек в этой истории ,который, влюбившись в Агну, не проявил своей животной стороны? Это заслуга его как англичанина или просто как человека с более укорененными ценностями, чем у всех этих нацистских вырожденцев? В общем-то, его влюбленность - это пресловутый "солнечный удар", в ней очень много страсти, которое доводит Фоули до беспомощности, однако воодушевляет его на решительные поступки: да, он все-таки состряпал нужный документ, но вот интересно, если бы не влюбленность в Агну, он бы махнул рукой на судьбу мальчика и беременной Кайлы? И вот это его: "я хотел увидеть вас еще раз, прежде чем..." Как ни крути, мне видится тут эгоизм влюбленности, слепота страсти, и разве это не ставило Агну в унизительное положение? Думаю с содроганием, что будь Фоули чуть больше подлец, с него бы сталось сделать Агне непристойное предложение в обмен на подписанные бумаги. И еще вопрос, вдруг Агна бы на это пошла? Ради Кайлы, ее ребенка и Мариуса? Просто интересно, когда вы планировали историю, вы не рассматривали такой, более "асфальтовый" вариант? И ведь наверняка именно так, подло и грязно чиновники всякого пошиба торговали своими услугами те жестокие годы. И мне стоит сердечно поблагодарить вас, что вы не пошли по этому пути. Вы вновь выбрали показать нам чудо, которое сотворила влюбленность, пусть и не самая "идеальная". Это ведь несравненно лучше, чем если бы возникла ситуация, о которой сходу подумало мое заляпанное всякой грязью сознание, когда появился персонаж Фоули и его реакция на Агну. Отдельно хочу сказать о сцене Эл и Мариуса. Невероятно эмоциональная сцена, в которой и горечь, и любовь, и страдание, и утешение. Мариуса нельзя не понять. Его боль беспредельна. И так ценно, что он выговорился Эл, раскрыл ей свою боль, рассказал об этом страшном эпизоде с гибелью матери... Выплакался. И в то же время Эл. Насколько она мудра и искренна! Она не пытается Мариуса поучать, не пытается ему что-то насаждать. Не боится признаться в собственных страхах и тем самым возложить на него надежду, довериться. Да, Мариус благодаря разговору с Эл теперь чувствует свою ответственность не только за свою жизнь, которая сейчас ему кажется ничего не стоящей, но и за жизни своих благодетелей. Они все повязаны, и Эд, и Эл, и Мариус, и Кайла, и Кете, и Дану, да, кто-то выступает в роли спасителей, а кто-то в роли жертв, но по факту от действий каждого зависит жизнь остальных, здесь нет тех, кто менее важен или более пассивен. Очень ценно, что Мариус это понял. И, конечно, для него это тоже подвиг - отложить месть ради доверия и спокойствия его чудесной феи-крёстной. Момент, когда Эд по факту приказал Ханне сделать все, чтобы освободить Дану, наполнил меня торжеством. Ханна, как ни пыталась взбрыкнуть и диктовать свои условия, в итоге оказалась послушным орудием в руках того, кого столько раз пыталась погубить, что своей любовью, что своей ненавистью. И все из-за чего? Ее низменное преклонение перед чинами. Стоило Эду сказать, кто он теперь, так она заткнулась и на задних лапках побежала выполнять. Конечно, вопрос еще, не предаст ли, не раскачает ли лодку, но в моменте это быа маленькая победа над маленькой гадиной, которая не по своим размерам много крови подпортила. Наконец, воссоединение Кайлы и Дану... Пронзительно и будто за гранью реальности. Вновь чудо, чтобы увидеть которое нужно иметь веру. Даже если это чудо на один день, и завтра все обрушится, оно стоило того, чтобы его дождаться и пережить. Спасибо вам огромное! 1 |
|
|
Anna Schneiderавтор
|
|
|
h_charrington
Показать полностью
Здравствуйте. Очень хочу верить, что герои, несомненно заслужившие счастливый финал, его обретут, и не будет никакого упавшего неба в их конкретном случае. Мне интересно будет узнать ваше мнение после прочтения заключительной главы, но, мне кажется, небо нам всем вместе все-таки удалось удержать. Хотя, конечно, вы правы: дальше — война. В этой истории нам были продемонстрированы различные, разнообразнейшие грани ужаса, страха, боли, стыда, вины, ненависти и утраты. Но все-таки грани любви, доверия, икренности, храбрости и человечности куда как удивительне и ярче. В первом случае все сливается в беспросветный мрак и задавливает ледяной тяжестью. Во втором же случае красота и свет раскрываются всё более полно и разнообразно - как в приземленно-бытовых сценах, так и в моментах нравственного подвига. Для меня сильнейшими сценами, остаются всё же не эпизоды насилия, жестокости и страха, а эпизоды примирения между Эдвардом и Элис, воспоминания Эда о его родителях (пусть прочно связанные с их гибелью, но все же эти сцены больше о любви, чем о смерти), воссоединение с Кайлой, потом - с Мариусом, воспоминания Элис и доктора о том, как она попала в больницу, теряя ребенка (опять же, казалось бы, крайне трагическая сцена, но в ней ведь неимоверно много любви)... Спасибо вам за такое внимание и воспоминание о светлых моментах. Очень счастлива знать, что самое сильное впечатление у вас остается именно от светлых моментов, а не от темных. Да, воспоминания Эдварда о гибели родителей полны боли и страдания, но в том, как он вспоминает о маме (с нежностью и любовью), об отце (с печалью и, может, даже пиететом) говорит о том, что даже такие, безумно тяжелые происшествия, как бы, может быть, удивительно и странно это ни было, дают нам в итоге своеобразную точку опоры. Да, боль. Но и любовь. Эдвард проносит все это в своем сердце. Это тоже, может быть, наряду с огромной любовью к Эл, не позволяет ему очерстветь сердцем, перейти на сторону зла. Недолго думая, как, к примеру, Стивен. Во всех эпизода, что вы вспомнили, наряду с болью есть любовь. И если любовь больше, то я могу только порадоваться, что это так. Да, свет, которым полна эта глава, стал для меня прекрасной неожиданностью. Я ожидала Зофтов из-за каждого угла, я ожидала подлости от Ханны, ожидала жестокости от начальника Эда, ожидала непокорства и ошибки Мариуса, ожидала подности от Фоули, ожидала печальную гибель надежд на спасение Дану (и вообще на его обнаружение). Но из раза в раз то, что уже привычно было видеть черным, оказывалось белым, и это такое чудо!.. Даже стыдно немного за себя, что, как и Элис, в этом пытаешься найти какой-то подвох, сложно даётся вера в хорошее, в то, что всё получилось, каждый раз поправляешь себя и добавляешь это подлое "почти". Наверное, редко мне хотелось, чтобы история не оправдала моих ожиданий (точнее, сомнений и страхов) и подарила мне счастливый финал, который для такого маловера, как я, точно будет незаслуженным)) Я верю и хочу верить дальше, что свет всегда сильнее. Может, это наивно. Но без этого невозможно, если мы хотим жить. А в людях ужасно сильна жажда жизни. И, конечно, можно было бы "подсыпать" зофтов везде и всюду, но есть же, действительно есть и в нашей, и в мировой истории примеры потрясающего мужества, невероятной душевной силы. Они — без фанфар. Просто делают свое дело. Как, во многом, Эд и Эл, чуждие тщеславия и признания, рискующие самой жизнью ради помощи другим. Не потому, что хотят казаться какими-то правильными, а потому, что они действительно неравнодушны. К Мариусу. К Кайле. К Дану. Та война окончила Победой. Великой Победой, стоившей очень много. Об этом нужно помнить. Поэтому, даже если это выглядит наивно (?), Эд находит Дану, а все вместе они противостоят нацизму. И почему мы редко пишем о чудесах? Будто это что-то "недостоверное". Мне кажется, тут важнейшим фактором выстуает личная вера автора и способность читателя довериться истрии. Чудо особенно явно себя проявляет именно в самых безвыходных обстоятельствах. Быть может, действительно хорошие истории и должны учить нас не терять надежды, а не просто бить нас лицом об асфальт страшной реальности. К сожалению, лично у меня писать о чудесах вот вообще никак не получается. Мне очень хочется верить именно в это, в чудо. Мы привыкаем к плохому слишком легко и слишком быстро. А вера и надежда, свет, — требуют куда больших усилий. Я думаю, вы очень правы: хорошие, настоящие истории, в основе своей, учат нас и вере, и надежде. Даже вопреки всему. И даже если все окончится гибелью главного героя, в ней будет то, что преодолеет тьму. Повторю: в той войне победи свет. Нам нужно помнить именно об этом. Может, со временем, и у вас получится написать о чуде? И вот это его: "я хотел увидеть вас еще раз, прежде чем..." Как ни крути, мне видится тут эгоизм влюбленности, слепота страсти, и разве это не ставило Агну в унизительное положение? Думаю с содроганием, что будь Фоули чуть больше подлец, с него бы сталось сделать Агне непристойное предложение в обмен на подписанные бумаги. И еще вопрос, вдруг Агна бы на это пошла? Ради Кайлы, ее ребенка и Мариуса? Просто интересно, когда вы планировали историю, вы не рассматривали такой, более "асфальтовый" вариант? Да, соглашусь: есть в словах Фоули эгоизм. Причем крайний, отчаянный, даже непримиримый. Он знает прекрасно и осознает, что поставлено на карту вместе с его подписью, но позволяет себе эгоизм влюбленного: хочу! И все. С одной стороны ужасно, и совсем его не рекомендует с положительной стороны, а с другой стороны... так понятно. Я совершенно, абсолютно не не думала о непристойности со стороны Фоули. Вот совсем. Потому что этого нисколько не было со стороны самого Фрэнка. Не потому, что он — англичанин и "хороший", а немцы непременно "плохие", а потому что таков сам Фрэнк. Такова суь его влюбленности в Агну. Он влюблен именно так: непонятно, вдруг, нелепом, наивно, "глупо", в обход всей логики и здравого смысла. И именно эта влюбленность не позволяет ему совершить подлость. Это — его мерило, показатель того, каков он. Он не идеален, конечно. Но в Агну он влюблен именно так. И подлости в отношении нее он даже не мыслил. Потому и не знаю, что ответить вам на другой вопрос: сделай Фрэнк однозначное "предложение", пошла бы на него Агна? Пишу: "думаю, да...", и радуюсь, что Эл, чудесной Эл не пришлось ни давать ответ на этот вопрос, ни даже задумываться над ним. Спасибо Фрэнку за его чистую влюбленность, не мыслившей зла. Отдельно хочу сказать о сцене Эл и Мариуса. Невероятно эмоциональная сцена, в которой и горечь, и любовь, и страдание, и утешение. Мариуса нельзя не понять. В Мариусе оказалось море юной, самой горячей мужественности. Конечно, она "замешана" на влюбленности в Агну, но это позволяет ему, даже в его положении, не выглядеть жертвой, и взять на себя, как на мужчину, требуемую долю ответственности. Я очень рада, что он понял и услышал Агну. Не скатился в свою боль, не стал ее растягивать. А собрался и сделал то, что нужно было. Рада и за Эл, потому что она, как вы сказали, смогла в определенной степени довериться ему. Сколько всего ей пришлось вынести... где-то же на этом пути должна быть остановка. И вот, влюбленный, замечательный мальчишка, горячий, как и положено юности, помогает ей, как может. Как она его просит. Момент, когда Эд по факту приказал Ханне сделать все, чтобы освободить Дану, наполнил меня торжеством. Могу сказать, что, в таком случае, мы торжествовали вместе: Эд, я и вы:)) Он же просто лучится этим торжеством, не удерживается оно в нем. Это как и ответ за все, сделанное Ханной, и как ответ всему, чему Эд и Эл противостоят. Люблю очень эту куражность в Милне, просто любуюсь им. Наконец, воссоединение Кайлы и Дану... Пронзительно и будто за гранью реальности. Вновь чудо, чтобы увидеть которое нужно иметь веру. Даже если это чудо на один день, и завтра все обрушится, оно стоило того, чтобы его дождаться и пережить. Автор никак не может и не хочет навредить своим героям. Да, пусть они не главные, но было очень важно сохранить их во всех тех событиях. Очень этого хотелось. Спасибо вам огромное! И вам спасибо:) 1 |
|
|
Здравствуйте!
Показать полностью
Думала, буду писать: не верю, не верю, что роман завершён, но вот парадокс - он завершён так красиво, нежно и светло, что слово "конец" в кои-то веки не ассоциируется со свистом гильотины. Завершение истории Эда и Эл это даже не тот покой в светлой грусти, который заслужили Мастер и Маргарита Булгакова, а это самый настоящий праздник жизни, надежды и света, пусть тихий, укромный, но и нельзя сказать, что замкнутый только на них двоих... точнее, троих))) Виновники этого торжества - и Кайла с Дану, и Мариус и крошкой Майей, и Кете с ее матерью. Да, на пороге война, и самые разрушительные бедствия еще впереди, но в финале этой истории лежит прообраз Победы. В финале истории уже есть "мир спасенный, мир вечный, мир живой", который будет помнить о страдании и жертве, о пределах, которые хочет яростно испепелить злоба, и которые все равно возводит добро и справедливость. После прочтения вашего романа мне хочется писать именно такие слова, которые почему-то зачастую считаются набившими оскомину, обесценившимися. Это все клевета; слова "справедливость", "любовь" и "добро" не могут обесцениться. Могут выхолоститься души, которых крутит от одного упоминания этих слов, вот и всё. Ещё бы я добавила к празднующим и родителей Эдварда. Он перестал отгоражить воспоминания о них от своей нынешней жизни, впустил их, символически произнеся их имена, будто призвав стать частью своей новой радости. Боль и любовь, как мы говорили, почти нераздельны, потому что любовь, чтобы преодолеть смерть и горечь, вынуждена с ними соприкасаться, даже, я бы сказала, их покрывать. Это очень тесный контакт, неразрывная связь, в которой вода камень точит. Боли, этого яда, разлито вдоволь по всей нашей жизни. Любовь - единственное противоядие. Любящий набирается мужества соприкоснуться с болью того, кого юбит. Вобрать ее в себя, как губка вбирает кровь с раны. Это тяжело, это настощяий подвиг любви. Сколько раз его совершали Эд и Эл? Сколько раз преодолевали обстоятельства, людей и самих себя, чтобы продолжать спасать друг друга - не только из тяжелых ситуаций, ловушек и угроз для жизни, но и каждодневно... Все сцены, где они ночью спят, и то одному, то другому вдруг плохо, накрывает волна ужаса и паники, а тот, кто рядом, протягивает руку и сторожит сон, наполнены любовью и светом. Это тот малозаметный подвиг, который да, не требует завалить большого страшного дракона (Зофта, Биттриха, Хайде, насильника с улицы), но требует придушить змею паники, неверия и отчаяния, которая приползает во мраке и душит. На протяжении всей истории герои боролись не только с внешним, таким очевидным врагом, но и со своими внутренними демонами. И Эл, и Эд, пусть разлчиные внешне, оба были хрупки и уязвимы, как каждый из нас. Более того, чем ближе к кульминации и финалу, я бы сказала, что с одной стороны, они истончались, не вполне могли оправиться от полученных ран, становились еще более хрупкими, а с другой стороны обретали в себе, точнее, друг в друге стальной стержень, укрепление, поддержку, которая стоит десанта вооруженных до зубов спецназовцев. Они друг для друга стали ангелами-хранителями, вот и все. Когда я читала эту главу, признаюсь, у меня прям сердце сжималось от тревоги. Особенно когда дошло до званого вечера в доме мод мадам Гиббельс. Во-первых, у меня случилось жуткое дежавю, потому что мне ведь это приснилось, когда я еще не добралась до этой главы. Уже что-то мрачное и пророческое. Во-вторых, настолько мощно передано плохое предчувствие Эл, по нарастающей, что я будто с ней под руку вошла в этот адский притон, и каждая смена кадра, сцены, заставяла меня с замиранием сердца приостанавливаться, просто чтобы продышаться. Знаете, такой накал, когда закрываешь рукой страницу книги, чтобы не дай Бог не подглядеть развязку? Мне тут повезло, что я с телефона читала, и могла на экран выводить предложения по мере прочтения, но если бы (ах, если бы!) ваша книга была в бумажном виде, я бы точно ее всю истерзала от тревоги и неумолимого стремления быть вместе с героями в каждом мгновении. Говоря про жуткую сцену схватки с драконом, хочу отметить, как верно тут, на мой взгляд, выведена природа зла. Этот Зофт, который успешно долгое время изображал из себя "не такого как все", слишком умного и слишком далекого от простых человеческих слабостей злодея, здесь рухнул в ту же грязь, что и его предшественники. Банальная похоть, зверская, мерзкая, отвратительная зараза, которая кажется таким выродкам, как он, вернейшим способом самоутверждения. Мне кажется, то, что каждый из череды злодеев в конечном счете пытался изнасиловать Эл, указывает на тот животный, примитивный и безликий корень зла, который никак нельзя отрицать. Кстати, не могу не отметить, что сокращение имени Зофта, Герх, слишком уж похоже на слово грех. Вот он весь, во всем своем срамном "великолепии": в отличие от других похотливых скотин, эта еще возомнила о себе в гордыни невесть что. Мания величия Герха омерзительна, но как смачно показана... Я наблюдала борьбу Эл с ним, просто не дыша. Я так сопереживала ей, мне было так больно за нее, и в то же время я так гордилась ею, когда она до последнего, до последнего сопротивлялась, била его, царапала ему лицо, плевала в него... Сколько в ней мужества, смелости, чистоты! Такие, как Зофт, должны просто обращаться в прах от прикосновения к таким, как Эл. К сожалению, мы не живем целиком и полностью в духовной реальности. А может, к счастью - ведь иначе нельзя было бы испытать ликование, когда Эд спустил курок, и душа этого ублюдка отправилась плавиться в аду. Скажу, что мысленный монолог Эл перед практически неизбежным тронул меня до слёз, и я так благодарна этой истории за то, что я часто плакала. Для меня это огромная ценность, когда произведение искусства пробивает меня на слёзы. Спасибо вам, что добились этого своим творчеством! На Фоули я злилась поначалу... (имею в виду, его поведение на вечере) но потом он сам себя так бичевал, что я успокоилась. Да, он совершил ошибку. Он не уследил за той, которую полюбил. Эл пережила столько ужаса и почти распрощалась с жизнью отчасти и по недосмотру Фрэнка. Однако то потрясение, которое он испытал, когда увидел, что с Эл сотворил дракон, искупает его провал. И как он плакал в машине... Да, в этих слезах нет ничего мужественного, героического, только жалкое, но тот факт, что человек может плакать, глядя на чужое страдание, говорит о его сердце, о том, что оно не окаменело. Фрэнк ошибся, но его преданность была сильнее этой ошибки. И, самое главное, Эл и Эд не затаили на него обиду за это. К тому же, Фрэнк успел совершить свой подвиг, когда поехал покупать паспорт для Дану. Это крошечная деталь, но какая говорящая - что он отдал кольцо, которое напоминало ему о покойной жене. Больше ничего не сказано о Фрэнке, мы о нем ничего не знаем, и когда впервые встретили, я не заподозрила, что он мог быть женат, тем более, что он вдовец. И он об этом ничего не рассказывает, не вспоминает о своей покойной жене, когда влюбляется в Эл. Однако эта подробность открывает нам персонажа совсем с иного ракурса. То, что Эд, к счастью, так и не испытал, Фрэнк пережил. Мы не знаем, как и почему умерла его жена. Но какой бы смерть ни была, это трагедия, это утрата, это боль на всю жизнь, которая тем сильнее, чем сильнее была любовь. А то, что Фрэнк Фоули умеет любить, мы знаем. ..просто ради интереса пошла загуглила имя Фрэнка, потому что мне оно казалось смутно знакомым. Оказалось, что это реальный британский шпион, сотрудник посольства в Берлине, который помогал бежать евреям из Германии... Невероятный опыт - воспринять как живого персонажа романа, а потом узнать, что это и был рельный человек! Это, конечно, камень в огород моей непросвещенности, но как приятно благодаря вашей истории вновь и вновь раздвигать границы познания. И я также стала больше узнавать о программе Киндертраспорт. Спасибо! Линия Кайлы, Дану и Мариуса тоже не давала мне вздохнуть спокойно. Очень эффектно был введен отсчет по дням. Как и Эл, дурные предчувствия сгущались в моей душе, как тучи. Я боялась каждого нового предложения, ведь сколько всего могло бы произойти, что разрушило бы все планы, все надежды! А по сути-то что были бы эти планы без гигантской силы надежды? Судьбы Эл и Эда, вплетенные в мастшабную историю главного бедствия человечества, остались судьбами частными. Нет, они не спасли десятки сотен несчастных. Но на их примере мы увидели, что спасти и четверых - это величайший подвиг, это сила, это мужество, это риск, это готовность отдать свою жизнь за крохотный шанс, что это спасет другого. Так зачем измерять подвиги в количестве, когда это в первую очередь качество души. О таких душах, о таких судьбах, хочется читать, хочется к ним прикасаться. Чудо новой жизни, которое было даровано Эду и Эл тогда, когда они уже и не надеялись, когда уже смирились, тоже вызвало у меня слёзы. Я смогла прожить эту радость с Эл и Эдом, потому что мне она знакома лично. Это несказанное чудо, и вы нашли нужные слова, чтобы запечатлеть его в сердце читателя. Спасибо вам, что финал осчастливен еще и этим событием. В нем и предельный символизм, и предельное правдоподобие. Спасибо. Теперь все-таки скажу: не верится, что история окончена, потому что я сроднилась с ней, с героями, но мне спокойно, потому что я знаю, что у них все хорошо. Она окончена именно так, как мы и надеяться не смеяли, поэтому столько радости и облегчения, и вера в то, что Эл и Эд будут наконец-то счастливы всецело, хотя жизнь, что в мире, что в войне, имеет свои испытания, и боль сопутствует нам до самого конца в тех или иных проявлениях, однако я сполна прочувствовала светлую мощь такого финала. Спасибо, что не омрачили его ничем от слова совсем. Мне кажется, благодаря таким историям, как ваша, известна целительная сила искусства. 1 |
|
|
Anna Schneiderавтор
|
|
|
h_charrington
Показать полностью
Часть 1. Здравствуйте! Думала, буду писать: не верю, не верю, что роман завершён, но вот парадокс - он завершён так красиво, нежно и светло, что слово "конец" в кои-то веки не ассоциируется со свистом гильотины. Я очень хотела счастья для моих ребят. Опять же, по самой простой и великой причине, известной нам: та война окончилась Победой. Да, война принесла громадное горе всему миру, но все же, все же — Победа. Это — главное. Завершение истории Эда и Эл это даже не тот покой в светлой грусти, который заслужили Мастер и Маргарита Булгакова, а это самый настоящий праздник жизни, надежды и света, пусть тихий, укромный, но и нельзя сказать, что замкнутый только на них двоих... точнее, троих))) Виновники этого торжества - и Кайла с Дану, и Мариус и крошкой Майей, и Кете с ее матерью. Да, на пороге война, и самые разрушительные бедствия еще впереди, но в финале этой истории лежит прообраз Победы. В финале истории уже есть "мир спасенный, мир вечный, мир живой", который будет помнить о страдании и жертве, о пределах, которые хочет яростно испепелить злоба, и которые все равно возводит добро и справедливость. А мне лично совершенно не по нраву тот покой, что у Мастера. Не люблю. Не нравится он мне и как герой. Ну да ладно. Конечно, все мы понимаем: война грянет, и скоро. Элис и Эдвард это понимают очень отчетливо. Но сила самой жизни непреложна, неостановима: человеческое сердце вне жизни не стучит, а пока оно живо, всегда есть надежда и вера. У меня есть ответ на вопрос о том, что дальше будет с Элис и Милном. И, может быть, позже я наберусь сил и сяду за продолжение их истории. Но пока — так. Все устали: и они, и автор. На последних главах невозможность, невыносимость Берлина стала такой тяжелой, очевидной, душной, что хотелось только бежать из того смрада, без оглядки. Даже Эдвард, с учетом всей его выдержки, уже истончался. Мне лично безумно дорого, что удалось спасти дорогих Кайлу, Дану, их тогда еще нерожденную девочку, и, конечно, Мариуса. А Кете с ее мамой, к счастью, спаслись и в реальности. И чем больше было положено для Победы, — сил, труда, души, жизни и любви, — тем отчаяннее и сильнее хочется, чтобы никогда мы не забывали о том, какой стала та Победа. Да, мы в полной мере никогда, быть может, не сумеем оценить ее громадность, масштаб. Но к этому нужно стремиться. И, конечно, взаимное счастье Эл и Эда. То, что они станут родителями... не смогло мое сердце не дать им этого счастья (если возможно считать, что автор — хозяин текста:). После прочтения вашего романа мне хочется писать именно такие слова, которые почему-то зачастую считаются набившими оскомину, обесценившимися. Это все клевета; слова "справедливость", "любовь" и "добро" не могут обесцениться. Могут выхолоститься души, которых крутит от одного упоминания этих слов, вот и всё. Спасибо за чудесные слова. Это не они выхолощены. Это мы теперь, — часто, к сожалению, — такие. Очень жаль, что так. Правда. Любовь никогда не перестает. Ещё бы я добавила к празднующим и родителей Эдварда. Он перестал отгоражить воспоминания о них от своей нынешней жизни, впустил их, символически произнеся их имена, будто призвав стать частью своей новой радости. Боль и любовь, как мы говорили, почти нераздельны, потому что любовь, чтобы преодолеть смерть и горечь, вынуждена с ними соприкасаться, даже, я бы сказала, их покрывать. Это очень тесный контакт, неразрывная связь, в которой вода камень точит. Боли, этого яда, разлито вдоволь по всей нашей жизни. Любовь - единственное противоядие. Любящий набирается мужества соприкоснуться с болью того, кого юбит. Вобрать ее в себя, как губка вбирает кровь с раны. Это тяжело, это настощяий подвиг любви. Сколько раз его совершали Эд и Эл? Я уверена, что из того, невидимого нам мира, родители Эда очень, по праву гордяться им. Тем, что их сын, их мальчик сумел выстоять и не сломаться. Сильно раненный, но никогда не сломленный. Все же, с учетом всех потерь, сильный духом и живой, — в громадной степени от любви Эл, за которую ей бесконечная благодарность, — живой сердцем. Но смог. Он преодолел, он выстоял, он не перешел во тьму. Он несет в себе то, чему они, родители, учили его. И это его личная, ничуть не меньшая, чем наша общая, человеческая, победа. Словами не передать, как я рада, что он смог открыть Эл свою боль о родителях. О Рифской войне, уверена, так и не скажет. Но о маме и папе сказал. И, думаю, сердце его стало еще живее, полнее и больше. Он теперь и сам — папа. Спасибо Эл, что вместила его боль в свое сердце. Смогла, сумела, приняла и выдержала. И любви стало больше. Я думаю, это бесценно — искреннее разделение такой боли. В этом — сила любви. Может, любовь настоящая о боль закаляется сильнее. Все сцены, где они ночью спят, и то одному, то другому вдруг плохо, накрывает волна ужаса и паники, а тот, кто рядом, протягивает руку и сторожит сон, наполнены любовью и светом. Это тот малозаметный подвиг, который да, не требует завалить большого страшного дракона (Зофта, Биттриха, Хайде, насильника с улицы), но требует придушить змею паники, неверия и отчаяния, которая приползает во мраке и душит. На протяжении всей истории герои боролись не только с внешним, таким очевидным врагом, но и со своими внутренними демонами. И Эл, и Эд, пусть разлчиные внешне, оба были хрупки и уязвимы, как каждый из нас. Более того, чем ближе к кульминации и финалу, я бы сказала, что с одной стороны, они истончались, не вполне могли оправиться от полученных ран, становились еще более хрупкими, а с другой стороны обретали в себе, точнее, друг в друге стальной стержень, укрепление, поддержку, которая стоит десанта вооруженных до зубов спецназовцев. Они друг для друга стали ангелами-хранителями, вот и все. Иначе они не могли. Просто вот так они любят друга. Учатся этому, в том числе, проходя и через свои ошибки: непонимание, замкнутость, эгоизм, одиночество, горечь. И тем более ценна их близость. Их любовь, как любовь вообще, наверное, единственное, что можно противопоставить войне, всем видам мрака и боли, утраты. Это, как вы и сказали, подвиг. Незаметный, тихий, "на двоих". Но ежедневный, постоянный, иногда очень трудный. Не всегда он может получится из-за нашего эго, но кроме любви, что могло спасти Элис и Эдварда? Эд, при всей его силе — человек. Он не всемогущий. И на него можно было найти "управу". К счастью, этого не произошло. А если сердце — пусто, то и управа будет, может быть не нужна. В той войне противостояние не только физическое, но духовное. Душевное. Изжив намеренно в себе все человеческое, нацисты хотели уничтожить мораль, чувство, правду, любовь. К счастью, не смогли. И не смогут. И, как вы верно заметили, ближе к заключительным главам ребята становились все тоньше. Терпения и сил — все меньше. Даром, что не тревожили друг друга разговорами об этом, но все же видели, понимали, чувствовали. 1 |
|
|
Anna Schneiderавтор
|
|
|
h_charrington
Показать полностью
Часть 2. Когда я читала эту главу, признаюсь, у меня прям сердце сжималось от тревоги. Особенно когда дошло до званого вечера в доме мод мадам Гиббельс. Во-первых, у меня случилось жуткое дежавю, потому что мне ведь это приснилось, когда я еще не добралась до этой главы. Уже что-то мрачное и пророческое. Во-вторых, настолько мощно передано плохое предчувствие Эл, по нарастающей, что я будто с ней под руку вошла в этот адский притон, и каждая смена кадра, сцены, заставяла меня с замиранием сердца приостанавливаться, просто чтобы продышаться. Знаете, такой накал, когда закрываешь рукой страницу книги, чтобы не дай Бог не подглядеть развязку? Мне тут повезло, что я с телефона читала, и могла на экран выводить предложения по мере прочтения, но если бы (ах, если бы!) ваша книга была в бумажном виде, я бы точно ее всю истерзала от тревоги и неумолимого стремления быть вместе с героями в каждом мгновении. Очень хорошо вас понимаю. Я знала, что Зофт поймает Эл. И как я не хотела это писать! Всё та же тревога, а вместе с ней — знание, что в истории будет именно так, несмотря на мое нежелание. И, да... ваш сон. Но нам не пришлось прощаться с ребятами. Про себя могу сказать, что не знаю, как бы я это перенесла. Накал и предчувствие, о которых вы говорите, и меня не отпускали. Я знала, что буду выцарапывать Эл и Эда с того вечера изо всех сил, до последнего. Но все равно было и страшно, и тошно. Говоря про жуткую сцену схватки с драконом, хочу отметить, как верно тут, на мой взгляд, выведена природа зла. Этот Зофт, который успешно долгое время изображал из себя "не такого как все", слишком умного и слишком далекого от простых человеческих слабостей злодея, здесь рухнул в ту же грязь, что и его предшественники. Банальная похоть, зверская, мерзкая, отвратительная зараза, которая кажется таким выродкам, как он, вернейшим способом самоутверждения. Мне кажется, то, что каждый из череды злодеев в конечном счете пытался изнасиловать Эл, указывает на тот животный, примитивный и безликий корень зла, который никак нельзя отрицать. Да, вы правы. Зофт очень хотел быть, выглядеть, производить и запоминаться именно таким-"не таким, как все". Но... в итоге все то же. Та же грязь, та же похоть. Жестокость, наслаждение болью другого и демонстрация власти. У него это просто, в силу личных характеристик и желаний, вышло дольше, "утонченнее", более завуалиованно. Но как он приказал Агне: "Ешьте, я хочу посмотреть!". А потом заметил ей, что здесь никому и в голову не приходит "заботиться о чистоте своих рук". Во всех смыслах. Тогда, в момент написания, даже мне стало жутко. И при всем этом — ни тени сомнения, ни капли человеческого. Все сломано, осталась только жажда наживы. А насчет изнасилований... меня "умиляло", когда я читала про "чистоту крови" и запрет на связь с евреями. А потом — Хрустальная ночь. И массовые изнасилования. Кстати, не могу не отметить, что сокращение имени Зофта, Герх, слишком уж похоже на слово грех. Вот он весь, во всем своем срамном "великолепии": в отличие от других похотливых скотин, эта еще возомнила о себе в гордыни невесть что. Мания величия Герха омерзительна, но как смачно показана... Я наблюдала борьбу Эл с ним, просто не дыша. Я так сопереживала ей, мне было так больно за нее, и в то же время я так гордилась ею, когда она до последнего, до последнего сопротивлялась, била его, царапала ему лицо, плевала в него... Сколько в ней мужества, смелости, чистоты! Такие, как Зофт, должны просто обращаться в прах от прикосновения к таким, как Эл. К сожалению, мы не живем целиком и полностью в духовной реальности. А может, к счастью - ведь иначе нельзя было бы испытать ликование, когда Эд спустил курок, и душа этого ублюдка отправилась плавиться в аду. Скажу, что мысленный монолог Эл перед практически неизбежным тронул меня до слёз, и я так благодарна этой истории за то, что я часто плакала. Для меня это огромная ценность, когда произведение искусства пробивает меня на слёзы. Спасибо вам, что добились этого своим творчеством! Есть у автора слабость к сокращению имен. Тем более, таких пышных и претенциозных, как "Герхард". Зофт сам себя называл "Герхом". Кто мы такие, чтобы упустить подобное созвучие с "грехом"? То, как Эл сражается с ним, как противостоит ему, вызывает у меня, — несмотря на авторство, — те же чувства и эмоции, что у вас. Спасибо вам! Это не самолюбование, а сопереживание истории, маленькой Эл. И дикое желание, чтобы Эдвард пришел уже скорее. И ее монолог внутренний, просто звенящий от безмолвия, отчаянья и того, что она ожидает после него, у меня снова и снова вызывает и боль, и слезы. Я, когда писала, уже просто мысленно молила: "Эдвард, давай скорее!". И когда он пришел, я выдохнула. Потому что дальше писать не могла. Все, предел. Спасибо вам за такое огромное, искреннее сопереживание героям. Спасибо, что не побоялись всей горечи и всего страха, что есть в истории Эл и Эда, и дошли с ними до конца. На Фоули я злилась поначалу... (имею в виду, его поведение на вечере) но потом он сам себя так бичевал, что я успокоилась. Да, он совершил ошибку. Он не уследил за той, которую полюбил. Эл пережила столько ужаса и почти распрощалась с жизнью отчасти и по недосмотру Фрэнка. Однако то потрясение, которое он испытал, когда увидел, что с Эл сотворил дракон, искупает его провал. И как он плакал в машине... Да, в этих слезах нет ничего мужественного, героического, только жалкое, но тот факт, что человек может плакать, глядя на чужое страдание, говорит о его сердце, о том, что оно не окаменело. Фрэнк ошибся, но его преданность была сильнее этой ошибки. И, самое главное, Эл и Эд не затаили на него обиду за это. Я знала, чувствовала с самого первого появления Фрэнка, — он принесет помощь и добро. Несмотря на все его странные внешние поведения, горячечную влюбленность в Агну. Да, ошибся. Это он сознает сам, это сознает Эд. И Фрэнк чувствует вину и перед Эл, и перед Милном. Думаю, Фоули сам и первый казнит себя больше всех. Да, Эд угрожал ему тогда, в моменте. Но Фрэнк не струсил (несмотря на очевидный страх), он очень помог Эдварду. Он остался с Эл (Агной). И то, как он заплакал над ней, говорит о нем больше всего. Мне его очень жаль, я очень ему сочувствую. И очень благодарна за помощь Элис и Эдварду. Эд и не мог затаить на него обиду: он видел, КАК Фоули успел полюить Агну. Несмотря на свою страшную ошибку, он не желал ей зла. Ни за что. А Элис... о слезах Фрэнка над ней она не знает. Этого не знает и Милн. Пусть это останется сокровенным Фрэнка. Уверена, что Эд рассказал Эл о помощи Фоули. И Элис, несмотря на все "неровности" в поведении Фрэнка, благодарна ему. Даже в машине, когда она и Фоули подъехали к дому, где шел праздник, она смутилась от того, что действительно поняла: он горячо ее любит. И не нашлась с ответом. Потому что сердце ее доброе, а не насмешливое и не злое. Что до кольца, которое Фрэнк отдал за паспорт... есть в этом некий "символизм": заложить кольцо, как память об умершей жене, в помощь той, что он полюбил теперь. Поэтому спасибо Фрэнку огромное. 1 |
|
|
Anna Schneiderавтор
|
|
|
Часть 3.
Показать полностью
..просто ради интереса пошла загуглила имя Фрэнка, потому что мне оно казалось смутно знакомым. Оказалось, что это реальный британский шпион, сотрудник посольства в Берлине, который помогал бежать евреям из Германии... Невероятный опыт - воспринять как живого персонажа романа, а потом узнать, что это и был рельный человек! Это, конечно, камень в огород моей непросвещенности, но как приятно благодаря вашей истории вновь и вновь раздвигать границы познания. И я также стала больше узнавать о программе Киндертраспорт. Спасибо! Спасибо вам! Да, Фрэнк, как и Кете — реальные люди. Они спасали, помогали, рисковали своей жизнью. О них я узнала, как раз, когда искала информацию о "Киндертранспорт". И рада, что таким образом, — кратким отображением в тексте, — смогла упомянуть им и передать благодарность за то, что они делали для спасения людей. Линия Кайлы, Дану и Мариуса тоже не давала мне вздохнуть спокойно. Очень эффектно был введен отсчет по дням. Как и Эл, дурные предчувствия сгущались в моей душе, как тучи. Я боялась каждого нового предложения, ведь сколько всего могло бы произойти, что разрушило бы все планы, все надежды! А по сути-то что были бы эти планы без гигантской силы надежды? Судьбы Эл и Эда, вплетенные в мастшабную историю главного бедствия человечества, остались судьбами частными. Нет, они не спасли десятки сотен несчастных. Но на их примере мы увидели, что спасти и четверых - это величайший подвиг, это сила, это мужество, это риск, это готовность отдать свою жизнь за крохотный шанс, что это спасет другого. Так зачем измерять подвиги в количестве, когда это в первую очередь качество души. О таких душах, о таких судьбах, хочется читать, хочется к ним прикасаться. Я очень полюбила и кроткую, добрую Кайлу, и ворчливого, сумрачного, но тоже доброго Дану. Про Мариуса молчу. Люблю таких мальчишек. Горячих сердцем. Порывистых, живых, самых настоящих. Таким, в какой-то мере и по-своему, был сам Эдвард в юности. Произойти, как вы и сказали, могло все, что угодно. Герои ставили на риск. Отчаянно, без оглядки. Другого выхода и шанса не было. Да, Эл и Эд не спасли многих. Они не спасли ни тысяч, ни сотен, ни "даже" десятков. Но они спасли. И я даже не берусь сказать, что понимаю, какая сила нужна для этого. Но без их помощи не было бы Майи. И не было бы в живых Дану. Кстати, сцена спасения Дану из лагеря. То, как молчаливо Милн вывозит его за эти пределы, потом останавливается, снимает наручники... очень мне дорога. Для меня она вся звучит очень пронзительно. Чудо новой жизни, которое было даровано Эду и Эл тогда, когда они уже и не надеялись, когда уже смирились, тоже вызвало у меня слёзы. Я смогла прожить эту радость с Эл и Эдом, потому что мне она знакома лично. Это несказанное чудо, и вы нашли нужные слова, чтобы запечатлеть его в сердце читателя. Спасибо вам, что финал осчастливен еще и этим событием. В нем и предельный символизм, и предельное правдоподобие. Спасибо. Хочется сказать в ответ на ваши слова: рада служить правде. И особенно счастлива, что получилось найти верные слова. Рада счастью Эл и Эда, рада вашему счастью. Теперь все-таки скажу: не верится, что история окончена, потому что я сроднилась с ней, с героями, но мне спокойно, потому что я знаю, что у них все хорошо. Она окончена именно так, как мы и надеяться не смеяли, поэтому столько радости и облегчения, и вера в то, что Эл и Эд будут наконец-то счастливы всецело, хотя жизнь, что в мире, что в войне, имеет свои испытания, и боль сопутствует нам до самого конца в тех или иных проявлениях, однако я сполна прочувствовала светлую мощь такого финала. Спасибо, что не омрачили его ничем от слова совсем. Мне кажется, благодаря таким историям, как ваша, известна целительная сила искусства. Я бы хотела писать еще про моих дорогих, горячо любимых героях. Но пока их история завершена вот так. Повторю, может, будет продолжение. Но для него нужно много сил. Я уверена, что Эл и Эд будут счастливы. Жизнь бывает самой разной. И очень счастливой она тоже бывает. А когда есть взаимная любовь — все по плечу. Другой финал, думаю, написать бы я не смогла. Не с моими ребятами. Спасибо вам за прочтение, внимание, чуткие, проникновенные слова. Спасибо за неравнодушие к истории, любовь к героям. С самой искренней, огромной благодарностью. 1 |
|
| Предыдущая глава |
↓ Содержание ↓
↑ Свернуть ↑
| Следующая глава |