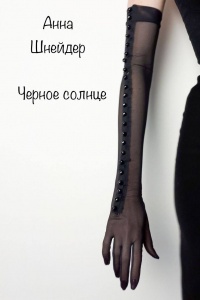





| Предыдущая глава |
↓ Содержание ↓
↑ Свернуть ↑
|
Зимнее солнце еще не проснулось, а в доме Кельнеров, за плотно закрытыми дверями и шторами, в гостиной первого этажа, где до сих пор гуляло маленькое эхо от небольшого количества вещей, собрались все, кто знал о сегодняшней встрече: Харри и Агна, Дану и Кайла. Кете Розенхайм пришла всего несколько минут назад, и, оглядев присутствующих взволнованным взглядом, предложила Агне помощь. Вместе они ушли на кухню.
— Не могу успокоиться! Не верится, что все это действительно происходит!
Агна, бледная и молчаливая от плохого самочувствия, слабо улыбнулась в знак согласия, и продолжила разливать чай по изящным фарфоровым чашечкам.
— Да… надеюсь, все получится, — негромко сказала она, делая шаг назад, и чувствуя, как новая волна жара накрывает ее.
— Я отнесу, — шепнула Кете, подхватывая поднос с чаем, и выходя в гостиную.
Агна кивнула, и оперлась руками о стол, удивляясь собственной слабости. «Надо выпить кофе, это всегда помогает», — подумала Эл, оглядывая кухню в поисках турки.
Она слышала негромкие разговоры, доносящиеся из гостиной, звук стульев, отодвинутых от большого, круглого стола. У нее в запасе еще было несколько минут, — как раз для того, чтобы приготовить кофе. От полноценного завтрака все присутствующие отказались: в четыре часа утра куда больше хотелось спать, чем есть. «Но другого времени у нас нет…» — сонно подумала Эл, помешивая напиток в турке. Пара минут, и кофе возмущенно запыхтел, требуя, чтобы на него обратили внимание.
Переливая горячий напиток в белую чашку, девушка улыбалась, слушая шаги Эдварда на площадке второго этажа. Вот чуть скрипнула верхняя ступень лестницы, а затем шаги стихли, и Эд, который умел ходить, кажется, совершенно бесшумно, уже был внизу.
— Доброе утро, — он негромко поздоровался с Кайлой, Кете и Дану.
Не замечая Агны, которая медленно возвращалась из кухни с чашкой в руках, Харри строгим, сосредоточенным взглядом осмотрел гостиную в поисках жены.
— Я здесь, — с улыбкой шепнула она, проходя мимо него.
Ее присутствие сотворило с Кельнером маленькое чудо. На краткий миг черты его лица смягчились. Он улыбнулся, провожая Агну взглядом, и, снова став серьезным, оглядел присутствующих.
— Прошу прощения за такой ранний подъем, — Кельнер посмотрел на Кайлу, — но нам нужно как можно скорее обсудить новые детали.
Немного церемонную речь Кельнера, которая всегда становилась такой, когда Эдвард волновался, прервал стук в дверь. И пока все смотрели друг на друга, пытаясь узнать, кто бы это мог быть, Агна подошла к двери и посмотрела в глазок. Закрыв его ладонью, она тихо выругалась.
— Черт!
— Что такое, renardeau? — шепнул Харри, подходя к ней.
— Фоули! Я не хочу, чтобы он был здесь!
— Он может нам помочь.
— Он может быть предателем! — взволнованно шепнула Агна, сжимая руку Харри. — Не открывай ему!
— Он, конечно, вел себя странно, но поручительство все-таки подписал, — напомнил Кельнер.
Дверной замок щелкнул, и дверь перед Фоули открылась ровно на четверть, выдавая только высокую фигуру Харри.
— Герр Фоули.
— Герр Кельнер.
Фрэнк помолчал и очень тихо продолжил:
— Я… я хотел бы быть полезным, хочу помочь вам.
Внимательно рассмотрев взволнованное лицо Фоули, Харри уточнил:
— Какая у вас причина?
— Никакой. Просто хочу помочь.
Кельнер усмехнулся и промолчал, смыкая тонкие губы. Взглянув еще раз на Фрэнка, он отошел в сторону, пропуская его в дом.
— О! А-а… фрау Кельнер! Здравствуйте! — смутившись, вскрикнул Фоули.
Агна молча кивнула мужчине, посмотрела на мужа и вернулась в гостиную. Следом за ней в комнату зашел Фрэнк.
— Фрэнк Фоули, сотрудник английского консульства в Берлине. Он помог нам с поручительством для Мариуса, — напомнил Кельнер, тем самым закрывая за чиновником своеобразную ловушку.
Официально обозначенный при всех как важный помощник в их общем мероприятии, Фрэнк, — если он и был, по опасениям Агны, ненадежным человеком, — после такого представления терял возможность отступить назад, и теперь, хотел он того или нет, принужден был играть роль помощника. Если же, — по мысли Харри, — Агна была права, то за Фрэнком тем более следовало наблюдать и держать его ближе на случай предательства. А вот закрыть дверь перед чиновником, — уже пришедшим в их дом, и наверняка бы заподозрившим что-то неладное, попытайся Кельнер от него отделаться, — было бы слишком явной ошибкой, неверным шагом. Поэтому Харри впустил его, решив про себя, что, как и прежде, будет приглядывать за ним, и, в случае каких-либо подозрений… После кратких приветствий Харри спросил, как Фрэнк узнал об этой встрече?
— Я… совершенно не подумал о времени. Честно говоря, я всю ночь не мог уснуть, и, дождавшись более подходящего времени, решил зайти к вам, — растерянно оглядывая присутствующих, объяснил Фрэнк. — Но я не думал, что все вы здесь…
Это была правда. Но высказана она была так невнятно, что Фоули никто не поверил. А фрау Кельнер, не сдержавшись, — главным образом потому, что «вся ночь», в которую Фоули, по его словам, не мог уснуть, наступила после того дня, когда он попробовал поцеловать ее, — язвительно уточнила:
— Четыре часа утра. «Подходящее время»?
Агна села за стол, на свое прежнее место, и обняла руками чашку с горячим кофе.
— Я… — совсем потерялся Фрэнк.
— Проходите, не бойтесь, — с лукавой улыбкой убеждал его Кельнер, внимательно наблюдая за происходящим.
Фоули сглотнул и сел за стол напротив Агны.
— Чай? На улице, должно быть, холодно? — спросила Кете.
Фрэнк, по-видимому, опасаясь говорить после всего сказанного и услышанного, только утвердительно кивнул. Кете подошла к Фоули и поставила перед ним чайную пару.
— Сливки, сахар, бисквит, печенье?
— Не хочу показаться грубой, — Агна почувствовала, как ее накрывает новая волна жара, — но давайте начнем?
Харри кивнул и повторил то, что всем присутствующим, — за исключением Дану, крепко державшим Кайлу за руку, — было уже известно:
1.Благодаря поручительству, заверенному Фрэнком Фоули, Мариус может выехать в Великобританию по программе «Киндертранспорт». Если при посадке на поезд, следующего до голландского города Хук-ван-Холланд, где происходит пересадка на корабль, идущий до Британии, или на каком-то ином этапе пути, Мариуса или его родителей, Кайлу и Дану Кац, спросят, почему поручительство заверено сотрудником британского консульства в Берлине, а не ими, его родителями, Кайле или Дану следует ответить, что такой формы заверения потребовали германские власти.«Не вдавайтесь подробности. Скажите только эту фразу. Но если вам не поверят, для убедительности назовете имя Фрэнка Фоули», — напомнил Харри. Верность этих слов Фоули подтвердил кивком головы.
2.Паспорт для Кайлы Кац без отметки «J» готов благодаря связям Кете. В нем возраст Кайлы увеличен на пять лет, — «… что было необходимо сделать для того, чтобы тринадцатилетний Мариус, «сын» Кайлы, не вызывал вопросов». Харри еще раз просмотрел изготовленный паспорт, долго останавливаясь на каждой странице. Насколько он мог судить, паспорт был выполнен очень качественно, вплоть до использования тех же чернил, какими пользовались немецкие чиновники. Высокое качество подтвердила и Кете Розенхайм. А ее «знакомый», который занимался изготовлением документа, заявил, что для него неубедительная подделка была бы подобна смерти.
Отодвинув новый паспорт Кайлы в сторону, Харри подумал, что с учетом всех денежных сумм, полученных этим «знакомым» за подделку, умирать при наличии таких денег было бы, как минимум, нерационально.
3.Непосредственно в день отъезда, — он наступит уже совсем скоро, через пять дней, в рождественский сочельник, — Харри сам отвезет Кайлу, Дану и Мариуса к поезду, и проследит, чтобы все прошло так, как нужно. К тому же, сотруднику, проверяющему билеты перед посадкой на поезд, нужно отдать вторую часть взятки, прибавив к ней еще «немного» — как гарантию того, что беременная Кайла Кац может выехать с мужем и старшим сыном из Берлина.
4.Из-за постановления нацистов, которое гласило, что эвакуация евреев из Берлина не должна блокировать порты Германии, Кайла, Дану и Мариус поедут по обозначенному для выезда пути: поездом из Берлина в голландский город Хук-ван-Холланд (недалеко от Роттердама), а оттуда — морем до английского порта Харвич.
«Из этого порта вы поездом поедете не в Лондон, как все остальные пассажиры, а в другой город. Адрес и подробные пояснения о том, как туда добраться, вам передаст Агна. И помните: ваш маршрут после прибытия в Харвич будет иным, чем у тех людей, которые поедут с вами из Германии. Поэтому ни с кем и ни под каким предлогом вы не должны обсуждать свой маршрут, предположения о том, что вас может ждать в Великобритании и прочее… Словом, вы должны молчать о себе и о своем маршруте. Никто, кроме нас и вас не будет знать о том, что ваш конечный пункт назначения — совсем не Лондон». Харри сделал глубокий вдох и посмотрел на Агну. Улыбнувшись ему, она перевела взгляд на Кайлу и Дану.
— Медицинские справки, необходимые для отъезда, уже готовы. Они понадобятся вам до прибытия в порт Харвич, — сказала Агна, и напомнила о том, что, среди всех забот, связанных с отъездом, могло показаться второстепенным, но было не менее важным, чем все остальные детали и нюансы отъезда. — Кайла, Дану, я подготовила для вас и Мариуса одежду. Вы должны переодеться по прибытии в Харвич, и до того, как покинете этот порт. Это очень важно, — девушка внимательно посмотрела на супругов. — Новая одежда поможет вам слиться с людьми в Великобритании, потеряться среди них. А именно это нам и нужно: ничто не должно выдавать в вас только что приехавших в страну людей.
На последних словах Агна покраснела, и поднесла руку к горлу, пытаясь унять тошноту. Замолчав, она медленно села на стул, делая глубокие вдохи и выдохи.
— Агна? — Харри подошел к ней, с тревогой вглядываясь в ее лицо.
— Небольшая слабость, — шепнула она, смущаясь еще больше от того, что все это происходит в присутствии других людей. К тому же, пристальный взгляд Фоули жег ее и раздражал.
— Уверена?
Бумажной салфеткой Кельнер убрал со лба Агны капли пота. Девушка молчала. Только посмотрев в глаза Харри, она улыбнулась, давая понять, что для беспокойства нет причин.
— Скоро закончим, — шепнул он.
Оглядев гостей, Кельнер остановил взгляд на Фрэнке Фоули, который, не замечая Харри, продолжал беспокойно смотреть на Агну.
— У меня для вас задание, герр Фоули, — негромко сказал Харри. — Не стану скрывать: ваша прежняя манера поведения и неоднократные отказы в раскрытии деталей программы «Киндертранспорт», а затем неожиданная помощь с заверением поручительства для Мариуса, и известие о том, что вы видели, как какой-то мужчина следил за моей женой, — при этом вы умалчиваете о том, как вы сами оказались рядом с домом Кете в ту минуту, — все это не вызывает ни у меня, ни у Агны никакого доверия. Поэтому, — Кельнер улыбнулся, — именно вам я доверяю выполнить последний, очень важный пункт нашего мероприятия.
— Паспорт для Дану? — уточнил Фрэнк.
— Именно. За оставшиеся до отъезда пять дней, — с учетом сегодняшнего, — вы должны своими силами, не используя связи Кете, сделать для Дану паспорт на выезд. Напоминаю, что в нем, как и в новом паспорте Кайлы, не должно быть буквы «J». Возраст можете оставить прежним. И учтите: два дня назад Дану еще был в лагере. Значит, сегодня-завтра или, максимум, через несколько дней, его начнут искать. После разбирательства за ним, как за беглецом последует охота. Потому что он, — Харри поочередно выпрямлял пальцы правой руки, перечисляя пункты, — мужчина, еврей, находится в том возрасте, который очень интересует нацистов, был в лагере и сбежал.
— Вы на самом деле сбежали? — изумленно спросил Фрэнк, обращаясь к Дану.
— Это неважно, герр Фоули. Ваша задача — сделать паспорт до дня отъезда, учитывая все перечисленные детали, и сохраняя при этом полную секретность. Справитесь?
Фрэнк посмотрел Кельнеру в глаза.
— Да. Я готов пройти эту вашу проверку, и доказать, что мне можно верить.
— В этом нам еще только предстоит убедиться, — выдерживая взгляд Фоули, ответил Кельнер.
— Вы можете это сделать уже сейчас. Мне многое известно. Например, то, что праздничный вечер, посвященный открытию дома мод фрау Гиббельс по новому адресу, на котором вы и фрау Агна должны обязательно присутствовать, перенесен, и состоится он именно тогда, когда вы планируете проводить на вокзал Кайлу, Мариуса и Дану, — в сочельник, накануне Рождества.
Харри помолчал, обдумывая новую информацию. Упустить отправление поезда по программе «Киндертранспорт» они не могли: в Берлине становилось все опаснее. К тому же, слишком много больших, мелких и очень хрупких договоренностей было сделано для того, чтобы этот отъезд состоялся именно через несколько дней. Но и отсутствие Агны и Харри на вечере, — как было понятно с самого начала, — вряд ли возможно.
— Спасибо за информацию, герр Фоули. Я обязательно ее проверю.
Кельнер поднялся из-за стола, чтобы проводить Кете и Фрэнка, который совсем не хотел уходить, и пытался, — выглянув из-за плеча Харри, — еще раз взглянуть на Агну. Понаблюдав за попытками Фрэнка, Кельнер спокойно заметил:
— Герр Фоули, вам пора.
По взгляду чиновника было понятно, что он не согласен с ним, и придерживается совсем иного мнения.
— Я надеюсь, с А… фрау Кельнер все будет хорошо.
— Не сомневайтесь. Я позабочусь о моей жене.
Фрэнк, понимая, что сопротивление бесполезно, — к тому же, он и так уже выглядел достаточно глупо, — вздохнул, и вместе с Кете вышел из дома Кельнеров.
— До свидания, Фрэнк, — сухо сказала она, когда они были уже на улице.
Фоули кивнул и сделал несколько шагов, удаляясь от дома. Но одна мысль остановила его, и он, круто повернувшись, догнал женщину.
— Прости меня! Я знаю, что веду себя как дурак.
Кете с грустной улыбкой посмотрела на него.
— Ты поможешь нам?
— Конечно!
Она снова улыбнулась.
— Я всегда доверяла тебе. Просто не думала, что ты можешь…
— Так глупо вести себя на глазах у всех? Я сам до знакомства с Агной Кельнер этого за собой не знал.
Фрэнк помолчал.
— Я сделаю все, что в моих силах, Кете.
— Тебе нужна помощь с паспортом?
Он резко покачал головой.
— Нет. Это будет нечестно. Я все должен сделать сам.
Фройляйн Розенхайм сжала на прощание руку Фоули, и медленно пошла по заснеженной улице.
За то время, что у Кельнера ушло на прощание с ранними гостями, Кайла расспросила Агну о ее самочувствии.
— Все хорошо, это просто слабость, — продолжала настаивать девушка.
— Фрау Агна, разрешите я посмотрю.
— Нет! — Агна покачала головой, поднялась со стула и отошла назад, — Не нужно!
— Почему ты против, renardeau? — Кельнер подошел к жене и обнял ее за талию.
— Не нужно меня осматривать!
Горячий взгляд зеленых глаз скользнул по Харри, и Агна обняла его, спрятав лицо у него на груди.
* * *
Для того, чтобы выполнить поручение Кельнера, Фрэнку пришлось сделать гораздо больше того, что было в его силах. «Springe über deinen Kopf» — как сказали бы немцы.
Но Фрэнк Фоули был британцем, сотрудником английского консульства в Берлине, и именно его должность, — в чем он был убежден, — которая позволяла ему не разыгрывать из себя арийца, помогла ему и в этот раз. В Берлине был все тот же день, ранним утром которого Фрэнк, сам того не ожидая, оказался на импровизированном собрании в доме Кельнеров.
После этой встречи Фоули, несмотря на слишком ранний час, поспешил в свой кабинет на Фридрихштрассе, — ему нужно было сделать несколько звонков, для которых, к счастью, понятия времени не существовало. И потому Фрэнк Фоули — образцовый чиновник консульства, выдохнув воздух из легких и одернув пиджак, — и, честно сказать, очень нервничая, — снял телефонную трубку с аппарата особой, закрытой, связи, намереваясь связаться с кем-то по имени «Вильфред». Имя это, — как и человека, который скрывался за ним, — Фрэнк узнал после трех предыдущих разговоров, проведенных под покровом огромной секретности. И в этом оппонентов Фоули, отвечавших ему на звонки, вполне можно было понять: не каждый день тебе звонит начальник паспортного контроля из английского консульства в Берлине, и просит помощи в теневых делах. И ладно бы он хотел раздобыть что-то на черном рынке: скажем, оружие, еду или лекарства. Но нет, Фрэнку Фоули нужен был паспорт! Паспорт для мужчины, еврея, без буквы «J» на первой странице! Еще один нюанс этой невероятной истории повергал собеседников Фоули в почти немой шок: по его словам, паспорт нужен очень срочно, потому что этот мужчина, который относился к очень интересующей нацистов возрастной группе тридцати-сорока лет, несколько дней назад сбежал из лагеря!
— Ты с ума сошел! — зашипела трубка в очередной раз, когда Фрэнк торопливо и скупо, в отвлеченных выражениях, понятных только ему и собеседнику, изложил свои пожелания. — С этим тебе поможет только Вильфред, другого такого идиота, жадного до денег, я не знаю!
Вот так Фрэнк и узнал об этом Вильфреде. Теперь приходилось ждать вечера, — Фоули планировал выехать в Росток, на встречу с ним, около десяти вечера.
«Раньше полуночи тебе там делать нечего! Я предупрежу Вильфреда, он будет тебя ждать», — немного успокоившись, сообщила телефонная трубка уже другим голосом.
И Фрэнк принялся ждать. В этом нудном, мучительном ожидании его радовало только одно: он помогает Агне Кельнер. Мысль грела его, вызывая воспоминания о том, как чудесно, — даже несмотря на бледность, которая, по молчаливому мнению Фоули, делала ее глаза еще ярче и притягательнее, — она выглядела сегодня утром. На ее лице были еще заметны следы недавнего сна, волосы, едва доходившие до плеч, — впервые за все время, что Фрэнк знал Агну, — были распущены, а темно-зеленое домашнее платье с закрытым воротом делало весь ее облик еще более строгим и… Фоули улыбнулся, вспомнив ее язвительный ответ о времени их встречи, но улыбка тут же сползла с лица, когда он припомнил, что потом Агне стало плохо. «Я так и не знаю, что с ней… Но если бы случилось что-то серьезное, Кельнер сообщил бы нам, так? Например, через Кете…». Тревога быстро разошлась по телу, снова поглощая Фрэнка целиком. После долгого молчания Фоули заставил себя вернуться в реальность и проверить, все ли было сделано для поздней встречи с Вильфредом в морском порту Варнемюнде, рядом с Ростоком?
«Поеду в десять, из дома. Дорога займет около двух часов… Карта с обозначением порта готова, деньги тоже… Но если денег, что я сегодня снял в банке, не хватит?». Холодный пот пробил Фоули, стоило ему предположить, что из-за его глупости рухнет все, что было сделано Кельнером, Агной и Кете.
Черный и блестящий в свете подслеповатых фонарей, «Фольксваген» Фрэнка медленно, покачиваясь на неровной дороге, въехал на застывшую в ночном безмолвии площадь дока. Территория была громадная, безмолвная и по-ночному жуткая. Может быть, именно поэтому Фоули, чувствуя себя неуверенно от того, что в последний момент место встречи в Ростоке было изменено, передернул плечами и со страхом огляделся вокруг. Он не заметил ни одного признака того, что здесь его кто-то ждет. Но когда Фрэнк, завернувшись в пальто и надвинув поглубже шляпу, вытянулся из автомобиля на промозглую от ветра и недавнего дождя улицу, то услышал:
— Вы опоздали.
Выждав несколько секунд, Фоули повернулся к темному силуэту, и произнес чуть дрогнувшим голосом:
— Извините, Росток мне не знаком.
— Эта дыра мало кому хорошо знакома, герр Фоули. Даже несмотря на морской порт.
Голос звучал резко и весело, поднимаясь вверх, во тьму, режущим слух эхо.
— Вы принесли деньги?
— Вы принесли паспорт?
Голос засмеялся, оценив ответ.
— Быстро схватываете, герр Фоули.
Мужчина подошел ближе, но лицо его, криво освещенное темно-желтым лучом фонаря, все равно осталось в темноте, и теперь распознать черты того, кто назвался Вильфредом, стало труднее, чем прежде.
— Деньги, — шепнул он, нависая над Фоули.
— Мне нужно видеть паспорт, оценить его качество.
Вильфред засмеялся и сплюнул под ноги.
— За это можете не бояться. Мне претит плохо сделанная работа.
Расправив плечи, мужчина скрестил руки на груди и застыл на месте.
— Если вы так настаиваете… — шепнул Фоули, доставая из внутреннего кармана пальто плотный бумажный конверт, который, судя по виду, был неплохо набит деньгами.
— Двадцать тысяч марок, как договорились.
Вильфред покачал головой.
— Цены выросли, герр Фоули.
— Когда? — осевшим голосом спросил Фрэнк.
Его худшие опасения сбывались, и он боялся одного: паспорт ему не получить.
— Пока вы плутали по дороге в поисках порта, — с улыбкой и какой-то заботливостью в интонации пояснил голос. — Вот ирония, да? В Германии есть такие крупные порты, а нацисты запретили евреям выезжать из священного рейха по морю.
— Это не самое страшное, что они делают или что еще могут придумать, — удивляясь себе, вдруг произнес Фрэнк.
— Согласен, герр Фоули. За вашу тревогу и обеспокоенность судьбами людей я сделаю вам скидку, и возьму сверх денег только это, — Вильфред кивнул на золотые наручные часы Фоули. Проследив за взглядом мужчины, Фрэнк резко втянул воздух через нос и задержал его в легких, молча снимая с запястья часы.
— И это!
Вильф указал на обручальное кольцо.
— Но… послушайте, кольцо… это память о моей жене!
Нож, блеснувший рядом с Фрэнком дал понять, что с этой памятью ему придется проститься. Отдав часы и кольцо, Фоули, осмелев на адреналине, уже бурлившим в его крови, вытянул руку вперед, требуя паспорт на имя Дану Кац. Книжечка упала в его ладонь с легким шлепком.
— Проверяйте!
Вскинув голову вверх, Фрэнк подошел ближе к фонарю, и принялся самым долгим и внимательным образом рассматривать поддельный паспорт. Печать, отсутствие буквы «J», возраст, фото, бумага, чернила, заполнение и даже прошивка страниц — все действительно было на высоте.
— Все в порядке, — бросил Фоули, убирая паспорт в карман.
— Рад услужить, — с прежним смехом отозвался голос Вильфреда.
Лезвие ножа спряталось сначала в темноту, а потом в руку, и мужчина исчез.
Так подошел к концу первый из пяти дней, оставшихся до отъезда Кайлы, Дану и Мариуса в Великобританию.
* * *
Время четырех дней, что оставались до сочельника, бежало вперед слишком быстро, в каком-то диком, невероятном прыжке. По крайней мере, так казалось Эл. Ее прежнее беспокойство стало только сильнее, и большая часть душевных сил уходила только на то, чтобы вести себя так, будто все в жизни Агны Кельнер было ясно, легко и просто.
Словно в противовес страхам Элис, Эдвард в эти дни был особенно собран и невозмутим. Его энергии, уверенности и внимания хватало на все: на все заботы об отъезде, на все новые нюансы, которые, казалось, возникали каждую секунду в бесчисленном количестве, — девушка была уверена, что если бы она занималась помощью Кайле, то у нее ничего бы не получилось, — на заботу об Эл и даже на память о том, когда она ела и как именно себя чувствовала.
Метаморфозы Милна изумляли и завораживали Элис: чем дальше по календарю летели призрачные дни конца декабря, тем увереннее он становился. Иногда в ее мыслях даже проскальзывало невероятное предположение о том, что у Эдварда выросли крылья, и что теперь его ничто не остановит — таким решительным, полным сил и энергии он был. Одно Эл знала точно: если бы не он, она бы ни с чем не справилась. Слабость, плохое самочувствие и тошнота совершенно ее изматывали, и она, как ей казалось, не могла думать ни о чем «важном».
Уже потом Эл, вспоминая эти дни, поймет, что Эдвард был из тех, кого большая опасность мобилизует, а не сбивает с пути. И чем выше страх, тревога, волнение и отсутствие четкого пути, тем более собранным и кристально чистым все становится для таких людей, как Милн. Неизменно внимательный к Эл, Эдвард пытался успокоить ее тревогу и дурные предчувствия, но внутренний страх Элис был сильнее даже его заботы. К тому же, все эти дни были такими быстрыми, беспокойными, наполненными событиями с самого утра до позднего вечера, что времени для того, чтобы побыть вдвоем, наедине, укрывшись от всего и от всех, у Эдварда и Элис почти не было. Оставшееся до сочельника время бежало не просто быстро, — оно проносилось вихрем на огромной скорости, выжимая из Агны, Харри и тех, кто помогал им, все возможные силы.
— Пора, — шепнул Эдвард, с нежностью смотря на Эл.
Она ничего не ответила, только продолжала медленно рассматривать его лицо таким же нежным и беспокойным взглядом.
— Ты всегда можешь мне рассказать о том, что тебя беспокоит.
Милн отвел с лица Элис темно-рыжую прядь, любуясь тем, как солнечный свет играет цветом ее волос и глаз, раскрывая их глубину так, что от этого захватывало дух.
— Это все мои глупости, — хриплым от недавнего сна голосом сказала Эл, не меняя положения, и продолжая скользить медленным взглядом по лицу Милна.
Ей стыдно было признаваться в том, что она боится нового дня, который уже просыпался за окном, и очень не хочет прерывать это неторопливое, уютное мгновение раннего утра.
— Как ты себя чувствуешь?
— Все хорошо, — скупо ответила Эл, очерчивая указательным пальцем контуры лица Эдварда.
Он улыбнулся совсем немного, — той печальной улыбкой, в которой переплетались напряжение, усталость и громадная нежность. Время, быстрое для всех остальных, для них потекло медленно и невесомо. Но вот и оно кончилось, вынуждая Элис и Эдварда начать новый день.
Агна оглянулась. Медленно и отвлеченно, словно ее в самом деле очень интересовала витрина магазина на Кудамм, оформленная только вчера. В пространстве между огромными стеклами, заново вставленными нацистами после погромов, «устроенных евреями», было выставлено несколько женских манекенов, одетых в новые модели немецкого дома мод под руководством фрау Гиббельс. В одном из платьев девушка узнала свою работу, но если бы кому-нибудь было интересно ее истинное мнение, Агна сказала бы, что ни одно из этих платьев ей не нравится.
Она усмехнулась, осторожно разглядывая в отражении витрины неуклюжую, приземистую фигуру Хайде, который сегодня следовал за ней по пятам, с самого утра. Вернувшись мысленно к платьям, выставленным на продажу, Агна подумала о том, что германская мода, — впрочем, об этом было заявлено в статье модного журнала Style еще в далеком 1933 году, так что никакого сюрприза в этом не заключалось, — так отчаянно и остервенело хотела уничтожить утонченную французскую соперницу, затмив собой единственно весь модный небосклон, что в этой гонке между новыми тенденциями и «истинно германским стилем», она проиграла.
Почти сразу же, в том же тридцать третьем, и — навсегда. И как бы старательно немецкие модельеры ни копировали французскую моду, которую они ненавидели, и которой дико завидовали, их наряды, — хоть прежних, хоть новых сезонов, — всегда оставались лишь жалкой репликой, картонной поделкой неумелых рук.
По мнению Агны, для ведения хорошего наружного наблюдения Хайде не хватало неприметности и легкости. Достаточно было посмотреть на его лицо с крупными чертами, и то напряженное выражение, с которым он старался незаметно смотреть на фрау Кельнер, чтобы понять, что «вести» Хайде умеет очень плохо.
Агна взглянула на наручные часы с маленьким, овальным циферблатом. Золотые стрелки сошлись на цифре двенадцать.
В Берлине пробил полдень, и только сейчас, посреди оживленной улицы со спешащими в разных направлениях людьми, она почувствовала, как сильно проголодалась. Организм Агны, обрадовавшись, что в пробежках по домам клиенток на него наконец-то обратили внимание, услужливо напомнил ей, что завтракала она сегодня очень рано и было это очень давно. Да и можно ли считать полноценным завтраком тост с маслом и чашку кофе?
Фрау Кельнер сделала круг на месте, — якобы думая над тем, где находится ближайшее кафе, и тем самым давая себе возможность полного наблюдения за действиями Хайде. В эту минуту он застыл у дома напротив, с газетой в руках. Большие страницы могли бы надежно укрыть его от взгляда Агны, но он так яростно перелистывал новый номер «Штурмовика», выдавая себя с головой, что девушка, не утерпев, коротко рассмеялась и поспешила уйти от его пусть неумелого, но все-таки наблюдения.
Отойдя от модного магазина, Агна Кельнер прошла по прямой, помахала рукой в белой перчатке кому-то из знакомых девушек, шумной компанией идущих ей навстречу, улыбнулась, и ускорила шаг, чтобы успеть встретиться с подругами. Хайде шел по противоположной стороне улицы, точно за женой Кельнера, внимательно отслеживая ее перемещения, и наблюдая за ней так пристально, что глаза резало от напряжения. Но все это он считал временным неудобством, необходимой жертвой в угоду счастливой удаче. Ведь сегодня утром, прикрывшись «срочными служебными обязанностями контрразведки», он, не появившись на рабочем месте, намеревался следить за Кельнером. А пока Эрих думал, где тот мог находиться: в офисе или на очередном рабочем выезде, мимо него, как настоящий подарок, неторопливо прошла жена Харри.
Вот так неожиданно объект наблюдения в планах Эриха был изменен, и теперь он следовал пусть не за самим Кельнером, которому, как и прежде, намеревался отомстить, — теперь, правда, еще более жестоко, учитывая недавний случай с Сектом, — но за его женой. «Может, так даже лучше», — с удовольствием подумал Хайде, пошло ухмыляясь при виде Агны Кельнер. Она была не в его вкусе, но разве это имеет значение? Особенно тогда, когда представляется такой хороший шанс для мести давнему противнику, и тогда, когда тебе противостоит лишь мелкая баба, чей рост только при помощи каблуков достигает ста семидесяти сантиметров. «Попробуем что-то новое…», — плотоядная мысль, не уточняя подробностей, над которыми Эрих еще не успел хорошо поразмыслить, одиноко пронеслась в мозгах Хайде. Он видел, как Агна, коротко переговорив о чем-то с девушками, пошла дальше, к площади, где рядом с парком было открыто большое уличное кафе.
Выбрав свободный от окружения столик в крайнем ряду, жена Кельнера грациозно села на стул. Глядя на Агну, ее медленную, обворожительную улыбку, и плавные, неторопливые движения, Хайде мысленно согласился с выбором Кельнера, отдавая должное его вкусу: картинка была очень красивой. Но Хайде очень хотелось действия, — быстрого, результативного. Схватить жену Кельнера, запереть ее где-нибудь и вызвать его на очную ставку? Он, конечно, придет. Даже прибежит. Но делать этого не стоит, — слишком велика вероятность того, что что-то снова пойдет не так, и Хайде останется с очередным провалом. Поэтому, — Эрих глубоко вздохнул, пытаясь набраться терпения, которым он никогда особенно не обладал, — приходилось ждать. И продолжать наблюдение за бабой Кельнера.
Сам Эрих, устроившись за столиком в другом ряду, очень гордился выбранной позицией: окружающие посетители кафе, среди которых было даже несколько эсесовцев, скрывали его от взгляда Агны. По расчетам Хайде, он очень удачно смешивался с толпой, что нельзя было сказать об объекте его наблюдения — выбрав отдаленный столик, рядом с которым не было других посетителей, фрау Агна Кельнер не только не отводила постороннее внимание от своей персоны, но, наоборот, даже слишком привлекала его. Впрочем, вряд ли она задумывалась о чем-нибудь подобном, усмехнувшись, мысленно поправил себя Хайде: весь ее внешний вид, — начиная от легкой улыбки, адресованной официанту, когда тот принимал заказ, — до долгого рассматривания меню, говорил о том, что она не только ни о чем не подозревает, но даже более того, — действительно планирует отведать блюда из своего заказа: овощной салат, брецели и черный кофе.
Официанты, обслуживающие Хайде и жену Кельнера, подошли к своим клиентам одновременно. Перед Агной неторопливо, с пожеланием приятного аппетита, выставили ее заказ, и Хайде, наблюдая за тем, как она принимается за поздний завтрак (или ранний обед?), наконец-то смог по-настоящему расслабиться и выпить пива.
Около двадцати минут ничего не происходило. Агна Кельнер аккуратно ела, умиротворенная приятной обстановкой, Хайде допивал третью кружку пива, и это была такая идиллия, что Эрих уже готов был изменить объект наблюдения в своих будущих вылазках, остановив свой выбор на Агне, — тем более, что воздействовать на Кельнера через его бабу можно гораздо больше, чем если действовать напрямую, выслеживая самого Харри, — когда с той стороны, где сидел Хайде, раздался истерический женский крик. Взгляды посетителей кафе обратились к небольшой группе эсесовцев, — именно к ней, расталкивая пустые стулья в разные стороны, спешила плачущая женщина. Она была средних лет, — в каком-то черном платье «или тряпье», — как брезгливо подумал Хайде, отвлекаясь от Агны Кельнер.
Женщина с трудом добралась до столика, за которым сидели черные собаки Гиббельса, и остановилась, вцепившись в столещницу белого, витого изящным узором, столика уличного кафе.
Один из эсесовцев, — самый высокий, и, должно быть, старший по званию, — поднявшись, навис над женщиной, которая от сбившегося дыхания долго не могла заговорить, и с гневным криком, от которого у ближайших к нему людей вполне могло заложить уши, отбросил ее руку, которой она держалась за столик, в сторону. За окриками эсесовца, Хайде, поглощенный этой сценой, не смог разобрать слов, сказанных женщиной. Но уже через несколько минут он с радостной улыбкой наблюдал за тем, как черные собаки, скрутив и окружив ее, не церемонясь, потащили женщину к выходу из кафе. В начале этой занимательной сцены какой-то мужчина в штатском, — высокий блондин, сидевший между черными собаками и Хайде, — так резко поднялся из-за столика, разглядывая что-то прямо перед собой, что опрокинул стул, на котором сидел. Уже потом Хайде, вспоминая этот случай, понял, что блондин смотрел на жену Кельнера. «Очевидно, — пришел к запоздалому заключению Эрих, — он вскочил со стула для того, чтобы идти за ней». Но идти за Агной никому из них не случилось: ни у этого блондина в штатском, к которому вдруг почему-то адресовались черные собаки, — из-за чего он вынужден был, чертыхаясь, уйти с ними и с той сумасшедшей, что подбежала к ним, — ни у Хайде. Когда радость от задержания еврейки (а это была именно она, еще и заявившая эсесовцам ломаным, сорвавшимся голосом, «я — еврейка!»), расплывшаяся довольными улыбками по лицам Хайде и других посетителей кафе немного стихла, Эрих повернулся, чтобы проследить за Агной Кельнер, и вдруг обнаружил, что она ушла, и что за тем столиком, где сидела девушка, нет не только ее самой, но даже столовых приборов и блюд, принесенных для нее официантом.
* * *
— Ты уверена, что это были Хайде и Зофт? — уточнил Эдвард, медленно шагая рядом с Элис по аллее Груневальда, и слушая неторопливый, густой хрип снега под их ногами.
— Да. Зофт был в штатском, как и Хайде, и он очень разозлился, когда эсесовцы в форме, которые уже надели на ту женщину наручники, вдруг повернулись к нему, и обратились как к старшему, спрашивая у него дальнейших указаний по поводу задержанной.
Голос Эл прозвучал задумчиво и так тихо, что для того, чтобы расслышать сказанное, Эдвард наклонился к ней.
— Как ты себя чувствуешь?
Эл пожала плечами, не зная, что ответить. Память снова вернула ее к происшествию в кафе. Она специально выбрала столик в последнем ряду, свободный от окружения, — уйти с этого места, при необходимости, будет очень легко: за спиной — парковая аллея, с множеством гуляющих в полдень людей, перед ней, через два ряда однообразных столов уличного кафе — Хайде, который старается смотреть на нее из-за высоких газетных листов одиозного «Штурмовика» как можно незаметнее. Но именно потому, что он очень старается быть неприметным, Эрих совершает слишком много лишних, суетливых движений. Благодаря им его «слежка» мгновенно выдает себя, задолго до того, как начинают происходить хоть какие-то события. Отпивая кофе из чашки, которая очень кстати скрывает нижнюю часть ее лица, Элис улыбнулась, веселясь от суеты Эриха. Его она почти не боялась. При мысли о Хайде в ее душе поднималась только волна холодной ярости, — от воспоминания о том, что он сделал с Эдвардом. В Хайде Эл беспокоила только его внезапная вспыльчивость, но даже ей девушка не придавала большого значения, зная по своей внутренней уверенности, которую она четко ощущала в присутствии Эриха, что от него она сможет уйти.
А вот с Герхардом Зофтом, оказавшимся за другим столиком, дело обстояло совсем иначе. Агна заметила его не сразу. И Зофт, перед которым она всегда ощущала какой-то глухой, неясный страх, не в пример Хайде, следил за ней куда более умело и ловко. Она тяжело вздохнула, отламывая кусочек соленого брецеля: одно дело коротко поводить за нос Хайде и уйти от него, и совсем другое — выйти на возможное прямое столкновение с Зофтом, сотрудником гестапо и эсесовцем. При этой мысли страх Эл перед Зофтом ожил с новой силой, и, с удовольствием скручивая ее изнутри, вернул ей прежнее плохое самочувствие: слабость и тошноту. И пока Эл придумывала, как лучше всего ей оторваться от Зофта, к столику, где сидели эсесовцы, подбежала женщина.
Она была не в себе: отбросив за спину длинные, растрепанные волосы, женщина неловко остановилась перед собаками Гиббельса, и заявила им, что они должны арестовать ее, потому что она еврейка. Эл, несмотря на поднявшийся шум и окрики эсесовцев, ясно расслышала эти слова, и почувствовала, как волна ужаса, поднимаясь, накрывает ее с головой. Чувствуя, как дрожат руки, Элис схватила брецель, и изломала его в мелкую крошку. Затем, не спуская взгляда с эсесовцев и женщины, допила кофе, заставляя себя делать все необходимые движения неторопливо и спокойно. Самообладание изменило ей, когда женщину, скрутив, заковали в наручники и толчками повели к выходу из парка: в эту минуту Эл, чувствуя, как на глаза выступают слезы, вскрикнула и зажала рот ладонью.
А Зофт, не упускавший Агну Кельнер из виду, только и ждал чего-то подобного, но сейчас он сам, сотрудник тайной полиции, был занят.
Ибо глупые собаки Гиббельса не придумали ничего умнее, чем обратиться к нему за помощью и испросить совета в своих дальнейших действиях. Агна, пользуясь тем, что Зофт занят, ушла из кафе так быстро, как это только могла позволить спокойная, легкая походка, которой она прошла по аллее парка. Где-то в мыслях Эл еще прыгал, требуя внимания, вопрос о том, каким образом эсесовцы узнали в Герхарде Зофте, одетом в штатское, сотрудника гестапо? Но ответ на этот вопрос Элис в ту минуту интересовал меньше всего.
Перейдя улицу, и пройдя несколько домов, Эл остановилась, чтобы прийти в себя: унять волнение и дрожь. Прислонившись к стене дома, она закрыла глаза и сделала несколько глубоких вдохов и выдохов, вспоминая, что так уже было… тогда, когда она узнала, сколько убитых в ночь погромов значилось в неофициальных, самых первых, сводках гестапо. Тогда Агна Кельнер едва успела выйти из дома клиентки, как ее вырвало. Элис зажала рот рукой, надеясь, что в этот раз тошнота отступит. Но судорога скрутила изнутри так сильно, что ее снова вырвало. «Так не было раньше… надо собраться, собраться…» — отрывисто думала Элис, с трудом втягивая в легкие холодный, разряженный воздух. Голова ужасно кружилась, а тело стало таким тяжелым, что Эл боялась: ей не будет лучше, и она не сможет закончить свою работу, — сделать ещё два визита к клиенткам: одна примерка и один новый заказ. «Сначала нужно вернуться к машине, забрать вещи…». Силы постепенно возвращались к Элис. Выждав, для верности, еще несколько минут, Агна Кельнер другим путем вернулась к своей новой машине.
— Все хорошо, — напряженно ответила Эл на вопрос Эдварда, выплывая из воспоминаний. Прочертив носком ботинка полосу по свежему снегу, она замолчала, размышляя о чем-то. А Милн, наблюдая за ней, никак не мог унять свою тревогу. Ему было ясно, что Эл о чем-то умалчивает, и от этого беспокойство Милна становилось только сильнее. Но он не спрашивал ее, только молчал. Потому что очень давно, после их долгого, мучительного раздала, когда, как он выразился, они измучили и едва не убили друг друга, он пообещал себе, что больше не станет давить на Эл, выпытывая у нее то, что она по каким-то причинам не хотела или не могла сказать. Выдерживать это обещание Милну было трудно, особенно в такие моменты, как этот: когда кожей чувствуешь опасность, обступившую со всех сторон, и снова, теряя нужные слова, немеешь, не зная, что сказать. Эдвард вздохнул и обнял Элис, крепко сжимая в своей теплой ладони ее дрожащую руку. Он был уверен, что ему самому не нужна никакая помощь, но, к удивлению Милна, ему стало легче, когда он почувствовал близость Эл, и ее руки, плотным кольцом обвившие его по кругу. Они долго молчали. Наконец, стряхнув крупные снежинки с волос Элис, — они скатились от его прикосновения вниз легко и невесомо, — Эдвард прошептал:
— Смотри, что у меня есть.
Взяв книжечку в руки, Элис не сразу поняла, что это — новый паспорт для Дану. Обернутый темно-красной, кожаной обложкой, он выглядел солидно и ничем не выдавал того, что на самом деле это — фальшивка, сделанная на заказ.
— Узнаю педантизм Эдварда Милна и Харри Кельнера, — с улыбкой, чуть хрипло, проговорила Элис, имея ввиду то, что Эд помнил даже про обложку.
Милн улыбнулся.
— Фоули передал сегодня.
— Думаешь, теперь ему можно верить? — с сомнением спросила Элис.
Эдвард не ответил. Он и сам бы хотел знать ответ на этот вопрос.
Так закончился второй из оставшихся пяти дней.
* * *
— Теперь все необходимое для вашего отъезда готово.
Харри посмотрел по очереди на Кайлу, Дану, Кете Розенхайм и сидевшего рядом с ней Фоули.
— Фрэнк, спасибо за паспорт. Отличная работа.
Фоули кивнул и покраснел, чувствуя на себе мимолетный взгляд Агны Кельнер.
— Что нам теперь делать? — негромко спросила Кете.
— Самое сложное, — Харри слегка улыбнулся, — ждать. Все, что было необходимо, мы сделали: документы готовы, договоренности подтверждены взятками…
— Багаж собран, — продолжил Дану. — Мы сделали все, как вы сказали: только самые необходимые вещи и одежда, что приготовила для нас фрау Агна.
Кельнер кивнул.
— Кете, как Мариус?
— Все хорошо. Но он с трудом дожидается дня отъезда, — помолчав, со взволнованной улыбкой, сказала Кете. — Мне самой до конца не верится, что все это правда, и что скоро…
— Все кончится… — прошептала Агна, внимательно рассматривая узор на скатерти.
Ее голос оборвался, и она сдернула руку со стола, спрятав ее на коленях.
— Простите.
В гостиной дома Кельнеров повисла тяжелая, вязкая тишина.
— Я тоже не могу в это поверить! Но все будет хорошо!
Кете подошла к Агне, и обняла ее за плечи.
— Да. Спасибо.
Девушка благодарно улыбнулась Кете.
Посмотрев на жену, Харри опустил руку и сжал ее холодные пальцы.
— Думаю, на этом сегодня закончим. Осталось три дня. Прошу всех успокоиться и отдохнуть, — насколько это возможно. Живите, как обычно, — как в любые другие дни, так, словно ничего не происходит. Кете, Фрэнк, пароль на случай непредвиденной, срочной встречи вы знаете.
Кайла, Дану и Кете закивали.
— Я хочу кое-что добавить, — прочистив горло, Фрэнк поднялся из-за стола, и обвел всех присутствующих взглядом. Ответом была абсолютная тишина.
— Как я уже говорил, дата праздника по случаю открытия дома мод Гиббельс по новому адресу была изменена. Теперь это 24 декабря, — день отъезда.
— Черт возьми! Это точно, ошибки быть не может?
— Ошибка исключена, Харри. Более того, к моему удивлению, я тоже приглашен на этот вечер. Думаю, они планируют очень большой прием, а с учетом напряженной международной обстановки…
— Приглашают послов и значимых чиновников «союзных» стран, чтобы продемонстрировать дружбу и следование общим интересам? — закончил Кельнер.
Фоули развел руками:
— Может, они свяжут этот праздник и со скорым Рождеством.
— Что скажешь, renardeau? — с теплотой в голосе спросил Харри, поглаживая Агну по спине.
— Мне об этом ничего не известно. Но сегодня Гиббельс ждет на общее собрание работниц модного дома. Может быть, там она объявит что-то из того, о чем сказал герр Фоули. На том очередное раннее собрание в доме Агны и Харри закончилось. Все приготовления к отъезду были завершены, и все, что оставалось делать Кайле, Дану и Мариусу — это сидеть на чемоданах. Очень тихо.
* * *
Разобрав документы много раньше, чем планировал, Харри с удивлением оглядел свой рабочий кабинет, и откинулся на спинку кресла. Два свободных часа, оставшиеся до поездки в Дахау, сбили его с толку. Закурив сигарету, он нажал на кнопку связи с приемной, и предупредил Софи, чтобы она никого к нему не пускала.
Два свободных часа! «Когда такое было в последний раз, герр Кельнер?» — мысленно спросил Эдвард, и усмехнулся, стряхивая пепел с сигареты. Харри удивленно молчал, ничего не отвечая. Потому что такого внезапного приступа отдыха он не помнил за все свое время работы в «Байер»: его рабочее время всегда было расписано по минутам, и никакой временной промежуток в громадном концерне «Фарбениндустри» не мог, не имел права быть потерян. Ошалев от внезапного свободного времени, Милн-Кельнер выкурил две сигареты подряд, но внутреннее напряжение не спадало. Мысли Эда крутились вокруг Эл и ее перманентного, тревожного состояния. Он гнал от себя эти мысли, но гнал безуспешно. Приходилось признать пугающий его факт, с которым он пока не знал, что делать: он боялся, что Эл не выдержит. После всего пройденного и пережитого, после всех перипетий их общего пути, она… не выдержит? Вот почему сегодня ночью Милн сторожил ее сон: он был напуган молчанием и замкнутостью Элис так сильно, что не мог уснуть.
Она тоже спала плохо: часто просыпалась от страшных снов, вздрагивала, говорила во сне. Резко поднимаясь в постели, Эл отбрасывала одеяло в сторону, собираясь куда-то идти, и, повернув голову, замечала Эдварда. Он держал Элис за руку, рассматривая ее лицо и фигуру задумчивым, блестящим в темноте взглядом. Его присутствие успокаивало Эл. Улыбнувшись ему, она возвращалась в постель, надеясь, что скоро уснет. И уже скоро, снова проваливаясь в сон, она шептала один и тот же вопрос:
— Почему ты не спишь?
— Спи, спи…
И она засыпала, убаюканная его присутствием и еще очень темной ночью за окном. А Милн продолжал сторожить ее сон и ночь, думая над тем, как помочь Эл.
«Нет, она не может сдаться! В ней много добра и много света!» — упрямо твердил себе Эдвард, чувствуя, что теперь это было правдой только наполовину: у его Элис еще был свет, и была доброта, но иногда, — особенно часто в последнее время, — он ловил себя на осознании того, что этого может быть недостаточно для противостояния тому, с чем они имели дело. Милн поддерживал Эл как только мог. И все равно боялся, что этого мало. «Что еще мне сделать?» — спрашивал он себя. Но ответа не было.
Вот и сейчас, сидя в кабинете Харри Кельнера, он, без особой надежды на удачу, спросил себя о том же. И едва не бросил хрустальную пепельницу в стену от радостного осознания: Хайде! «Начнем решать задачу со старины Эриха!». Ответ был так изумительно прост, так очевиден после вчерашней слежки Хайде за Агной, что Харри очень обрадовался тому, что его свободное время снова занято.
План Кельнера был прост: найти Хайде и выяснить, какого черта он следит за Агной. Он принялся за дело со всем возможным энтузиазмом и горящими недобрым блеском глазами, — как раз таким, какой подтверждал опасения сослуживцев и коллег Кельнера и Себастьяна Трюдо в том, что этот блондин, — как его ни назови, — был, остался, и, скорее всего будет и дальше Психом.
Позвонив по номеру внутренней связи в отдел контрразведки, Харри узнал, что Эриха фон дер Хайде нет на рабочем месте второй день.
— Он отбыл по своим служебным обязанностям, — равнодушным голосом сообщила Харри телефонная трубка и отключилась, вероятно, решив, что разговор завершен.
У Кельнера не было оснований не верить секретарше из ведомства контрразведки, но он все равно поехал в невзрачный офис, где располагался кабинет Хайде. Если старина Эрих исчез, Харри Кельнер хочет лично в этом убедиться, а еще лучше — узнать, когда и куда именно исчез Хайде.
Кабинет Эриха, маленький и полупустой, куда Кельнер попал исключительно благодаря своему обаянию и силе убеждения, обрушенным на секретаршу Хайде, не рассказал ему ничего особенного. По разбросанным на столе вещам было ясно, что Эрих собирался в большой спешке. Но куда? Ответа среди мятых бумаг, раскрытых папок для хранения документов, карманных фонарей со сменными батареями и мелким сором, состоявшим из сожженных спичек и золы, не было. Милн предположил, что Хайде взял из кабинета какие-то вещи и «отбыл по служебным обязанностям». Секретарша сказала, что это было после разговора с начальством. «Возможно, этот разговор состоялся после встречи с Сектом, на которой я тоже был. Если я прав, то сейчас Эрих, где бы он ни находился, наверняка очень зол». Жена Эриха, Мирта Хайде, посмотрела на Кельнера со страхом, когда он спросил ее о местонахождении мужа.
— Не волнуйтесь, прошу вас. Я коллега вашего мужа, мы работаем вместе, и я хотел бы кое-что у него уточнить.
— Три дня назад он уехал в командировку, больше я ничего не знаю.
Изобразив крайне рассеянного и потому забывчивого коллегу, Кельнер попрощался с фрау фон дер Хайде, и пошел обратно к «Хорьху», теперь совершенно не представляя, где ему искать Эриха.
* * *
— И еще одна новость, дамы. Самая важная.
Фрау Гиббельс, окруженная со всех сторон работницами своего модного дома, улыбнулась как можно радостнее.
— Праздничный вечер по случаю открытия нового дома мод на центральной Унтер-ден-Линден пройдет уже завтра! Сочельник станет радостным вдвойне!
Хлопнув в ладоши, Магда оглядела ледяными глазами присутствующих. Фрау и фройляйн, обрадованные новостями, смотрели на нее с удивлением, причина которого крылась в необычайном приступе дружелюбия главной блондинки рейха. Среди женщин поднялась волна ропота, которую Гиббельс остановила одним надменным изломом тонкой брови.
— Фрау Гиббельс, — робко начала одна из девушек, — мы не ожидали, что официальное открытие будет уже завтра. Как же мы успеем подготовиться к открытию?
— Успеете, — холодно ответила Гиббельс, переходя взглядом от одной женщины к другой. — Завтра я объявляю для вас выходной день. Никаких выездов по заказам и встреч с клиентками. Обязательное условие только одно: все вы, до единой, вечером должны быть на празднике в самом лучшем виде. Это будет грандиозный вечер, с множеством гостей, и ваша обязанность — быть на вечере и выглядеть великолепно. Грустные, усталые, печальные лица, — супруга министра пропаганды бросила на Агну Кельнер злой взгляд, — мне не нужны. Только радость, счастье, красота для мужчин и веселье!
Гиббельс снова хлопнула в ладоши, давая женщинам знак, что они могут идти, и неспешно удалилась, прикурив от сигареты, вставленной в золотой мундштук.
Агна вышла на улицу, поправила меховой воротник теплого пальто, и, осмотревшись по сторонам, медленно пошла по мостовой Кудамм. Сегодня она была без машины, потому что еще вечером решила, что после работы зайдет к Кете и Мариусу. Времени до их отъезда, — с учетом последних новостей от Гиббельс, — оставалось меньше, чем они планировали: четыре дня вместо пяти. Слова Фоули подтвердились. Элис сжала руки в кулаки и глубоко вздохнула, чувствуя, как глухо и пусто бьется в груди сердце. Уже завтра! Завтра! Кете, Дану и Мариус уедут, будут спасены!.. «Проведи с Мариусом больше хорошего времени», — вспомнила Эл слова Эдварда. Как он оказался прав!
Но сколько бы времени с Мариусом Агна не проводила, ей все казалось, что она не сказала, не сделала самое важное и нужное. Но что это? Ответа она не находила. Все было пустым, и таким останется… «не смей так думать! Вы с Эдом будете здесь, и, кто знает, может быть, сможете помочь и другим людям? И шифровки, передачу нужной информации никто не отменял!». С такими мыслями Агна Кельнер шла по улицам Берлина. Она подходила к светофору, когда позади нее раздался звук автомобильного клаксона.
Стекло со стороны места для пассажира опустилось, и мужчина на безупречном французском негромко спросил, может ли он подвезти такую красавицу по любому нужному ей адресу?
Зеленые глаза Агны зажглись смехом, и, спрятав улыбку за изящным жестом, она утвердительно кивнула.
— Можете, герр Кельнер. Вы — можете.
Эл и Эд рассмеялись, глядя друг на друга. За смехом последовал поцелуй и улыбки, а затем Элис попросила Эдварда съездить к Мариусу.
— Хочу попрощаться, — быстро прошептала она, но голос все равно сдавленно дрогнул.
Завтра, 24 декабря, Элис уже не увидит Мариуса: день будет занят подготовкой к открытию модного дома, а вечер… об этом обязательстве не хотелось даже думать. Эл долго не соглашалась с Милном, убеждая его, что она успеет проводить Мариуса, Кайлу и Дану, и вернуться на праздничный вечер, но Эдвард не дал себя уговорить. И расклад остался прежним: Харри Кельнер приедет на вечер позже, сказавшись очень занятым чиновником, а Агна Кельнер будет там вовремя, вместе с Фрэнком Фоули.
— Нет, только не с ним! — протестовала Эл.
— Именно с ним, фрау Кельнер. Так я буду знать, что, пока я провожаю Кайлу, Дану и Мариуса, ты — в безопасности. Фоули отлично подходит для этой роли, — он не вызовет подозрений, потому что тоже приглашен. Если вас спросят о том, как вы познакомились, то он ответит, что однажды заказывал для своей сестры платье, сшитое в доме мод Гиббельс. Я говорил с ним, он согласен.
Элис усмехнулась.
— Согласен! Да что может случиться?..
Элис хватило одного взгляда на Милна, чтобы понять, что именно он ответит на этот вопрос.
— Из всех подобных случаев напомню тебе только один, renardeau, после которого ты пришла ко мне ночью в слезах и с вопросом…
— Убьют ли они нас… да, помню. Это было в самом начале, слишком давно.
Элис замолчала, вспоминая тот и другие, подобные ему случаи, и вздрогнула от отвращения.
— Хорошо, — Фоули, так Фоули.
Девушка кивнула и посмотрела в окно «Хорьха»: они подъезжали к дому Кете Розенхайм. Мариус, не ожидавший, что Агна, — которую про себя он продолжал называть «феей», — приедет в гости ради него, специально, чтобы попрощаться с ним перед отъездом, волновался так сильно, что почти ничего не мог сказать, — «связного или умного!» — как потом ругал он себя. Он только смотрел на Агну своими огромными, сияющими глазами, с восторгом и любовью. И Агна смущалась не меньше, чем Мариус, — правда, по иной причине, — она пыталась поговорить с ним, и никак не могла подобрать нужных слов. Все они казались пустыми перед фактом того, что она видит Мариуса в последний раз. Одна мысль согревала ее: мальчик останется в живых. Он будет жить, он будет свободен!
Агна улыбнулась, глядя на мальчишку. Черты его лица менялись, постепенно обретая мужественность, но в них она все еще могла отыскать того маленького мальчика, который, по счастливой случайности, спас ее одним поздним вечером.
— Спасибо! Я всегда буду у вас в долгу.
Агна улыбнулась сквозь слезы.
— Помни, о чем мы с тобой говорили. Будь сильным и храбрым.
Мариус кивнул, и смущенно опустил глаза. Так говорить было немного легче.
— Спасибо вам и вашему мужу… я нехорошо себя вел, я… всегда буду помнить вас. И вашу доброту. Тогда, когда все другие, кроме мамы, считали меня… — Мариус посмотрел на Агну глазами, полными слез. — …Я буду сильным и смелым, как вы говорили мне!
Агна долго молчала и плакала. Когда боль стала меньше, она прошептала:
— Будет очень сложно, Мариус. Мне хотелось бы сказать тебе другое, но…
— Я все понимаю! Вы не думайте, — я не маленький! Я буду стараться, я буду сильным! И я всегда буду помнить то, что вы сделали для меня и моей мамы!
— А я всегда буду помнить тебя, Мариус. Если бы тогда ты не выскочил из-за угла на своем велосипеде…
— Если бы я мог, я убил бы его голыми руками!
Агна крепко обняла его и поцеловала в щеку.
— Не нужно. Просто живи. Я очень надеюсь, что ты будешь счастлив!
Раздался короткий стук в дверь, и на пороге импровизированной комнаты Мариуса показался Харри. При виде Кельнера мальчик резко выпрямился, подошел к нему, и отчеканил:
— Спасибо вам, герр Кельнер! Я всегда буду помнить то, что вы сделали для меня!
Мариус произнес слова так четко, что через секунду наверняка стал бы салютовать. Харри улыбнулся, и вытянул руку для рукопожатия.
— Я рад, что у нас получилось помочь тебе. Удачи, Мариус! И счастья. Но с тобой мы еще встретимся завтра, когда я буду вас провожать.
Харри подмигнул мальчишке и хитро улыбнулся.
— У меня к вам одна просьба, герр Кельнер, — по-прежнему серьезно сообщил мальчик.
— Слушаю.
Харри замолчал, ожидая его слов. Кельнер не наклонялся к Мариусу и не пытался чему-то его учить, — как взрослый поучает ребенка, — он просто ждал. И это отношение равенства и достоинства поразило мальчика до глубины души. Испугавшись, что сейчас снова расплачется, да еще перед Харри, Мариус быстро, горячо прошептал:
— Пожалуйста, герр Кельнер, берегите фрау Агну!
Харри с удивлением посмотрел на него. В его глазах Мариус заметил какое-то острое, печальное выражение, а потом Кельнер, похлопав его по плечу, сказал:
— Обещаю.
Так третий из пяти дней, которые сократились до четырех, подошел к концу.
* * *
Элис сидела на кровати, и наблюдала за тем, как Эдвард завязывает белый галстук-бабочку и надевает смокинг. Он выглядел так строго и был таким красивым, что сердце Эл дрогнуло от любви и боли. Отвернувшись, чтобы он не заметил ее слез, она посмотрела на платье, которое выбрала для сегодняшнего вечера: темно-синее, бархатное, с высоким вырезом на груди, по длине оно доходило Агне Кельнер чуть ниже колена, и на правом рукаве было украшено петелькой для среднего пальца, сделанной из тонкой золотой цепочки. По талии шла такая же цепочка, чуть более плотного плетения.
Эл погладила платье, и закрыла глаза, успокаивая волнение в груди. В эти дни она стала такой нервной и плаксивой, что сама себя не узнавала.
Элис списывала это на беспокойство, связанное с отъездом Кайлы, Дану и Мариуса, но вот Кайла, — если судить по тем задумчивым и беспокойным взглядам, которые она останавливала на Агне, — была иного мнения. Вслух они ни о чем не говорили, и Агна, думая об этом, поняла, что боится слов Кайлы.
— За ужином ты почти ничего не ела, — Эдвард посмотрел на Эл в зеркало.
— Не хочу, нет аппетита… — глухо ответила она. — Прости, не знаю, что со мной.
Она подошла к Милну, и крепко обняла его.
— Я очень счастлива с тобой, и я очень тебя люблю. Прости, что редко говорю об этом.
Эдвард удивленно молчал. Погладив Эл по волосам, он прошептал:
— Не редко, renardeau. Ты говорила об этом сегодня ночью.
Милн улыбнулся, но как-то невесело, чувствуя тревогу Эл. Подняв голову вверх, она посмотрела ему в глаза.
— Хочу, чтобы ты всегда это знал и помнил. Я бесконечно тебя люблю.
Милн поцеловал ее в кончик носа, и вгляделся в беспокойные глаза.
— Что с тобой?
Элис сильно вздрогнула, словно ей вдруг стало холодно.
— Я боюсь за тебя. Будь, пожалуйста, осторожен. И приезжай на вечер сразу же, как сможешь. Я буду очень тебя ждать.
Милн кивнул, крепче обнимая Эл.
— Я провожу Кайлу, Дану и Мариуса, и очень скоро приеду к тебе. Мы будем танцевать и пить шампанское. А потом сбежим с вечера и отправим в Центр разгромную шифровку.
Эл улыбнулась, погруженная в свои мысли, и поправила галстук Милна.
— Я буду ждать.
Вернувшись к кровати, она подхватила платье и ушла переодеваться, думая, что весь сегодняшний вечер похож на одно сплошное deja vu.
Фрэнк Фоули пришел, когда Харри Кельнер был уже в дверях. Переложив букет цветов из правой руки в левую, он пожал руку Харри.
— Добрый вечер, Фрэнк. Проходите, Агна сейчас спуститься.
Кельнер надел белый шарф, а за ним — черное пальто. На лестнице раздалась дробь шагов, и Агна быстро сбежала по лестнице вниз. Остановившись перед Харри, она приподнялась на носки, поцеловала его и снова остановила на лице Кельнера долгий взгляд.
— До скорой встречи, renardeau. Все будет так, как мы договорились.
Агна кивнула и погладила отвороты пальто Кельнера.
— Фрэнк, — шепнул Харри, наклоняясь к ней.
— Да, я помню.
Подойдя к Фоули, так и застывшему у входной двери с букетом цветов в руках, Агна протянула ему плотный конверт.
— Добрый вечер. Это вам.
Фрэнк посмотрел на сверток в руках Агны, и перевел взгляд на нее, а затем — на Харри. Взяв конверт, он протянул Агне букет цветов.
— Добрый вечер. А это — вам. Продавщица посоветовала завернуть цветы в бумагу, чтобы они не замерзли. Вы… замечательно выглядите.
— Благодарю.
Агна развернула плотную оберточную бумагу, и увидела, что под ней — небольшой букет темно-синих и фиолетовых фиалок.
— Спасибо, это неожиданно.
Девушка поднесла букет к лицу, вдохнула аромат цветов, и, уронив его на пол, убежала, зажав рот ладонью. Кельнер, ничего не понимая, пошел за ней. И наткнулся на закрытую дверь ванной комнаты.
— Агна! — он постучал в дверь. — Агна, открой! Что случилось?!
Дверь открылась через несколько минут. Агна, бледная, смущенно взглянула на него.
— Запах цветов… слишком резкий.
Кельнер с тревогой посмотрел на нее.
— Может, лучше…
— Нет, я не могу остаться дома. Надо идти. — Агна постаралась улыбнуться. — Не
беспокойся, все уже в порядке.
— Точно?
— Да, иди. Вам пора ехать. Кайла и Дану ждут тебя.
Харри постоял на месте, не желая уходить, и широким, быстрым шагом пошел в коридор. Агна медленно шла за ним.
— Я не могу это принять, — начал Фоули при виде Кельнера, возвращая ему конверт.
— Фрэнк, это всего лишь деньги. Те, которые вы потратили на паспорт для Дану. Берите.
— Нет, не возьму! — твердо заявил Фрэнк, с волнением глядя на вернувшуюся Агну. — Я это сделал не ради денег!
— Как хотите, Фоули. У меня нет времени вас уговаривать.
Фрэнк вернул конверт Агне.
— Вот… простите, я не знал, что цветы…
Агна посмотрела на сверток в руке Фоули и повернулась вправо, услышав шаги Кайлы и Дану.
— Мы готовы, — сказал Дану, поочередно глядя на Харри, Фрэнка и Агну.
Ее большие, зеленые глаза в сравнении с бледным лицом казались огромными. Девушка отошла в сторону, чтобы Кайле, — она была на втором триместре, — было удобнее собираться. Взглянув на Агну, державшуюся рукой за стену, Кайла испуганно шепнула:
— Вам плохо? Фрау Агна!
Агна, не имея ни желания, ни сил на фальшивую улыбку, посмотрела на Кайлу темными глазами. Они отошли в сторону.
— Вы беременны.
Уверенная в своей правоте, Кайла улыбнулась. Но Агна отрицательно покачала головой.
— Это обычная слабость. Нервы.
Кайла посмотрела на Агну как на ребенка, который сам не понимает, о чем говорит.
— Фрау Агна, вы беременны! Я наблюдала за вами, все признаки указывают на это!
От слов Кайлы Агну бросило в жар, и она раздраженно сказала:
— Я не могу. У меня не может быть детей, Кайла. Так сказал врач!
— Я тоже врач, пусть и не акушер-гинеколог, и я говорю вам: вы ждете ребенка!
Агна потрясенно посмотрела на Кайлу и замолчала. Она чувствовала, как заботливо ее обняли и зашептали какие-то радостные, теплые слова. «Должно быть, поздравления…» — отвлеченно, словно глядя на себя со стороны, подумала Эл. «Я беременна? У нас будет ребенок?». Эта мысль была такой громадной, потрясающей все, что казалось устоявшимися в ее жизни, во всем этом мире, что Элис застыла на месте без движения.
«Не может быть… не может этого быть! Тот врач повторил мне несколько раз… боже…».
— Фрау Агна, как я рада за вас! — Кайла поцеловала ее в щеку и улыбнулась сияющей, счастливой улыбкой. — Уверена, вы и герр Кельнер будете…
— Ничего ему не говори, Кайла. Прошу тебя. Никому не говори. Я сама. Когда буду уверена.
— Как я могу? Это только ваше дело, фрау Агна. — Кайла смахнула слезы с лица. — Но я уверена.
Девушка кивнула и внимательно посмотрела на Кайлу Кац.
— Я буду очень по тебе скучать! Спасибо тебе за все. Я никогда не забуду, как ты и Дану спасли нас.
— Вы сделали для нас гораздо больше!
Чувствуя приближающиеся слезы, Агна быстро прошептала:
— Пожалуйста, позаботьтесь о Мариусе. Он, конечно, не ваш сын, но…
— Мы не бросим его, фрау Агна.
— Да… — растерянно прошептала девушка, и вскрикнула, вспомнив то, что давно хотела сказать. — Обязательно поезжайте по тому адресу, который я вам назвала! Там не ждут гостей, но я знаю, что когда вы расскажете то, о чем мы говорили, вам помогут.
— Спасибо!
Кайла хотела улыбнуться, но от волнения у нее это не получилось.
— Мы когда-нибудь увидимся?
Элис почувствовала, как сердце обжигает жаром.
— Не знаю, Кайла. Берегите себя и будьте счастливы. Вы и ваш малыш…
Агна указала взглядом на живот Кайлы, а она, улыбаясь, хитро сказала:
— Вы тоже, фрау Агна. Вот увидите, я права.
Женщины вернулись в тот момент, когда Харри заканчивал инструктировать Фоули. Иначе это назвать было нельзя, — таким строгим и жестким было выражение лица Кельнера.
— Фрэнк, вы все запомнили? Оставьте ваш автомобиль здесь, в гараже, и поезжайте с Агной на «Опеле». Он легче, быстрее и лучше вашего «Фольксвагена». И прошу вас, будьте внимательны и аккуратны, не оставляйте Агну одну.
— Харри…
Пропустив возражение жены мимо ушей, Кельнер требовательно смотрел на Фоули в ожидании ответа.
— Я все сделаю, Харри, будьте уверены.
Кельнер всмотрелся в глаза Фоули, и кивнул.
— Спасибо!
— Зачем ты его пугаешь? На нем лица нет! — сказала Агна, когда Кельнер подошел к ней.
— Я должен проводить Кайлу, Дану и Мариуса, а Фоули я доверяю самое дорогое, что у меня есть. Так что пусть лучше боится, чем ведет себя беспечно, думая, что едет на обычный праздник.
Агна остановила взгляд на суровом лице Харри, и медленно улыбнулась.
— До скорой встречи, герр Кельнер.
* * *
На том они и расстались: Фоули, под пристальным взглядом Кельнера, сел за руль черного Opel Kadett, и вместе с Агной поехал на праздничный вечер, гремевший в тот день на главной Унтер-ден-Линден, а Харри, удостоверившись, что с Агной все в порядке, поехал вместе с Кайлой и Дану к дому Кете: они поедут на центральный вокзал Берлина сразу же, как заберут Мариуса. Эдвард был абсолютно спокоен в том, что касалось отъезда Кайлы, Мариуса и Дану, и все его волнение относилось только к Элис, и к тому, как пройдет этот вечер, который был не нужен никому, кроме супруги хромого министра.
Мариус вышел из дома сразу же, как только они подъехали. Он сел на заднее сидение, рядом с Кайлой, и тихо поздоровался со всеми. Харри сдал назад и выехал на главную дорогу. Теперь их путь почти на всем протяжении вел только по прямой.
Может быть, сосредоточенность Харри так подействовала на его пассажиров, а может быть каждый из них был слишком поглощен своими мыслями, но в машине на протяжении всего пути царила полная тишина. Она прервалась только тогда, когда перед глазами Харри, Дану, Кайлы и Мариуса предстал переполненный перрон берлинского железнодорожного вокзала. Людей было так много, что свободной земли под их ногами как будто не существовало.
Крики, мольбы, слезы, ругань и звонкие детские голоса, заглушенные взрослыми, — это человеческое море, которое через двадцать минут направят в сторону Голландии, а затем Великобритании, ничем не отличалось от других людских потоков. Кто-то не успевал к своему вагону, и бежал так быстро, что терял на ходу те немногие личные вещи, которые им было позволено взять с собой. Кто-то, крутя головой из стороны в сторону, искал своих, выкрикивая их имена в холодный воздух как можно громче.
Харри шел широким, четким шагом, — как таран, знающий только свою цель. В правой руке он крепко держал руку Мариуса, одновременно контролируя боковым зрением местонахождение Дану и Кайлы. Они почти бежали за ним, и Кельнер, помня, что Кайла беременна, вынужден был снижать скорость, а иногда и вовсе останавливаться.
К нужному вагону поезда они подошли за пятнадцать минут до времени отправления. Проводник в синей форме и форменном пальто шагнул им навстречу, салютуя нацистским приветствием, от которого трое из этих четырёх людей сбегали в Великобританию. Удерживая Мариуса за плечи, Кельнер остановился за его спиной, укрывая от толчков плотной толпы, и боковым зрением наблюдая за Кайлой и Дану, которые стояли слева от них. Харри передал документы на всех трех пассажиров, и стал ждать окончания кропотливой, во многом же просто унизительной проверки.
Мариуса осмотрели самым подробным образом, и, в конце концов, разворошив в небольшом чемодане те немногие вещи, которые отъезжающим можно было с собой взять, выдали ему две таблички, которые тут же прицепили на одежду: на груди был написан порядковый номер, — согласно списку пассажиров, а на спине — имя, «Мариус Кац».
Проверка документов Кайлы и Дану обошлась быстрее по времени и дороже по деньгам. По взгляду проводника Харри видел: он знает негласный статус этих двух пассажиров; знает, что за их выезд из Берлина уже заплачены немалые суммы. Знает, и… указательный и средний пальцы мужчины сложились вместе в подобие горсти. И Кельнер, беззвучно усмехнувшись, достал деньги, приготовленные заранее именно для этой цели.
Досмотрщик кивнул, и Харри едва не рассмеялся вслух его умелой пантомиме: лицо мужчины было таким спокойным и равнодушным, что каждый первый сказал бы вам, что деньги, — этот презренный металл, — его совершенно не интересуют. Наконец, раздался первый свисток, как сигнал к скорому отправлению поезда. Проводник, даже не взглянув на багаж Кайлы и Дану, быстро, — подгоняемый давлением толпы на свою спину, — выдал им таблички с именами и порядковыми номерами, и обратил свой пустой взор к тем, кто стоял в очереди за Харри.
— Ну… — выдохнул Кельнер в черное небо холодного, зимнего вечера.
Дану, сжав его руку, потряс ее в своих руках, и крепко обнял Харри. В его карих глазах, за границей нижних век, Кельнер заметил блестящую строчку слез. Кайла была более красноречива в проявлении своих чувств. Обнимая высокого Кельнера, она горько и тихо плакала, не смея поднять головы, и только часто вытирала слезы отрывистым, резким движением ладони. Кельнер обнял ее и замер без движения на несколько секунд.
В его памяти быстрой молнией сверкнуло воспоминание о том, как Кайла наклонилась к нему, упрашивая его отдать ей раненую Агну, которая тогда была без сознания. Харри тряхнул головой, отгоняя от себя тяжелые воспоминания. За одну эту помощь со стороны Кайлы и Дану он считал себя в неоплатном долгу перед ними. А сколько такой помощи было после… Эл тогда была сильно ранена и могла умереть. Прямо так, — у него на руках, на улице, среди громадного Берлина, забитого черными крючьями свастики и уже истекающего первой кровью… перед мысленным взором Эда показалось лицо его мамы: залитое кровью, с красными-красными волосами.
Руки Харри Кельнера, обнимающие Кайлу, задрожали, и он быстро вытянул их вниз, вдоль тела. Мариус попрощался с ним быстрее всех: пожав руку Харри, он всмотрелся в его яркие, голубые, глаза, переполненные затаенной горечью, и замолчал. Молчание длилось до последнего свистка, призывающего пассажиров пройти в вагон.
— Спасибо вам за все.
Мариус еще недолго посмотрел на Харри, и отвел глаза. Кельнер заметил, как дрожат его губы.
— Прощай. И будь счастлив.
Улыбка Харри Кельнера была последним воспоминанием, что Мариус забрал с собой из Берлина. В следующую минуту он уже сидел в поезде, рядом с Кайлой и Дану, и, покачиваясь на деревянной скамье с высокой спинкой, медленно уезжал из Столицы мира.
* * *
Молчание слишком затянулось для того, чтобы остаться просто паузой. Элис смотрела в окно, но ничего не видела, — она вспоминала прощание с Кайлой, Дану и… Эдвардом. Сердце похолодело при этой мысли, и она тяжело вздохнула.
Никогда прежде она так себя не чувствовала и не вела, — словно цеплялась за него, удерживая изо всех сил.
Элис поморщилась. Она терпеть это не могла, и никогда так не поступала, но в эти дни… необъяснимое ощущение чего-то неотвратимого только нарастало, постепенно, с каждым днем, затмевая собой все доводы рассудка. Внешние события говорили Эл о том, что вся ее долгая, мучительная тревога — напрасная выдумка, а сердце… было беспокойно и днем, и ночью. Самым гадким во всем этом было то, что все это были лишь ее ощущения, интуиция: и никаких реальных поводов, — уже существующие были не в счет, — для этой громадной, непонятной тревоги не существовало. Эл вспомнила слова Кайлы. «Вот увидите, я права». Мысль о том, что она беременна пугала ее. Раньше Элис, остро и затаенно переживая смерть малыша, отчаянно желала забеременеть снова, но потом, с течением времени, желание сменилось отчаянием, неверием и… четким убеждением в том, что она никогда не сможет иметь детей. Это осознание всегда причиняло ей боль, но Эл убедила себя, что отныне она будет с ней всегда, и значит, лучшим выходом из всей этой боли будет просто жить дальше. Хранить эту боль про себя и жить дальше, больше не питая себя пустыми надеждами. Но теперь, после слов Кайлы… она говорила так твердо, так убежденно, что… Элис почувствовала, как горло сводит судорогой, — ей так хотелось верить Кайле, так отчаянно хотелось верить! Но разум говорил Эл, чтобы она не смела поддаваться новой надежде, — собраться заново после нее будет очень сложно. И Эл смирила себя. Еще недолго полюбовавшись фразой «вы беременны!» со стороны, словно она была сказана не ей, а другой женщине, Элис перешла к другим мыслям.
Как все прошло? Получилось ли у Эдварда проводить Кайлу, Дану и Мариуса? Как они уехали? Смогут ли они в порту Харвич уйти незамеченными и поехать в Ливерпуль тем маршрутом, о котором Элис им рассказала? Хватит ли у них денег, которые они дали им в дорогу?… Вопросы, один за одним, кружились в мыслях Элис, и она ехала на вечер, сидя рядом с Фоули в новом «Опеле», совершенно не следя за дорогой.
— Приехали.
Фрэнк остановил автомобиль у черного входа в здание, в котором теперь расположился модный дом Гиббельс.
Агна, очнувшись от своих своих размышлений, удивленно посмотрела вокруг, и взглянула на Фрэнка.
— Герр Фоули, давайте договоримся сразу, — девушка сделала глубокий вдох, мысленно пообещав себе подбирать слова как можно аккуратнее. — Скажу честно: у меня нет желания быть на этом вечере в вашем сопровождении. Причину, думаю, вам объяснять не нужно. Но я обязана быть здесь именно в вашей компании. Поэтому прошу вас держать себя в руках, и… — Агна закрыла глаза и вздохнула, — …просто быть рядом. Если вы позволите себе что-то подобное тому поцелую, я отвечу вам самым резким образом. Я замужем, и я люблю своего мужа.
— Я все понимаю, фрау Кельнер. И снова прошу вас извинить меня за тот поцелуй, и за цветы, я не хотел…
— Вы извиняетесь искренне, или это только слова?
Агна повернулась к Фрэнку, внимательно рассматривая его лицо. Не выдержав ее взгляда, Фоули опустил глаза вниз и после долгого молчания вынужденно прошептал:
— За цветы мои извинения искренни.
— Но не за поцелуй, — жестко уточнила жена Кельнера.
— Но не за поцелуй, — согласился Фрэнк, и горячо добавил, — вы не можете запретить мне любить вас. Я знаю, вы никогда не будете моей, и я никогда не позволю себе причинить вам зло, но к поцелую мои извинения не относятся. Я хотел этого, я мечтал об этом.
Агна, не ожидавшая такой откровенности, изумленно посмотрела на Фоули, и приготовилась к новым объяснениям, но, увидев, с какой мучительной нежностью он смотрит на нее, окончательно смутилась и промолчала.
Накинув на плечо тонкую золотую цепочку вечерней сумочки, Агна Кельнер вышла из автомобиля, громко хлопнув дверью. Фрэнк подошел к девушке, и вытянул согнутую в локте правую руку в сторону. Не ответив на это приглашение, Агна пошла к центральным дверям, недоумевая над тем, зачем Фоули понадобилось оставлять «Опель» у черного хода. Спрашивать об этом вслух, ровно как и говорить с ним сверх самых необходимых фраз, Агна не собиралась. От морозного воздуха она почувствовала себя лучше, и надеялась, что вечер пройдет спокойно и благополучно. Фрэнк догнал ее, и теперь шел рядом, больше не предлагая ей… сопровождение. А Агне Кельнер отчаянно не хватало своего мужа.
* * *
— Фрау Кельнер, наконец-то вы пришли!
Магда Гиббельс пошла на Агну сразу же, стоило ей войти в большую залу, переполненную гостями, угощениями, официантами с шампанским и огромным множеством зажженных свечей. Зачем Гиббельс понадобились свечи, некстати соперничающие с электрическим светом в освещении душного зала, Агна не знала. Но первое впечатление было напрочь проиграно: желтые языки свечей, неудачно сочетаясь с огромными, яркими люстрами и светильниками, отдавали старостью, пылью и нафталином. Но не только свечи выглядели здесь, на «большом вечере», неуместно: оказалось, что и платье Агны — «слишком закрытое, чопорное и совсем некрасивое». Именно так выразилась Магда Гиббельс. И посмотрела на Агну зло и неприязненно, спрашивая ее взглядом холодных глаз, неужели во всем Берлине она не смогла найти платья получше? Фрау Кельнер улыбнулась как можно вежливее, и напомнила, что никаких указаний по внешнему виду выдано не было.
Это замечание только больше разозлило первую блондинку рейха, и, сверкнув глазами, она ушла к группе гостей, в которой дамы, судя по вырезам их платьев на груди и спине, были куда умнее Агны Кельнер.
Осторожно, под прикрытием бокала шампанского, осмотрев зал по кругу, Агна заметила в толпе Хайде. Его суетливая фигура металась от одного гостя к другому, и девушка, глядя на его хаотичные движения, поняла, что он не в себе. Но так, похоже, казалось только ей, потому что никто из присутствующих не обращал на Эриха, который выглядел как настоящий сумасшедший, никакого внимания. Хайде замер недалеко от Агны, а она, заметив его безумный, бегающий взгляд, почувствовала настоящий страх.
Не рассуждая, девушка повернулась к Фоули, занятому рассматриванием гостей у противоположной стены зала, и торопливо сказала:
— Потанцуем?
Вышколенный строгой отповедью Агны, произнесенной ею в салоне «Опеля», Фоули замер на месте, не смея двигаться. Вздохнув, Агна подошла к нему еще ближе, и сказала:
— Видите того мужчину? — она аккуратно указала взглядом на Хайде.
— Да.
— Надо потанцевать.
Фрэнк кивнул, и, предложив Агне руку, повел ее в центр зала. Над ними звучала незримая, классическая мелодия, которую исполнял живой оркестр.
Рука Фрэнка, не смея двинуться ниже, застыла на спине Агны. Девушка опустила ладонь на его плечо, и танец начался: официальный, церемонный и сбивчивый.
От слишком большого волнения, не в силах перестать смотреть на нее, Фрэнк вел Агну неуверенно и шатко. А она осматривала зал в поисках Хайде.
Он мелькнул снова всего один раз, — пробежал там, где до танца стояли Агна и Фрэнк, и снова скрылся среди гостей, занятый своим безумием.
«Он ищет Харри? Что он хочет? Или мне кажется?». Агна проследила за Эрихом до его исчезновения в толпе, и втянула душный воздух в легкие, тут же задохнувшись от обилия запахов, смешанных с сильной волной пота.
— Простите… — сжав рукой шею, сдавленно прошептала Агна.
— Что случилось? Вам плохо?
Не ответив, Агна выбежала из зала. К счастью, дамская комната нашлась довольно быстро, — за третьей дверью справа по длинному, гулкому от звенящего эхо, коридору.
Агна едва успела закрыть за собою дверь, как ее снова вырвало. Приступ длился дольше предыдущих, и спазмы в этот раз были гораздо сильнее. Выдержав несколько минут, и убедившись, что дурнота отступила, Агна подошла к раковине, вымыла руки, прополоскала рот, плеснула в лицо холодной водой, и застыла на месте, со страхом глядя на отражение Хайде в большом настенном зеркале. Развернувшись так быстро, как могла, она бросилась к двери, но Хайде, крепко зацепив девушку за плечо, вернул Агну назад и швырнул ее на пол.
— Сиди тихо, иначе не дождешься своего мужа!
Эрих размахнулся, но не ударил ее, — только оттащил, вцепившись в ворот платья, — который от этого начал душить Агну, — к высокой батарее. Больно ударившись, девушка застонала.
— Неприятно, правда? А представь как неприятно мне!
— Что вы хотите?
— Я мечтаю убить твоего мужа!
Хайде засмеялся, разглядывая девушку блестящими, безумными глазами.
— Мы дождемся Харри Кельнера вместе, я убью его, а потом подумаю что сделать с тобой!
— Нет! — громко крикнула Агна. — Помогите!
Сразу же после этих слов запертая дверь отлетела в сторону, и пуля, без сопровождения каких-либо слов, пробила грудь Хайде.
Эрих упал навзничь и захрипел, с ужасом глядя вверх, на подходившего к нему мужчину. Голова его, немного подрожав, не смогла повернуться в нужную сторону, и Хайде умер, так и не узнав, что его убил Герхард Зофт.
Агна, немая от ужаса, сидела на полу, прижавшись спиной к батарее, и молча смотрела на мертвого Хайде.
— Ну вот, дело сделано! Каждый выполнил свою роль.
Зофт подошел к Агне и поднял ее на ноги, с любопытством рассматривая глубину ее громадных глаз, наполненную каким-то невероятным сиянием.
— Я думала, это не вы… — прошептала девушка и потеряла сознание.
Зофт легко подхватил ее на руки, весело присвистнул, и вышел из дамской комнаты.
* * *
— Кто вы?
Агна всмотрелась в лицо мужчины, но не узнала его, и закрыла глаза, чтобы унять головокружение.
— Тот же вопрос я задаю себе относительно вас, фрау Кельнер.
Зофт сел на софу, обитую шелком, и замолчал, явно наслаждаясь и происходящим, и его неспешностью. Откинувшись на высокую спинку, он погладил светлый шелк бледного, едва желтого оттенка, и довольно улыбнулся. Затем взгляд его темно-серых глаз поднялся выше и остановился на Агне Кельнер.
Ее правое запястье, уже стертое тесным кольцом наручников, было надежно пристегнуто к спинке двуспальной кровати. Левая рука была свободна, и Герх считал, что это чертовски мило с его стороны, — оставить подобную свободу такой даме, как Агна Кельнер. Он не приводил ее в сознание насильно, — спешить ему было некуда, и вместо того, чтобы начать выбивать из девушки нужные ему ответы как можно скорее, Герхард заказал в эту комнату на последнем, третьем этаже «особняка на Кудамм», сохранившей и бывший до ремонта вид респектабельного гостиничного номера, и куполообразную, стеклянную крышу, роскошный ужин на двоих и несколько бутылок шампанского Dom Pérignon. Внизу, на первом этаже, гремел праздник по случаю открытия модного дома Гиббельс, и весь этот шум с пьяным хохотом и криками, смешанными с музыкой оркестра, как нельзя лучше подходил к мероприятию, организованному Зофтом здесь, в красивом номере некогда шикарной гостиницы Берлина.
Агна зашевелилась, снова приходя в себя, и с трудом посмотрела сначала направо, потом налево. Зофт знал, что она не притворяется, — ей и в самом деле было довольно паршиво. Но вот почему? Этот вопрос пока оставался открытым. Пользуясь моментом, он подошел к кровати и сел рядом с Агной, медленно изучая ее лицо и фигуру. То, на что он смотрел, нравилось ему, хотя он не мог сказать, что миниатюрные женщины привлекают его. Но в этой было такое любопытное сочетание дерзкой красоты и характера, что в какой-то момент Зофт понял, что он хочет поймать ее и долго-долго рассматривать.
Эти мысли вызвали на его лице улыбку, и Агна Кельнер громко сглотнула, глядя на него огромными, испуганными глазами. «Опять эта мертвая улыбка…» — подумала она, чувствуя, как все внутри сжимается от этой мысли.
Она попыталась сесть, но нога соскользнула по шелковому покрывалу, расшитому вручную роскошными цветами. Зофт потянул губы в новое подобие улыбки.
— Зачем вы убили Хайде? — спросила девушка, снова пробуя приподняться. О том, что она прикована к кровати, Эл думать себе запретила.
— Откуда вы его знаете?
Голос Зофта звучал вполне дружелюбно, словно он вел светскую беседу.
— Он участвовал в боксерском поединке с моим мужем. Потом допрашивал его.
Зофт изобразил на лице ужас и сожаление, хлопнул себя по коленям, и, подойдя к накрытому столику, откинул в сторону белую полотняную салфетку. Забросив в рот крупную ягоду темного винограда, он повернулся к Агне.
— Хотите?
При виде еды желудок Эл пошел громкими спазмами. Посмотрев на руку Зофта с зажатой в ней большой гроздью винограда, она отвернулась к высокому окну, за которым уже легла плотная, ночная тьма.
— Нет. Что вам нужно?
Герх ждал именно этого. Отрицания и несогласия. Что поделать, у его сегодняшней избранницы был скверный характер, и она почему-то считала, что может вот так грубо и резко говорить с мужчинами. Вернувшись к Агне, он снова сел на кровать, и поднес к ее губам виноград.
— Ешьте.
— Нет.
— Ешьте! Я хочу посмотреть!
Агна плотно сжала губы и отвернулась, но Зофт, схватив девушку, силой заставил ее открыть рот.
— Ешьте, Агна. Или мне называть вас «Элис»? «Элисон Эшби, сестра почившего от вашей же руки Стивена Эшби, соратника самого Освальда Мосли»?
— Я — Агна Кельнер, герр Зофт. Никакой Элисон Эшби я не знаю.
— Ну, это мы еще посмотрим, фрау Кельнер. В нашей сегодняшней встрече обязательно настанет момент, когда вы откровенно расскажете обо всем, что знаете. Но пока вы ешьте, не стесняйтесь. Хотите штрудель? Или куриную грудку под соусом болоньезе? Вы знаете, Грубер ужасный вегетарианец, а мне это совершенно не нравится. Я люблю вкусную еду.
Агна доела ягоду винограда, и смахнула слезу, бежавшую вниз по щеке.
— Что вы хотите?
— Для начала я хочу, чтобы вы поели. Впереди долгая ночь, а я не допускаю мысли, что банальный голод прервет наше веселье в самый неподходящий момент. К тому же, на вечере вы ничего не ели, и даже не выпили шампанского, — только покрутили бокал в руках.
Зофт еще говорил, любуясь своим собственным напускным изяществом, а Эл, смотря на него, уже решила, что Агна Кельнер не станет ему перечить. Ей нужно выиграть время, и постараться узнать, где она и как отсюда можно выбраться. Ищет ли ее Фоули? А Эдвард? Он уже приехал? Что с ним?
— Вы правы, герр Зофт, я очень хочу есть. Но мне нужно привести себя в порядок и помыть руки перед едой.
Последнее замечание, такое детское и невинное, развеселило Герха.
— Я позволю вам это, но только потому, что я очень давно не слышал, чтобы кто-нибудь здесь беспокоился о чистоте своих рук.
Зофт расстегнул кольцо наручника на запястье Агны.
— Идите. Через гостиную по коридору, первая дверь справа. Если задумаете звать на помощь, знайте: мы с вами находимся на самом верхнем этаже громадного здания, в котором гремит праздник фрау Гиббельс. Вас никто не услышит.
Выслушав эсесовца, который в этот вечер был одет в черный смокинг с черным галстуком-бабочкой, Агна, зашипев от боли, растерла правое запястье и поднялась с кровати. Чувствуя на себе пристальный взгляд Зофта, она молча прошла мимо него, но на выходе из спальни, повернувшись, спросила:
— Вы планируете спать со мной?
Зофт уставился на Агну Кельнер самым потрясенным взглядом, какой только могли позволить себе его мертвые глаза.
— Вы удивляете меня все больше и больше, фрау Кельнер. Я впервые наблюдаю, чтобы женщина была столь прямолинейна. Отвечаю на ваш вопрос «да». Я бы очень этого хотел.
Сохраняя спокойный тон, Агна пояснила:
— В таком случае мне понадобиться больше времени, чтобы привести себя в порядок.
— Не смею вам мешать.
Девушка кивнула, и медленно направилась в ванную комнату.
Дверь негромко скрипнула за ее спиной, и Эл, схватившись за край ванной, зажала рот рукой, удерживая рыдания. Слезы быстро сбегали вниз по щекам. Так прошло около двух минут. Зофт наверняка скоро придет проверить ее, нужно спешить.
Подняв голову вверх, она рассмотрела небольшое витражное окно. Круглое, с позолоченным замком слева, выполненное из матового стекла, в обычных обстоятельствах оно вызвало бы у Эл восхищение. Но сейчас девушка, больше не теряя ни секунды, стянула чулки, чтобы не поскользнуться на бортике ванной, над которой располагалось окно, и, встав на край, попыталась открыть окно. Защелка не поддалась, и ночное небо с редкой россыпью далеких звезд, бывшее за границей окна, безмолвно наблюдало за тщетными попытками Элис. А кроме него рядом с ней никого и ничего не было, да и быть не могло. Скользнув пальцами по кафелю, которым была выложена ванная комната, Элис спустилась вниз, осмотрелась, и, схватив непонятно как оказавшиеся здесь щипцы для колки льда, вернулась в окну. Витражное стекло было толстым, чуть выгнутым наружу, и Элис, крепко сжав щипцы в руке, развернула их вершиной к окну и начала бить в центральную точку стекла. Первые минуты, как она и думала, ничего, кроме приглушенного шума и впустую скользящих по стеклу щипцов, не получалось.
Стоя на бортике ванной, Эл оглянулась в поисках другого оружия, и с высоты увидела то, что не заметила раньше: кочерга для камина!
«Включи воду, ты забыла!» — закричал внутренний голос, поторапливая ее. Раскрутив кран на раковине, Эл снова полезла наверх, с облегчением слушая, как вода бежит в раковину шумным потоком. Немного отклонившись в сторону, чтобы не пораниться, она дважды неловко ударила кочергой по той же точке в центре стекла, и заметила на своих руках кровь. Быстро осмотрев пальцы и ладони, Элис провела рукой по кочерге, и глухо вскрикнула: кровь была на сгибе, в том месте, где плавный угол переходил в острое окончание. Помедлив секунду, Эл снова начала бить в стекло, уже с удвоенной силой. За шумом воды она расслышала скрип половиц, и остановилась, тяжело дыша. Бархатное платье вдруг оказалось душным и ужасно тяжелым.
Чтобы сбить жар и румянец, выступивший на щеках, Элис расстегнула высокий ворот платья и сделала глубокий вдох: дышать стало немного легче. Помедлив несколько секунд, она снова начала бить в стекло. Небольшие цветные осколки, отскакивая в разные стороны, рикошетом разлетались по комнате. Эл чувствовала, что устала, но продолжала бить, бить и бить, не взирая на дрожь в теле, головокружение, духоту и влажность от воды, и… понимание того, что эта попытка вряд ли окажется успешной. Собственно, именно эта мысль, помноженная на страх, заставляла ее продолжать.
Вот крупный осколок, гораздо больше всех предыдущих, отскочил в сторону, и, ударившись о борт ванной, упал вниз с гулким звоном. Эл остановилась, посмотрела на небольшую выбоину в стекле, и начала бить в ее центр, надеясь, что так шансов будет больше. За шумом воды, поглощенная своим занятием, Элис не услышала Зофта. Навалившись на дверь, он без особых усилий открыл ее, и Эл заметила эсесовца только тогда, когда дверная ручка с хрустальным набалдашником, громко ударившись о стену, разбилась вдребезги.
— Может быть, вам нужна помощь?
Зофт зашел в ванную комнату, прислонился к краю раковины, и, переведя насмешливый взгляд с девушки на воду, стекающую в раковину, закрыл кран. Элис посмотрела на него через плечо, удерживая кочергу двумя руками.
— Вы думаете, это поможет? Бросьте, Агна, я же сказал: звать на помощь бесполезно. Как и пытаться выбраться отсюда. Вы, конечно, миниатюрная, но даже вам вряд ли удалось бы пролезть в это окно. А до него еще нужно дотянуться, забраться наверх… а за ним что? Пустота и высота. Это бесполезно! Пойдемте лучше со мной. Мы поужинаем, поговорим…
Зофт протянул девушке руку.
— Не подходите!
Агна крепче сжала в руках свое оружие, чем вызвала у Зофта смех.
— Поистине, этот вечер не будет скучным! Я, признаюсь, такого не ожидал… тут так давно не было занятных женщин, фрау Кельнер. А те, что приходили, очень скоро готовы сделать все, что я хочу. Ну же, пойдемте. Вы устали, здесь душно…
Агна отрицательно покачала головой, и Зофт, двигаясь все так же медленно, как и прежде, приблизился к ней вплотную.
Его бедро коснулось ступни Агны, выставленной на бортик ванной. Он улыбнулся, и рука эсесовца, коснувшись пальцев на ноге девушки, неторопливо стала подниматься вверх, скользя по гладкой, обнаженной коже. Подняв подол ее платья, Зофт замер, и, чуть дрогнувшей рукой прикоснулся к внутренней стороне бедра Агны. И получил удар по голове. Застонав, он зажал рану, но тут же посмотрел на руку, залитую кровью, и заорал:
— Тварь!
Вывернув из онемевших рук Агны кочергу, он отшвырнул ее в угол, и навел на девушку пистолет со взведенным курком.
— Я хотел по-хорошему, но ты сама все испортила.
Агна Кельнер, смотря на дуло пистолета огромными глазами, сухо сглотнула. И перевела взгляд вниз. Зофт так и не узнал, о чем она тогда подумала, но в следующую секунду, рискуя быть застреленной, девушка схватила руку Зофта, в которой был пистолет, и, сжав ее изо всех сил, подняла выше, вынуждая эсесовца сделать выстрел. Пуля пролетела мимо Агны и попала в окно. Звон разбитого стекла и холодный ночной ветер вызвали у Агны страшную улыбку, и Зофт, размахнувшись, ударил ее по лицу. Агна упала в ванную.
— Я рад, что ты уже начала раздеваться, — с таким скверным поведением медлить дольше действительно не имеет смысла.
Агна посмотрела на Зофта со дна пустой ванны, и захохотала, показывая в смехе рот и зубы, измазанные кровью. И плюнула ему в лицо. Это стало последней каплей. Схватив девушку, эсесовец сорвал с нее расстегнутое платье, вытащил из ванной и потащил за собой.
* * *
— Как она «пропала»?
Кельнер остановился перед Фоули и снова нервно зашагал из стороны в сторону, проходя мимо автомобилей, припаркованных в ряд у черного хода. Фрэнк, вздохнув, повторил то же, о чем рассказал Харри уже дважды. Но Кельнер, по убеждению Фоули, был в таком бешенстве, что не слышал его.
— Я уже сказал, что Агна… фрау Кельнер заметила среди гостей какого-то мужчину, и сказала мне «надо потанцевать». Потом…
Харри остановился, и глядя прямо перед собой, в ночную темноту, тихо сказал:
— Если с ней что-то случится, я убью тебя.
Кельнер перевел взгляд на Фоули, и тот вздрогнул.
— Я… не думал, что существует реальная угроза… — говоря все тише к концу фразы, прошептал Фрэнк. — Простите, Харри, я… не принял ваше предупреждение всерьез.
Кельнер остановился, посмотрел по сторонам и подошел к Фрэнку.
— Я осматриваю первый этаж, вы — второй. Встречаемся у входа на третий, возле лестничного марша.
Фоули кивнул и испуганно посмотрел на Харри, заметив в его руке вальтер.
— Зачем?..
Не ответив, Харри поднял голову вверх, втянул воздух в легкие, и как следопыт, поймавший попутный ветер, быстро пошел вперед.
Посмотрев ему вслед, Фрэнк несколько секунд помялся на месте, и решил пройти на второй этаж с черного хода. Осмотр первого этажа мало что дал. Праздник разошелся в полную силу, и это было на руку Харри: необходимость замедлять скорость или, того хуже, вести светские беседы, чтобы не привлекать ненужное внимание пьяных и шумных людей, отпала. Все двери на первом этаже, кроме тех, что вели в женскую и мужскую уборные, были надежно заперты.
Но Кельнер все равно их осмотрел, и убедился, что эти двери никто, по крайней мере так, чтобы это осталось явным, не трогал.
Конечно, можно было усложнить свою задачу, и предположить, что за одной из этих дверей — Эл и тот, кто ее забрал. Но внимательный осмотр женской уборной убедил Харри в первых предположениях: все произошло здесь. Гильза и несколько капель крови, найденные Кельнером на полу, питая самые худшие страхи Харри, погнали его дальше, на третий этаж. Фоули уже был там. При виде блондина он покачал головой, давая понять, что на втором этаже ничего и никого нет. Выглянув из дверей, ведущих ко входу на этаж, Харри внимательно осмотрелся. Никаких голосов, музыки или смеха… ничего. Жестом указав Фоули идти налево, сам Кельнер посмотрел направо.
— Встречаемся на галерее.
Харри указал дулом пистолета в потолок, и, беззвучно шагая, пошел осматривать этаж по выбранной стороне. За одной из дверей он услышал какую-то возню, и схватился за ручку.
Заперто.
Отойдя назад, Кельнер навалился на дверь, одновременно с силой прокручивая ручку вправо. Дверь открылась и скрипнула, заверяя Харри, что у нее для него ничего нет. Проверив комнаты, оформленные как гостиничный номер старого образца, Харри шел к выходу, когда снова услышал приглушенные голоса. Остановившись, он прислушался. Сомнений не осталось: далекие, заглушенные расстоянием и перекрытиями, это были именно голоса. Мужской, — частый, и, насколько мог судить Кельнер, громкий, — и женский, совсем редкий, после которого мужской звучал еще громче. Подняв голову вверх, Харри продолжал слушать. Тишина была очень долгой. И когда после нее Кельнер расслышал удары, а за ними — глухие стоны, он сорвался с места.
Витражное стекло осыпалось к его ногам неожиданно, когда он, снова разделившись с Фоули, подходил к главному входу на галерею. Фрэнк, если не струсит, должен подойти к галерее со стороны небольшого зимнего сада. Смахнув стеклянную крошку с волос и шеи, Харри остановился и снова стал слушать. Ничего кроме холодного ветра и ночной темноты. Ветер рванул сквозь разбитое стекло, играя на новой, ранее скрытой от него территории. Просыпав еще немного битого стекла на плитку, которой был выложен пол галереи, он стих и перестал мучить холодом человека с белыми волосами, плавно шагающего к входной двери.
— Стесняться поздно, Элисон Эшби! Следовало бы сначала допросить тебя, но, я думаю, не ошибусь, если поменяю пункты своего плана местами. Что-то подсказывает мне, что так ты станешь гораздо сговорчивее, и все расскажешь сама!
Несколько минут назад Эл снова попыталась выбраться из номера, и даже успела добежать до двери. Но та оказалась надежно заперта, и теперь Зофт медленно шел на девушку, толкая ее к кровати, и с вожделением наблюдая за тем, как ненастоящая Агна Кельнер, на которой из одежды осталось только нижнее белье, послушно отходит назад, — шаг за шагом, — тем самым в точности выполняя его план.
— Кровь и ссадины, конечно, мало тебе идут. Но ты же сама меня вынудила, правда?
Не отвечая, Агна продолжала отходить к кровати. Она смотрела вниз, и чуть в сторону, наблюдая за своими босыми ногами и за шагами Зофта, глухо стучащими по ковру каблуками высоких, черных сапог. Эсесовцы ходили именно в таких, Агна Кельнер давно это знала, — с первого допроса в гестапо. «Делай, что хочешь, но молчи об Элисон и Эдварде!» — напомнила она сама себе. Слезы в ее глазах застыли у границы нижних век, и остановились за ненужностью, — сегодня было слишком больно, много больше того, что может выйти в слезах. Все тело Эл болело и ныло, а от новой, недавней пощечины, ее захлестнуло такой волной боли, что Элис была уверена, — она больше не выдержит. После всех тщетных попыток побега Элис впала в глубокую, непроницаемую задумчивость. Голова работала слишком медленно, и Эл больше не могла придумать ничего, что помогло бы ей сбежать от Зофта. Все прежние попытки оказались напрасными, а за каждой из них следовала боль и удары, удары и боль… И теперь, отходя к кровати, Эл мысленно говорила себе, — а на самом деле прощалась с собой, — зная, что даже если каким-то образом она останется в живых, прежней она уже не будет.
«Ничего не говори ему о себе и об Эдварде. Будет очень больно, Эл, но постарайся выдержать… я знаю, тебе очень страшно, и теперь ты уже боишься новых ударов Зофта, но… что же делать, renardeau?.. Приходит время уходить и прощаться, Эл… приходиться прощаться. Я знаю, ты хотела быть с Эдвардом долго-долго, «пока смерть не разлучит вас», но что делать… я знаю, ты очень хотела родить от него ребенка, и на самом деле, в самой глубине сердца, верила, что слова Кайлы — правда, и ты беременна, беременна, беременна!… Ничего не говори Зофту. Ты — Агна Кельнер, на этом — все.
Когда станет слишком больно — плачь. Я все равно буду знать, что ты не сдалась и не предала. Может быть, renardeau, это и есть самое главное во всей жизни? Ты любила и была любима. Это великое счастье, и я очень рада, что ты его испытала. А ваш малыш… у меня нет слов, что утешат тебя. Как знать, может не всем нам суждено узнать желанное нами счастье, но всем суждено что-то свое?… Все почти закончилось, Эл. Сейчас он изнасилует тебя. Ты будешь сопротивляться, я знаю, — потому что для тебя это одно из самых страшных… но когда станет слишком больно и страшно, когда станет невыносимо… прошу тебя, renardeau, найди способ закончить свою жизнь сама. Не умирай от его руки, умоляю тебя… когда станет невыносимо, сделай, пожалуйста, все сама…».
Агна коснулась изножья кровати, повернула голову, посмотрела через плечо, и выпрямилась, застывая перед Зофтом. Этот последний толчок, после которого девушка упала на кровать, доставил ему особое, жгучее удовольствие. Шелковая ткань кремовой сорочки, которая пока была на ней, поднялась от движения, обнажая ноги Агны полностью, по всей длине. Постояв над ней, Зофт заулыбался, и сделал так, как много раз видел в своих мечтах: раздвинув ноги Агны, он поставил колено между ними, и, ведя рукой снизу вверх — от тонкой правой щиколотки до бедра, тягуче медленно опускался вниз, на Агну, поглощая ее собой. Он все делал очень медленно. Не только потому, что торопиться было некуда, но и потому, что помимо тела Агны Кельнер он хотел ее душу. А душа эта, отраженная в ее удивительных, темных-темных глазах, его не желала. Чтобы понять это, не нужно было обладать громадным умом, — достаточно было посмотреть на выражение лица Агны, и на то, с какой гримасой отвращения и ненависти она отвернулась от него.
— Смотри на меня, когда я буду тебя брать… я хочу видеть в твоих глазах отражение каждого своего движения, каждого…
Девушка посмотрела на Зофта, и он замолчал, в ожидании глядя на нее. Кровь и ссадины, конечно, подпортили ее внешний вид, но он все еще хотел ее. Хотел впиться в эти полные, разбитые губы долгим поцелуем, и пить, пить, пить ее кровь… Агна Кельнер остановила на лице Зофта долгий, немигающий взгляд, медленно коснулась его щеки, а когда он закрыл глаза, она, подняв пальцы выше, к виску, вонзила длинные ногти в его кожу, и резко повела руку вниз, оставляя на лице Герха три глубоких борозды, которые наполнялись и исходили кровью сразу же, следуя за движением ее пальцев. Он ударил ее наотмашь, так сильно, что голова Агны, как тряпичная, замоталась из стороны в сторону. А потом девушка, раскрыв разбитые губы, снова плюнула ему в лицо, и ожгла таким яростным взглядом, что в гневе Герх выхватил пистолет из-за спины, и направил его на грудь Агны Кельнер. Он хотел дать ей последний шанс, — она еще могла попросить у него прощение, и он не стал бы нажимать на курок… По меньшей мере потому, что в эту секунду он уже сам был на мушке: чей-то пистолет холодной сталью дышал в его затылок.
Тот, кто держал пистолет, молчал.
Герх хотел заговорить, зная, что это лучше всего отвлекает противника, и повернул голову, но на том конце, где рукоять вальтера четко лежала в руке, были иного мнения. И Зофт, придушенный воротом собственной рубашки, отлетел к стене. Немного, — правда, совсем непонятно, почему, — отпружинив от нее, он остановился, удерживаемый рукой того же человека.
— Харри Кельнер!
Зофт поплыл в лице своей мертвой, страшной улыбкой и задохнулся от череды прицельных ударов. Кельнер не тратил времени и сил на слова. Озверевший до степени абсолютного молчания, он молча избивал Зофта, не давая ему времени ни на отдых, ни на удар, ни на возможность выставить защиту или сказать хотя бы слово. Харри был в такой ярости, что наверняка забил бы Зофта до смерти, если бы не Фоули. Фрэнк попытался остановить Кельнера, но он отбросил его назад и продолжил избивать эсесовца, который уже почти потерял сознание.
— Харри, остановитесь! Нужно идти! Агне нужна помощь!
Второе имя Эл, которое он, как и настоящее, все это время шептал про себя, когда звал ее и спрашивал, где она может быть, постепенно отрезвило Кельнера. Сделав еще один удар в тело, лежащее перед ним на полу, Харри подошел к Агне, застывшей на кровати в том же положении, — с раскинутыми в стороны руками, — и задохнулся от того, что увидел.
От природы кожа Эл была светлой, и следы многочисленных ударов Зофта выделялись на ней особенно, невыносимо четко. Эдвард смотрел на изуродованную кожу Элис так долго и пристально, что глаза зарезало от боли. Его тяжелый взгляд, отметивший каждую рану Эл и каждую деталь, со стороны выглядел еще более жутко: немигающий, и яростный, он словно хотел забрать все, что видел перед собой, — каждую рану Элис, каждую пролитую каплю ее крови, каждое ее страдание и слезу. Эдвард задрожал и на несколько секунд закрыл глаза. По его лицу побежали слезы, но он снова стал смотреть на ссадины и кровоподтеки. Все запоминая, его звериный взгляд медленно поднимался по телу Элисон вверх, подробно, до последней детали фиксируя каждый след, оставленный Зофтом на ее теле, следуя от кончиков пальцев — до волос, вьющихся на концах мягкими, сияющими кольцами.
Рассудок Милна помутился, кровь бешеным потоком забилась в голове, в горле, во всем теле. Он чувствовал, как его повело в сторону, когда он заглянул в лицо Эл. Разбитые губы, кровь, распухшее от ударов лицо… страшнее всего были ее глаза. Темно-зеленые, в полумраке комнаты, окруженной давно наступившей в Берлине ночью, они показались Эдварду совершенно черными. В них не было слез. А высохшие следы тех, что были, оставили на щеках Эл тонкие, длинные дорожки. Смешанные с кровью на щеках и висках, они страшно выделялись на ее лице. Взгляд Эл был устремлен вверх, но глаза ее смотрели в недосягаемую никому другому даль, не обращая внимания на то, что происходит вокруг. Губы, сухие и чуть раскрытые, шептали что-то неслышное. Вернувшись в реальность, Кельнер подошел к жене. Обняв ее, он наклонился к самому лицу девушки, и зашептал:
— Агна! Агна! Это я, Харри!
Эл не реагировала, продолжая смотреть вверх.
— Агна, это Харри! Все хорошо, теперь все хорошо!
— Она не слышит вас, Харри… нужно уходить, — повторил Фрэнк громче, и отвел в сторону взгляд, полный боли и сочувствия.
Что-то остановило Фрэнка на полпути, и он, вернувшись взглядом к Кельнеру, потрясенно замолчал.
— В-в-вы…— начал он, и замолчал: горло свело внезапной судорогой. — Ваша рука!
Кельнер, не понимая, посмотрел на него, перевел взгляд ниже, и увидел, что его левая рука, неестественно выгнутая, повисла плетью вдоль тела. «Доломал… адреналин, один из гормонов стресса» — подумал Эдвард, и усмехнулся. Боли он не чувствовал, и если бы не слова Фоули, заметил бы перелом еще позже.
— Так бывает… — медленно проговорил Харри и замолчал.
Фоули попятился и, отвернувшись от Кельнера, направил пистолет на Зофта. Но Герх, чуть-чуть не забитый до смерти, давно не двигался и вряд ли нуждался сейчас в таком наблюдении.
Поправив волосы Агны, Харри кивнул, и, продолжая смотреть на нее, тихо сказал:
— Вы поможете мне, Фоули? Подождите меня с Агной в машине. Я закончу здесь, и скоро приду.
Харри поднялся с кровати, осмотрелся по сторонам, и, не найдя платье, в котором была Агна, бережно завернул ее в покрывало, взял на руки и пошел к выходу через галерею. О том, как он все это делал с обвисшей, сломанной рукой, Фоули не хотел даже думать. С сожалением отведя от Зофта пистолет, Фрэнк последовал за Кельнером. Они спустились вниз молча, по широким ступеням изящно витой, мраморной лестницы, которая располагалась недалеко от того места возле черного хода, где были припаркованы обе машины Кельнеров: «Хорьх», на котором приехал Харри и Opel Kadett, который привез сюда Фоули и Агну.
Дождавшись Фрэнка, Харри передал ему Агну, и, подогнав «Хорьх» к подъездной дороге, вернулся к ним. Агна снова была с ним, у него на руках. Бережно поцеловав ее, он и Фрэнк вернулись к автомобилю. Следуя молчаливой просьбе Харри, Фоули сел на заднее сидение.
— Сидите тихо и ждите меня. Я скоро.
С этими словами он положил девушку рядом с Фрэнком, снял пальто, укрыл им Агну, и, тихо закрыв дверь «Хорьха», побежал к лестнице.
Оставшись с Агной, первые минуты Фрэнк сидел молча, почти не двигаясь. Судя по звукам, доносившимся из особняка, несколько лет назад построенного Шпеером, веселье было в самом разгаре. Сглотнув, Фоули не сразу решился посмотреть на девушку. Но все-таки сделал это. И от прямого взгляда, устремленного на нее, его желудок скрутило спазмами. Она молчала, по-прежнему пребывая в своем невидимом мире, и Фоули, который впервые за все это время осмелился посмотреть в ее глаза, заплакал.
* * *
Убийство Герхарда Зофта не заняло у Кельнера много времени. Вернувшись, Харри обошел гостиничный номер, внимательно осмотрел каждую из трех комнат, забрал платье Агны, брошенное на пол в коридоре, задержался взглядом на крови, которая была в ванной комнате повсюду, и пробитом пулей стекле витражного окна, и подошел к эсесовцу. Теперь понять, что это был сотрудник элитного подразделения, некогда основанного Гиллером, было очень сложно или почти невозможно. Ничто из того, что раньше было лицом Герха, больше его не напоминало. Каким-то образом из кровавого месива засветились глаза Зофта. Они долго изучали Кельнера и откровенно смеялись над ним, над его искаженным болью и ненавистью лицом.
— Вам не ск… скрыться, Кельнер. Ваш дом уже обыскали, у меня есть все доказательства того, что вы ш-ш-ш-ш… — зашелестел Зофт, то сплевывая на ковер, то сглатывая собственную кровь, перемешанную со слюной.
Приподняв голову эсесовца за волосы, Харри уточнил:
— Где доказательства?
Глаза Герха, почти полностью заплывшие, опять засмеялись. Уронив голову на ковер, он попробовал пошевелиться.
— Эрих Хайде был п-п-прав… я ему долго не верил… д-д-дурак… думал, он следит за мной, а он следил за вами… только у него ничего, кроме п-п-п…подозрений, а я все нашел! Но он п-п-п… привел меня к твоей жене, и я убил его, когда он выполнил свою роль.
Голова Зофта дернулась вверх. Не сумев удержать взгляд, он посмотрел прямо, на картину Дюрера.
— «Венецианская девушка»… как тебе, Кельнер? Вывезена прямо из Вены, из одного д-д-дома... — Эсесовец замолчал, собираясь с силами. — Но ты смотри, смотри… твою я…
Оставив Зофта, Харри подошел к знаменитой картине Альбрехта Дюрера. На первый, очень беглый взгляд, перед ним был оригинал. Прикрепленный к стене правой гранью рамы, он открылся перед Кельнером как перевернутая книга, слева направо. За бархатно-черным основанием рамы оказался сейф с кодовым замком. Не теряя времени на тщетные попытки подобрать комбинацию, Харри вернулся к Зофту.
— Код? — присев перед ним, уточнил Кельнер.
Зофт улыбнулся кровавой усмешкой, которая, правда, теперь уже не доставляла ему удовольствия потому, что это была не усмешка Агны Кельнер, а его собственная.
— Ты будешь долго гадать… ты можешь бить меня, и я скажу тебе, но где гарантия, что это будет верно? А стимула говорить правду у меня нет, ведь т-т-ы не выпустишь меня… по глазам вижу… не выпустишь…— шептал эсесовец. — А пока так… твоя сука сдохнет и вас найдут.
Кельнер выпрямился и посмотрел на Зофта сверху вниз. В одном эсесовец был прав: если Харри будет спрашивать его, то наверняка провозится слишком долго, а времени у него нет. Задумавшись, Кельнер оглянулся на сейф. Его мозг, взбудораженный всем происходящим, работал как безумный, и какое-то предчувствие, которое пока он не мог распознать, снова и снова напоминало о себе… «здесь все может быть либо очень сложно, либо очень легко, до абсурда… до абсурда!», — подумал Харри, отчего-то вспоминая историю о том, как Гиллер, бредивший тем, чтобы его «элитные» войска СС состояли только лишь из атлетически сложенных блондинов с голубыми глазами, увидев как-то на улице подобного мужчину, который был абсолютным воплощением грезы близорукого и мелкого Генриха, потребовал остановить машину и привести объект своих мечтаний к нему. Мужчину привели, опросили, отметили. Затем, воплощая мечту Гиллера, сделали эсесовцем без каких-либо проверок и экзаменов, а затем… — тут Харри всегда смеялся, вспоминая об этом, — оказалось, причем очень скоро, что новый образцовый воин великой Германии, — никто иной, как сутенер и преступник, ранее судимый за изнасилования.
Посмотрев на сейф, Харри перевел взгляд на Зофта, и, улыбнувшись ему, шепнул:
— Смотри.
Сейф открылся с первого раза, с готовностью показывая Кельнеру все, что в нем было: папки с личными делами Агны и Харри Кельнер, которые велись с 15 февраля 1933 года, — дня их свадьбы и первого дня в Берлине, фотографии, свидетельствовавшие о том, что за Агной долго и подробно следили, отчеты о местонахождении и действиях фрау Кельнер… Быстро просмотрев дела, Харри захлопнул папки, забрав все, что было в сейфе. Повернув картину Дюрера к стене, Кельнер снова подошел к Зофту.
— Ну, что скажешь, Герхард Пауль Зофт, неудавшийся страховой агент и сотрудник гестапо?
— Не думал, что догадаешься…
— Это было несложно, Зофт. В своем поклонении уродству вы и сами стали изрядными уродами. Но сделать день рождения Грубера кодом для сейфа…
Зофт облизал губы.
— Мои псы все равно вас найдут, найдут везде, куда бы вы не сбежали…
Харри, улыбаясь, согласился.
— Я давно знаю, что вы охотитесь за своими врагами далеко за пределами Германии. Буду иметь ввиду.
Став серьезным, Кельнер сказал:
— За каждое страдание моей жены.
Пуля, выскочив из пистолета, разворотила висок Зофта и, прошив его голову насквозь, вышла с другой стороны черепа Герхарда Пауля. Сотрудник тайной полиции, бравый эсесовец, умер мгновенно, уставившись своими оловянными, раскрытыми глазами в высокий белый потолок гостиничного номера. Тщательно протерев «Вальтер», Харри вложил его в раскрытую руку Зофта, еще раз убедился, что Герх мертв, и, взяв документы, вышел прежней тропой, — через галерею.
* * *
— К-к-куда вы теперь? — испуганный новостью о том, что тело мертвого Зофта осталось в номере, а за Агной и Харри ведется охота, спросил Фоули.
Кельнер пожал плечами и поднес к губам Агны фляжку с водой. Сделав пару глотков, она посмотрела на мужа и закрыла глаза. Погладив девушку по волосам, Харри наклонился и поцеловал ее.
— Спасибо за помощь, Фрэнк. Вы мне очень помогли, — тихо сказал Харри, задумчиво осматривая пустую загородную трассу, на обочине которой был припаркован «Хорьх», а за ним — «Опель».
— Берите «Опель». Он абсолютно новый, мы только недавно купили его для Агны.
Кельнер снова замолчал, и тихо сказал после долгой паузы, глядя на жену.
— Я знаю, вы ее любите.
— Я…
— Поэтому я и просил вас быть с ней на вечере. Спасибо, что берегли Агну.
— Плохо, плохо берег! — закричал Фрэнк, ударяя рукой по рулю.
Успокоившись, он спросил:
— Могу я еще вам помочь?
Харри отрицательно покачал головой.
— Возвращайтесь в Берлин и живите как обычно. Но будьте аккуратны: ваше общение с нами могут раскрыть, если уже не раскрыли, и… прошу вас, помогите Кете.
Фоули кивнул.
— Я знаю, как отвязаться от них, Харри. Я — разведчик. — Фрэнк посмотрел на Кельнера в зеркало заднего вида. — Ми-6.
Горькая, кривая усмешка показалась на усталом лице Кельнера. Коротко взглянув на Фоули, он снова обратился взглядом к лицу Агны, продолжая гладить ее мягкие, мягкие волосы.
— Прощайте, Фрэнк.
Фоули вздрогнул. Резко повернувшись к Кельнеру и Агне, он посмотрел на девушку.
— Я никогда, ни за что не причинил бы ей вред! Если бы я знал, если бы я только знал!
В машине снова повисла долгая пауза.
— Я знаю, что не имею этого права… но вы могли бы сообщить мне о состоянии Агны?
— Да.
— Благодарю.
Помедлив, Фрэнк резко открыл дверь «Хорьха» и почти выбежал из автомобиля. Он долго стоял возле «Опеля» даже после того, как Харри Кельнер, со всеми возможными удобствами устроив на заднем сидении Агну, пересел на место водителя, развернул машину и повел ее к выезду из Берлина.
* * *
— Вашей супруге нужен хороший уход, мсье Бенуа. Я рекомендую оставить ее в нашей больнице на неделю.
Главный врач парижской клиники «Отель-Дье» посмотрел на высокого блондина, молчаливо застывшего у окна, и задал тот вопрос, который терзал его уже несколько дней. — Почему вы так сильно затянули с визитом к врачу? Я не имею ввиду, что вы должны были привезти ее именно к нам, хотя наша клиника является старейшей во всей Франции, но… полученные ушибы и гематомы, трещины в ребрах… — доктор Фабр надул щеки, — в конце концов, беременность, — это вам не шутки!
— Уверяю вас, доктор, я приехал сюда так быстро, как только…
Последняя фраза Фабра, пробившись сквозь мрачную задумчивость мсье Бенуа, наконец-то дошла до него.
— Какая беременность? Что вы сказали?
Старый седой доктор, который выглядел так, будто работал в этой больнице с первого дня ее основания в тысяча шестьсот пятьдесят первом году, сочувственно хмыкнул.
Он не знал об этом Бенуа ничего, — кроме тех скупых сведений, что тот сам решил о себе сообщить, — но почему-то, по совершенно необъяснимой причине, каждый раз, смотря на него, доктор Франсуа Фабр очень сочувствовал ему. Блондин оглянулся на врача, врезая в его морщинистое лицо требовательный взгляд голубых, острых глаз, и отошел от окна, немного задев на повороте стекло левой рукой. Это не было неуклюжестью, но лишь подтверждало давние наблюдения Фабра: в первые дни после получения серьезных травм или, — как в случае Бенуа, — наложения гипса на сломанную руку, пациенты, несмотря на испытываемые ими боль и неудобства, часто забывают о травме и продолжают двигаться так же, как раньше. Отсюда — разбитая посуда, ушибы и прочие, не слишком приятные, ситуации.
— Ваша жена, мсье Бенуа, — Фабр развел руками, — беременна. Самый ранний срок. Опасность для ребенка была, но, к счастью, миновала...
Блондин выбежал из кабинета главного врача и сбежал по лестнице вниз. Едва не сбив по пути двух медсестер, и дополнительно прибив о косяк руку в гипсе, которую, как подтвердили здесь, в «Отель-Дьё», он все-таки доломал до конца тогда, когда избивал Зофта, Бенуа, покачиваясь и задыхаясь, остановился на пороге палаты, в которой лежала Эл. От звука распахнутой двери, ударившейся о стену, она проснулась, и, медленно поворачивая голову, посмотрела по сторонам. Заметив Эдварда, Элис улыбнулась и тут же поморщилась от боли.
— Доброе… — начала она и остановилась, — не знаю, сколько сейчас времени? Утро или день?
Эд зашел в палату, плотно закрыл за собою дверь, и подошел к Элис.
— Почти полдень, renardeau, — шепнул он, рассматривая ее лицо.
От ласкового слова, которым Эдвард называл ее, на глаза Элис выступили слезы. Она отвернулась к окну.
— Что такое? Где болит?
— Я… думала, что больше не услышу это, — с трудом проговорила она, — я думала…
Милн обошел кровать, и сел в кресло, в котором проводил все ночи, пока Элис была в больнице.
Наклонившись к ней близко-близко, он прошептал дрогнувшим голосом:
— Услышишь, Эл. Еще много-много раз.
Из глаз Элис снова побежали слезы. Милн бережно стер их кончиками пальцев и улыбнулся.
— У меня для тебя новость, Элисон Эшби.
— Какая?
— У нас будет ребенок. — Милн замолчал, пробуя слова, словно сам не верил в то, что сейчас говорил. — Ты беременна, Эл. Доктор только что сказал мне.
— Но… — начала Элисон, и тут в ее памяти возникли слова Кайлы: «вот увидите, я права!», — …это правда?
Милн кивнул.
— Разве ты не знала?
Элис усмехнулась.
— Прости… так глупо! Кайла сказала мне о том, что я беременна в тот вечер, когда… когда… ты провожал их, а я поехала с Фоули на тот вечер.
Эл закрыла глаза и сделала глубокий вдох, отгоняя страшные, на мгновение мелькнувшие в памяти, воспоминания о Зофте.
— Но я не поверила ей, я… запретила себе думать о том, что… боже…
Закрыв лицо ладонями, Элис заплакала.
— Тише, тише, моя любовь. Все хорошо. У нас будет ребенок, мальчик или девочка… все хорошо.
Эл обняла Милна и долго молчала.
— Я сама хотела сказать тебе… когда бы я убедилась, я сказала бы тебе сама.
— Скажи, Эл, — почти беззвучно, севшим голосом шепнул Милн. — Скажи сама.
Набрав в грудь воздуха, Элис произнесла:
— Эдвард, я беременна. У нас будет ребенок.
От этих слов она задрожала, и Милн обнял Эл еще крепче. Плавно раскачивая, он стал утешать боль Элис, их общую, большую боль.
Очень долго они молчали, привыкая к громадной перемене в их общей жизни.
— Ты рад?
Эл посмотрела в глаза Эдварда.
— Как никто, — хрипло сказал он, нежно целуя ее щеки, глаза, разбитые губы, углы губ, курносый кончик носа и след на левом виске, когда-то оставленный пулей Стивена Эшби.
* * *
— «Мсье Бенуа»? — спросила Эл, осторожно улыбаясь. Она взяла Эдварда под руку, и, положив на его плечо левую руку, прижалась к нему и сделала небольшой, еще не слишком уверенный шаг.
Сегодня, после пяти дней в одиночной, замкнутой палате, ей наконец-то разрешили ненадолго выйти на воздух. Эдвард, выполняя требование врача, настаивал на том, чтобы провезти Эл по галерее и саду больницы в инвалидном кресле, но она, молча посмотрев на его загипсованную руку, лишь приподняла бровь, молча спрашивая, как он планирует осуществить этот причудливый вояж? В конце концов, на них махнули руками и отпустили гулять так, — медленными фигурами по парковым аллеям и переходам.
— Это девичья фамилия моей мамы, — тихо сказал Милн, разглядывая яркое, синее небо в белых облаках. — Она не связана с разведкой и моими прошлыми заданиями… может быть, даже сам Баве ее не знает…
— Твоя мама… — зачарованно произнесла Эл. — Ты никогда не говорил о ней. Как ее зовут?
Эдвард остановился и замолчал, глядя себе под ноги. Все эти дни он держался как мог, но, не переставая вспоминать рассказанное Эл о том вечере, приходил в такое бешенство, что сдерживаться становилось все сложнее. Вот и сейчас от простого вопроса Элис его память пронзил яркий, солнечный день. Дядя, сообщивший о гибели родителей… загородная дорога — вся в крови, как светлые волосы его мамы… Произнести ее имя вслух не получалось. Из раскрытого рта Эдварда вылетала только немота. И земля под ногами перестала быть твердой. На миг ему показалось, что он — все тот же, — нескладный мальчишка со слишком длинными руками и ногами, застывший в тишине пустой дороги. Он все знает, но боится думать об этом. «Травмы, несовместимые с жизнью» — так говорят врачи о его погибших родителях. Так он сам говорил о каком-нибудь очередном случае, когда учился в Гайдельберге на медицинском, — целую жизнь и вечность назад. Но он смог. Смог совместить свои травмы с жизнью… тогда почему сейчас так больно? Так невыносимо, ужасно больно?... И Эл, испытавшая всего несколько дней назад весь этот ужас, вздрагивающая по ночам от любого шороха, и бормочущая во сне одну и ту же фразу, — «Харри, я была против, я была против…», — смотрит на него сейчас своими небесными глазами, гладит по волосам и называет по имени.
— Мадлен, — еле шепчет он и замолкает: Эдвард Милн и так сказал уже слишком много.
Так нельзя, не нужно. Это никому не интересно, и ты должен быть сильным… ты должен молчать! Но вот с ним, сильным, сейчас что-то случилось, и, обнимая Элис до боли, он плачет.
* * *
В больнице «Отель-Дье» они пробыли еще два дня. И все это время Элис и Эдвард говорили. С краткими, раздражающими Эл перерывами на лечение, сон и еду.
А еще больше они молчали. Эдвард рассказал Элис о родителях, — Мадлен и Элтоне Милн. Рассказал скупо, потому что был уверен, что все это ей тоже не нужно, как не было нужно никому и никогда до нее.
Но Эдвард ошибся.
Элис был нужен он. Весь он, со всей его громадной, кровоточащей болью. Эл не испугалась и не убежала от нее: только внимательно слушала, много плакала, и задавала редкие вопросы, слова для которых подбирала очень долго, — чтобы не ранить Эдварда еще больше. Эд был ошеломлен и долго не верил в происходящее с ним. Все это внимание и тепло, вся эта невыразимая нежность, от которой становится только больнее, все эти слезы о его боли — для него? Он нужен? Он важен? Эдвард даже спросил об этом Эл, уже не боясь показаться самым глупым на свете. Элис улыбнулась, обняла его и сказала очень просто:
— Я люблю тебя.
* * *
— Я не могу, не могу отпустить вас из разведки! Это немыслимо! — бушевал Рид Баве в своем лондонском кабинете в Форрин-офис.
Пройдясь по кабинету еще пару раз, он повернулся к Милну и сказал, что тот сошел с ума.
— Будет война! Вы понимаете, как вы нам нужны?!
Эдвард проводил взглядом взбесившегося начальника, который отказался подписывать их заявления об увольнении, и повторил:
— Вы можете не подписывать заявления и не принять наши отставки, но это ничего не меняет. Я и Элисон уходим из разведки.
— Нет! Подумайте еще раз, снова! — орал Баве, не смущая себя в громкости.
— Уже.
Милн поднялся со стула и пошел к двери.
— Неужели вам наплевать на судьбу своей страны?! — обратился Баве к нерушимому аргументу.
— Нет. Вернуться в Германию мы не можем, вы это знаете. И своей стране, как вы выразились, мы поможем здесь, в Лондоне, если возникнет такая необходимость. А сейчас, — Милн всерьез намеревался уйти, даже взялся за дверную ручку, — я нужен своей жене. Она и так отдала слишком много для проверки вашей гипотезы о том, как хорошо сработает Агна Кельнер в роли приманки.
— Но это сработало! И она вам не жена! — возразил Баве.
— И правда.
Милн улыбнулся, и это взбесило генерала еще больше. Не в силах больше вести с ним пустые перепалки, Баве махнул рукой, приказывая ему покинуть свой кабинет.
* * *
Выйдя от Баве, Милн свернул к магазину. Пробыл он там недолго, всего около семи минут, и только потому, что перед ним было несколько покупателей. Дальше его путь лежал на Клот-Фейр-стрит, — в двухэтажную квартиру, которой владела Элисон Эшби. Эти апартаменты казались ему не слишком подходящими для мелкого Милна, который, конечно, еще не родился, но которого он с нетерпением ждал. Эл была в этом отношении более сдержанна, и не раз, после очередного приступа токсикоза, говорила ему, что если бы все эти прелести происходили с ним, он бы вряд ли радовался как мальчишка встрече с… мальчишкой. Правда, после этих слов на лице Элис расцветала улыбка, так что вся ее грозность тут же терялась.
— Что сказал Баве? — Эл не без оснований думала, что генерал не примет их отставку.
— Сказал, что нужно кое-что исправить. Но я это знал и без него, просто ждал подходящего момента, — ответил Эд с улыбкой.
— Что исправить? Снова Берлин? Это невозможно!
Элис со страхом посмотрела на Милна.
— Нет, не Берлин, — с лукавой улыбкой ответил Эдвард, вытаскивая из кармана свою покупку и задерживая ее в руке. — Лондон. В новом качестве.
— Ничего не понимаю, Эд! Говори точнее!
Милн выпрямил и без того прямую спину, расправил плечи и посмотрел на Элис сверху вниз. Глаза его светились шуткой и теплом. Не сумев выдержать до конца мистическую паузу, он протянул Эл в едва дрожащих пальцах раскрытый черный футляр.
— Элисон Эшби, ты выйдешь за меня?
От удивления ее зеленые глаза стали еще больше. Взглянув на кольцо, выполненное в ее любимом стиле ар-деко, Элис посмотрела на Милна.
— Эдвард Милн, я замужем за тобой с тысяча девятьсот тридцать третьего года!
Эл улыбнулась, поднялась на носки, и поцеловала Эдварда в щеку.
— Да. Конечно, да.
Этой же ночью, когда Эл уже спала, из передатчика, который Эдвард «забыл» отдать в Форрин-офис, в Берлин, по закрытому каналу связи, улетела краткая шифровка, которая гласила, что с Элисон Эшби все хорошо. Фоули, который толком не спал уже бог знает какую ночь, принял сообщение, и уставился на лист с расшифровкой удивленными, измученными бессонницей, глазами. До его мозга, пропитанного кофе и сигаретами, смысл послания доходил довольно долго. Но в этом его вряд ли можно было строго судить. В конце концов, он не знал никакой «Элисон Эшби».
— Фрэнк, ты дурак, — спокойно констатировал Фоули через несколько минут, когда ему наконец-то стал понятен смысл фразы. — Но все хорошо.
И все действительно было хорошо. Несмотря на то, что Берлин пока продолжал оставаться нацистским. Фоули работал в английском консульстве до окончания войны, и помог, — помня о Мариусе, Кайле и Дану, — многим евреям избежать смерти и концлагерей. В этом немалую роль сыграла Кете Розенхайм. Несколько раз она, сопровождая детей по программе «Киндертранспорт», — которая первого сентября тысяча девятьсот тридцать девятого года еще действовала, — могла спастись и остаться в Великобритании. Но Кете снова и снова возвращалась в Берлин, и вместе с мамой бежала из него только тогда, когда ей самой грозила явная смертельная опасность.
Ханна Томас, чья семейная жизнь не удалась, развелась с мужем, и снова стала фройляйн Ланг. Работу в больнице лагеря Дахау она оставила в тот же день, в который Харри Кельнер забрал Дану Кац. Что стало с Ханной дальше — неизвестно. Следы ее то терялись, то снова появлялись то в Германии, то в Австрии. Ходили слухи, что после развода, чрезвычайно отчего-то печальная, она выглядела особенно прекрасной, и снискала еще больший, нежели прежде, успех у настоящих арийцев.
Мариус, Кайла и Дану Кац благополучно добрались до Ливерпуля. Дверь двухэтажного уютного дома им открыла Кэтлин Финн.
И если из загадочной фразы, которую Агна Кельнер попросила Кайлу передать ей на словах, сами путешественники ничего не поняли, то ее тетя услышала в этих словах просьбу позаботиться о гостях. Так Кэтлин, которая уже очень давно не получала от своей племянницы никаких новостей, узнала, что она жива и с ней все в порядке. Расплакавшись, она пригласила гостей в дом. И в скором времени он снова стал живым и настоящим: в нем теперь жила большая семья с двумя детьми, — четырнадцатилетним Мариусом и маленькой Майей, которая родилась в феврале тридцать девятого года.
Что касается разоблачения Харри и Агны Кельнер, устроенного Герхардом Зофтом, то без Герха, чье тело обнаружили в гостиничном номере только на вторые сутки после большого праздника, оно рассыпалось, и, столкнувшись с разграбленным домом Агны и Харри, — уже вторым по счету, — перешло в слухи о гибели супругов Кельнер.
И пусть тела их не были найдены, но дом-то был разграблен и разрушен точно, а значит, уверяли друг друга клиентки модного дома фрау Гиббельс, супругов Кельнер постигла та же участь. Тем более, что в мастерстве гестапо прятать трупы неугодных людей никто не сомневался.






|
Anna Schneiderавтор
|
|
|
h_charrington
Показать полностью
Часть 1. Здравствуйте! Если узнавая историю отношений Ханны и Харри, я еще порой испытывала к ней сочувствие, то поступок Ханны в предыдущей главе, когда она прилюдно начала бить Эл по ее бездетности, напрочь перечеркнул всякое мало-мальски доброе (?) чувство к ней. Знаете, у меня никогда не было очарования Ханной. Даже тогда, когда я была в начале работы над текстом, и было несколько вариантов для нее, и иногда я сама не понимала: а куда ее заведет? Многие, читая, отмечают именно тот момент сочувствия: вот же, Ханна протянула платок. Да. Но... так много этих "но" и до, и после платка! И внутренне у меня это ощущение преграды не проходило в отношении Ланг. Потому что она не просто ревнует (с кем не бывало?), она готова уничтожить Агну. Все вывернуть, все извратить, изгадить, подменить. Она надрывно орет Харри о том, что любит его, но это не так. Может, в ее понимании это и "любовь"... но истинная любовь, даже не получая ответа и сгорая в безумстве и горечи, не допустит зла в отношении того, кого любят. И той, "другой", которую, в этом случае, любит сам Кельнер. Вот эта душевная низость, развращенность и распущенность, грязь, выросшая на крови и пропаганде с трибун о "расе господ"... Это так омерзительно. Это останавливает меня от всякого сочувствия к Ханне. Хотя, да, — она подала платок. И тем ужаснее то, что сделалось (по ее собственному допущению, в первую очередь) с ее же душой. Она способна чувствовать. И чувствовать глубоко. И, думаю, была способна на любовь. А вышло это все вот такой мерзостью. Это уже далеко за границами ревности и зависти. Это мнение о том, что Ханне все можно. И она, чем дальше, тем больше это видно, может не остановиться ни перед чем. Собственно, о Кельнере, которого, по ее словам, она так любит, Ланг думает меньше всего. И эта беспринципная вседозволенность, как черта времени, очень пугает. Сама выбрала встать на колени, приветствуя то ли идола-фюрера, то ли идола-возлюбленного, которым обоим, как оказалось, нет до нее дела. А она и себя в грязи изваляла, и своего жениха, и там, где она надеялась выказать почтение и раболепное служение, попросту вскрылся позор и вся ее низость. Но Эл верно говорит после приступа смеха: страшно. Страшно это все. Вот мы видели ужасы Хрустальной ночи, а что в это время происходит с "благонадежными" гражданами? Они сами себя изваляли в грязи. Во всех тех случаях, когда они позволяют себе судить о представителях других наций как о второсортных, когда превозносят свою "арийскую" расу, когда морщат носы, что беспорядки заставили их изменить маршрут до работы, когда сетуют, что не могут больше закупать ткани по выгодной цене, когда утопают в роскоши, награбленной у тысяч обездоленных людей и выбирают - изо дня в день - не замечать кошмара вокруг. Поэтому фигура Ханны в финале свадьбы вся исполнена символизма. В Ханне, очевидно, собраны все те немки, которые "понятия не имели, что происходит", ну как же, и искренне радовались переменам в жизни. Но при этом нам вовремя напоминают, что Ханна, между прочим так, работает в концлагере. Она даже не может в полной мере быть той, которая "ничего не видит, ничего не слышит". Она никак не "жертва режима", а его прямое орудие. Как вы правы! Я согласна с Элис: это безумно страшно. Наблюдать все это, быть внутри такого "общества". А сколько копий сломано о тезисы "как немцы, такая просвещенная нация, дошли до такого"? Вопрос открыт. У нас И СЕЙЧАС нет ответа. Поразительно и то, что война, вроде как, окончилась, а никто ни за что не ответил. Меня беспредельно изумляет то, что эти твари рукопожатны в мире! Я просто не нахожу для этого слов. И они нам говорят о культуре? Знаем мы вашу культуру с примесью "Циклона-Б". Это не перестает меня поражать. И все эти фразы про "не знали", "нас использовали"... такая ересь! Кого они хотят обмануть? Рекомендуют себя немецким качество и "порядком"? Ну так и в лагерях был порядок: печи работали, "люди" ходили на работу, зондеркоманды исправно, каждый день, исполняли свои "обязанности"... Я в такой растерянности. Это как дверь в ад. Начинаешь думать об этом, и не можешь ни понять, ни осмыслить. Ну как такое было возможно? И, что не менее важно, как "потом" все стало внешне опять нормально, без лагерей? Я не думала над тем, является ли Ханна каким-то собирательным образом. Она так рвалась в текст, она не ушла даже тогда, когда я думала, что история будет с ней прощаться. Она смогла вытянуть до конца. И никакая она, конечно, не жертва. Она тварь. Красивая на лицо, абсолютно безжалостная ко всему человеческому. Не только к Агне, как к "сопернице", но к самому средоточию морали и человечности. И я даже думать не хочу о том, что Ханну сделало такой. Да, ее жизнь счастливой не назовешь. Но она сама, как и каждый из ее единомышленников, свернула на эту дорогу. И таким — память, чтобы помнить, и вечный, вечный позор и презрение. И сейчас я думаю еще и о том, что, имей она власть над Харри, она бы и перед прямым издевательством над ним не остановилась. Сломать душу человека, низвести его до состоянию твари, — это ее сторона. Ни о какой любви речи здесь нет. Но мысли о том, как "люди" могли жить и "не знать", меня не оставляют. Невозможно было не знать. Но "не знать" было удобно. Или они просто, тупо, выбрали то, на что им указали. И завыли только тогда, когда германские города стали рушится под ударами с воздуха. А бравый Геринг со своим "Люфтваффе" ничего не смог сделать. Они были уверены в своей силе, в своей победе (как будто кто-то на них нападал) и просто встали на сторону "сильного". А потом, к маю 1945-го завыли. И стояли в очереди за супом, который им раздавали на полевых кухнях наши, советские люди, наши солдаты. 1 |
|
|
Anna Schneiderавтор
|
|
|
h_charrington
Показать полностью
Часть 2. Надрывная надежда Эл и Эда найти Кайлу, Дану и Мариуса рвала сердце. Рассудок отметает всякий шанс, что даже если они живы, то их можно найти, но дело в том, что если прекратить поиски, это будет ведь как предательство. Надо искать, потому что так велит совесть. Надо не опускать рук, потому что иначе никак. Иначе чем они будут отличаться от тех, чья жизнь вошла в свою колею, как будто и не было ночных погромов, убийств и насилий? Да. Искать негде, и, кажется, бесполезно. А не искать — еще страшнее. Потому что это может значить ровно то, о чем писала Эл в своих "записках" к Стиву, в самом начале: она, Элис, стала как они. А это — все. Крышка гроба. Без преувеличений и пафоса. И дальше идти некуда. Вот это — самое страшное. Не смерть в войне, от руки нациста, а это предательство и переход на их сторону. Неужели это правда Кайла? Вряд ли Элис бы настолько размечталась, да еще в такой тревожный момент, под глазом Зофта, чтобы нафантазирвоать себе воплощение мечты. Кайла жива... а что ее ребенок? А муж?.. Дай Бог, их встрече ничто не помешает! Не люблю забегать вперед, но да, это правда Кайла. И я безумно рада, что линии этих, таких важных в "Черном солнце" героев, не оборвались в погромах. Агне в этих главах приходилось худо, но с каким достоинством она выстояла! И перед шакальими укусами Ханны, и перед тигриными ухватами Зофта. Им даже известно про Стивена... вот это страшно. Потому что проблема не в том, как упорно Эл и Эду удастся держать лицо на их вопросы что с подвохом, что в лоб, а в том, что в Третьем Рейхе не работает призумция невиновности, и что им стоит забрать их в Гестапо и сделать все, что захотят, просто "ради проверки"? Разве Зофту и тем, кто за ним стоит, так уж нужно чистосердечное признание Эл, что она убила Стивена, чтобы обвинить ее в этом? Но пока он медлит и даже вроде сбит с толку ее выдержкой. Как она посмотрела на него! КАк она держалась! Неимоверно горжусь ею. И Эдом, который успел найти важные бумаги. Спасибо вам! Да, от той юной, в начале истории, Эли и Агны многое осталось. Осталась такая важная доброта и трепетность, неуспокоенность сердца. А вместе с тем появилась и сила, которая теперь позволяет Эл выдерживать и такие встречи: с Ханной, с Зофтом. И хотя закалка эта стоила Эл очень и очень дорога, эта ее стойкость чрезвычайно важна. Эл не просто красивая девочка, в которую когда-то с первого взгляда влюбился Эд. Она теперь та, кто способен не просто держать удар, но и отвечать противнику. Она не подведет Эдварда. Такой Эл он может доверять, и доверяет, всецело. И это уже не столько именно про любовь, сколько про такую громадную близость и единение, когда ничего не нужно объяснять тому, кого любишь, — и так все ясно. Он и сам все понимает, по одному только взгляду или молчанию. Конечно, Зофту ничего не стоит забрать Агну и Харри в гестапо. Ему и повод для того почти не нужен. Но штука в том, что Зофт сам озабочен соблюдением приличий. Он, все же, думая о том, что Харри накоротке с Гирингом, опасается действовать прямо. Но очень старается. Эдвард, как воробей стреляный, в таких моментах вызывает уверенность. И азарт от него тоже никуда не отходит. И даже когда за него бывает страшно, все равно не покидает уверенность: ну нет, и сейчас выберется. Такие эпизоды напоминают нам, что их задача не просто выжить в Берлине в 30е годы, но и всеми силами помочь если не предотвратить, то разгадать грядущую войну и сделать все возможное, чтобы ее жертв стало как можно меньше. Что могут два маленьких человека, затерянных в самом жерле мясорубки? А все же даже если два человека спасут еще двух человек или хотя бы одного, разве это можно назвать "малым"? В масштабах всего мира и мировой войны спасение даже "только" одного, конечно, "немного". И, может, смехотворно. Но не для этого одного человека. Не для беременной женщины, которая абсолютно потрясена и напугана всем происходящим, и не знает, где Дану. И не для мальчика, которого нацисты считают не более, чем грязью. Спасибо! 1 |
|
|
Знаете, у меня никогда не было очарования Ханной. Даже тогда, когда я была в начале работы над текстом, и было несколько вариантов для нее, и иногда я сама не понимала: а куда ее заведет? Многие, читая, отмечают именно тот момент сочувствия: вот же, Ханна протянула платок. Да. Но... так много этих "но" и до, и после платка! Да, до очарования образом там далеко, и "сочувствие", которое она проявляет, можно сравнить с тем, как в карикатурных фильмах карикатурные злодеи показаны страстными любителями кошечек или собачек. Какие-то поверхностные душевные порывы не чужды и психопатам, и попросту мерзавцам, и, думаю, в сцене, где Ханна подходит к Эл с этим платком, там у Ханны больше какого-то глубинного страха перед тем, чего она никогда не сможет понять, чем реально вот сочувствия. И тот самый страх столкновения с чем-то большим, что есть в тебе, мог бы ее отрезвить, заставить пойти иной дорогой... Но нет. Не вышло. Минутная вспышка почти что благоговейного ужаса снова затоптана животной ревностью и тупой страстью. Может, в ее понимании это и "любовь"... но истинная любовь, даже не получая ответа и сгорая в безумстве и горечи, не допустит зла в отношении того, кого любят. О да, конечно. Я в каком-то из отзывов делилась соображениями о том, что у Ханны могло просто не быть понимания, что такое настоящая любовь, и та страсть, похоть и собственническое чувство могут быть ею приняты за то, что она "любит", а поскольку эта звериная жажда не находит удовлетворения, то, значит, еще и "страдает", и ей как "жертве" позволены любые средства для достижения ее "великих" целей. Ну да, ну да... Честно скажу, я отнюдь не сторонник того, чтобы объяснять все-все особенности поведения и мировоззрения человека исключительно травмами, пережитыми в детстве. Нам дана волшебная способность изменяться. Учиться на своих ошибках. Переживать опыт и взрослеть, что в 5 лет, что в 50. Поэтому просто сказать, что у Ханны не было перед глазами примера "истинной любви", и списать на такую вот "необразованность" всю ее чудовищную гнильцу, никак невозможно, на мой взгляд. Ведь даже если и так, та самая "истинная любовь" сподвигла бы ее к изменениям. Она бы видела Харри Кельнера как отдельного человека, личность, достойную счастья - такого, какое он обретет и будет беречь, она бы отпустила его. И точно не пыталась бы навредить Эл. Однако ее линия из раза в раз приводит ее на те же грабли наступать, и вот в тех двух главах, которые я успела еще прочитать, Эду и вправду пришлось уже почти к шоковой терапии прибегнуть, чтоб ее хоть как-то встряхнуть. Казалось бы, по сравнению с мировым масштабом бедствия, с которым имеют дело Эд и Эл, какая-то там истеричная ревнивая бывшая любовница просто мелюзга, вошь. Но какая же она назойливая, и сколько уже крови подпила! А сколько копий сломано о тезисы "как немцы, такая просвещенная нация, дошли до такого"? Вопрос открыт. У нас И СЕЙЧАС нет ответа. Поразительно и то, что война, вроде как, окончилась, а никто ни за что не ответил. Меня беспредельно изумляет то, что эти твари рукопожатны в мире! Я просто не нахожу для этого слов. И они нам говорят о культуре? Знаем мы вашу культуру с примесью "Циклона-Б". Это не перестает меня поражать. И все эти фразы про "не знали", "нас использовали"... такая ересь! Кого они хотят обмануть? Рекомендуют себя немецким качество и "порядком"? Ну так и в лагерях был порядок: печи работали, "люди" ходили на работу, зондеркоманды исправно, каждый день, исполняли свои "обязанности"... Я в такой растерянности. Это как дверь в ад. Начинаешь думать об этом, и не можешь ни понять, ни осмыслить. Ну как такое было возможно? И, что не менее важно, как "потом" все стало внешне опять нормально, без лагерей? Признаюсь, сколько я ни пыталась найти ответ на этот вопрос, ничто меня до конца не удовлетворяет, кроме мнения, что люди, по природе куда легче склонные ко злу, чем к добру, получая возможность творить зло и не нести за это ответственность, будут это делать с большой охотой, потому что видимых выгод больше, чем если держаться (еще и рискуя положением и даже жизнью) за совесть и моральные принципы. Полагаю, в моменте у многих просто не возникал вопрос "а правильно ли это?", они видели перспективы и выгоды - даже в убийстве 36 000 евреев - и шли на это, вовремя позволяя себя закрывать глаза и морщить носы. Тут часто гооворят о бедственном положении Германии после 1МВ. Помню, нам учительница истории рассказывала, что инвалиды, вернувшись с войны, совершали самоубийства, чтобы их вдовам и сиротам выплачивали пособия большего порядка, нежели по инвалидности кормильца. Но что, интересно, во Франции, половину которой истребила Германия в 1МВ, в России, которую мало что в 1МВ использовали как пушечное мясо, так добили напрочь революцией и Гражданской войной, не было отчаяния и бедственного положения? Но как-то не докатились до "окончательного решения еврейского вопроса", восстанавливая свои экономики. Как-то не дошли до полнейшей бесчеловечности, пробивая себе "дорогу в будущее". Да, и меня еще всегда поражало, как много раздуто причитаний вокруг послевоенной судьбы Германии. Ах, их делили на зоны оккупации, ах, им построили Берлинскую стену!.. Какое "варварство" по сравнению с тем, что Германия творила со странами и народами, которых как катком сметала во время 2МВ... Ах, бедная Германия, платила непосильные репарации. А сколько она награбила и уничтожила богатств тех страх, на которых напала в 1МВ? Поэтому... для меня это сводится к природе зла. Ненасытной, пугающей воронке, которая засасывает все глубже и глубже, давая мнимую эйфорию от чувства вседозволенности, сытости и удовлетворенного самолюбия. Читала "Доктора Фаустуса" Манна. Там в целом приводится вот к такой метафизической проблеме добра и зла. Сделка с дьяволом, бессмертная душа (совесть, мораль, ценности) в обмен на временные привилегии, достаток и славу. Там гг - гениальный композитор, Фауст 20 века, и в нем вот отражается судьба Германии. Но, знаете, меня еще напрягало всегда вот это превозношение образованности и культурности немцев. Ах, они там все поголовно играют на пианино и читают философов. Не проводила собственных исследований, спорить не буду, но и не буду держаться за это утверждение как за что-то, что может быть исползовано хоть каким-то боком как, прости Господи, "смягчение" их вины. Сволочь - она сволочь и есть. Вне зависимости от того, играет она на пианино или нет. Казалось, что феномен еврейских оркестров, которые играли на скрипках, пока других заключенных умерщвляли в газовых камерах, должен наоборот свидетельствовать о полнейшей, окончательной извращенности и вырождении этой "великой немецкой нации". Но до сих пор находятся те, кто говорит, какой у них тонкий вкус. Или еще пример слепоты и глухоты к историческому опыту: в школе одноклассница как-то пришла в ожерелье со свастикой. И когда мы к ней подошли с намерением разложить по понятиям, она на голубом глазу утверждала, что "это древний языческий символ солнышка, чего пристали, быдлота". Символ-то древний, но забывать, или даже отрицать, что он был раз и навсегда запятнан кровью миллионов?.. Я даже не знаю, как это комментировать. 1 |
|
|
[отзыв к главам 3.12-3.13]
Показать полностью
Здравствуйте! Спасибо, что подарили нам это чудо воссоединения с Кайлой. Что оставили ее в живых, что сохранили ее малыша. Когда столько боли, и история идет к финалу, не ожидаешь уже и проблеска света (разве что вспышки ракеты, которая взорвет все к чертям), однако такой вот дар напоминает нам о том, как в жизни ценно подлинное чудо. И оно случается. Быть может, в реальной жизни даже чаще, чем в искусстве. Да, Кайла пережила тяжелейшее потрясение, Дану либо погиб, либо все равно что приговорен к смерти, оказавшись в концлагере. Да, даже в этих обстоятельствах открывается возможность еще одного чуда, и еще, и еще, но узнаем ли мы о нем - неизвестно. И пока уже сама Кайла может взять на себя подвиг надежды и ожидания встречи, молитвы и веры, чтобы не впасть в глубочайшее отчаяние хотя бы ради малыша. Ему ведь тоже очень страшно, и какое мужество нужно матери, чтобы не поддаться внешим страхам и оградить от них ребенка... А он... пинается. Растет. Господи, как трогательно - особенно вот такой яркой вспышкой жизни вопреки всему посреди всей этой мглы. И тут же рядом - несчастная Эл... Я ей очень и очень сочувствую. Ей самой себя страшно: как, спрашивает она себя, я могу искренне помогать Кайле, если сам факт, что она ходит с ребенком под сердцем, а я этого лишена, вызывает во мне приступ боли, и зависти, и горя? И рука одернулась, и снова пришло страдание. Там, где надо радоваться за другого, поддерживать, верить в лучшее, все вдруг, как по щелчку пальцев, застилает собственная, кровная боль, и больше ничего не остается. Весь мир потух, и осталась одна Эл, окаменевшая на кровати, один на один со своим неизбывным горем. И даже Эду она не в силах его поверить. Интересно, что сама просит от него откровенности, но уже в который раз не делится с ним своими переживаниями. Она сильная и гордая, и, конечно, опасается ранить его своими переживаниями или обременить, или, хуже, подтолкнуть к решительным действиям (как когда он ходил угрожал Гирингу), которые могут повредить ему. И... еще ведь, как удивительно точно отражена печальна правда жизни: стоит хоть чуточку всковырнуть давнюю, непроболевшую до конца обиду, как она тут же восстает пламенным драконом. Ну вот, казалось бы, давно уже исчерпан вопрос верности Эда, его отношения к Ханне. Но стоит ему только упомянуть, что схватил Ханну за руку, как у Эл все отключается. Она уже не вдумывается в разницу между "схватил" и "взял". Она уже не слышит, что он схватил ее, чтобы уберечь Эл. Мир погас и осталась картинка: Эд и Ханна вместе, а она, Эл, одна. Крах. Почти безумная, иррациональная ревность, боль, желание рвать и метать под наносным смиренным молчанием. Эд видит, что он не может просто так успокоить Эл. Словами до нее не достучишься. Когда болит сердце, разумные увещевания только больше бесят и доводят до крайности. Единственное, что работает в этот момент - это взять (или уж схватить) как можно крепче, прижать к груди и говорить о любви. О том, что Эл - единственная, о том, что без нее жизнь не мила. Она так хочет это услышать, и, пусть это выглядит глупым, но такая уж правда о нас - нам важно это слышать. Поступки, дела - безусловно, в этом вся суть, но какое волшебство творит одно только слово любви... Эд учится произносить это слово. И не одно. Он любит - и в этих главах обнаруживает еще одну грань любви. Способность принимать и облегчать чужую боль. Он ненавидит свою слабость, ненавидит свои раны, он умеет с ними жить - но не знает, кем бы он был без них. Для него они - уродство, которое нужно скрыать от посторонних глаз. И тут он видит, как Эл умеет утешать. Как она умеет быть стойкой в чужом горе, как умеет вобрать его в себя как свое и не сойти с ума. Какая сила духа! Момент, когда Эд смотрит на Кайлу, и на его лице отражается боль, невероятно сильный. В жизни, которую ведет Эд, уение не показывать своих чувств считается достоинством, силой, но как ему самому от этого тяжело! И вот момент, когда он задумался "об Эдварде Милне", был таким значимым... и знаковым. Все это время он был озабочен такими вещами как не провалить миссию, защитить Эл, попробовать хоть немного сделать ее счастливой... А теперь он задумался будто впервые, а может ли быть счастлив он? Конечно, "счастье" - слишком громное и приторное слово для Эда и Эл, которые живут на острие ножа. Но он задумалсь об облегчении, об утешении. Об исцелении и покое. Как это дорого, когда такой закрытый и наполовину окаменевший человек может хотя бы мысль допустить о том, что его жизнь (или отношение к ней) может измениться... Пусть даже перед лицом смерти. А когда еще? "Приключение" с Ханной, как я сказала, было уже сродни шоковой терапии. Клин клином, так сказать. А ну-ка иди, если такая честна и правоверная, а ну-ка выкладывай все свои подозрения! Но там, где все построено на страхе, уже нет места честности и справедливости. И страх Ханны показывает, что и по ней, видимо, ездили. И ее, может, на скамью клали... Вопрос только, какими средставами она нашла взаимопонимание со следствием. Вопрос риторический. И пережитое, видимо, никак не помешало ей и дальше работать в концлагере (а может, ее туда после знакомства с гестапо и закинуло), носить белое пальто и пытаться растоптать чужие жизни. Жестокость порождает жестокость. И не перестаю "умиляться", как каждый раз она кричит о том, чтобы Харри был осторожен, а потом делает все, чтобы навредить ему и его жене. Сколько раз понадобится Ханне перебегать дорогу Кельнерам, чтобы грабли ей уже лоб расшибли?.. Да, очень классный момент с обменом шпильками Эда и Зофта. "Не ожидал увидеть вас здесь". А Зофт в общем-то хорошо держит мину при плохой игре, его разоблачили, а он и ухом не повел, мол, "так надо", или "я знаю, что вы знали, что я знаю, что вы знаете". Интересный он противник, учитыая, что он пытается соблюдать правила игры. Это не похотливый эсесовец и не чиновник, пользующийся своим положением, и не ревнивая стерва. Мне кажется, ему самому доставляет удовольствие изощренное этот интеллектуальный поединок с супругами Кельнер. И он хочет сам их подловить, расколоть, не силовыми методами, а чтобы как в шахматной партии кто-то совершил бы ошибку. Наконец, визит Агны к заказчице выдался действительно тошнотворным. Вот оно - говорить с возмущением о погромах только потому, что они вышли слишком уж громкими и затратными! Говорить спокойно о гибели 36 тысяч людей, переживая о финансовых издержках. И это уже не Ханна, это "достопочтенная дама", которая уж точно родилась и выросла не после 1МВ, когда бедненькие немцы так "страдали", а в самый расцвет Германской Империи, ее "культуры" и "благонравности". Вот вам и благонравность. Как "радуют" и господа англосаксы. Центр отмахивается от посланий своих шпионов, а официальный представитель комитета, который занят не много не мало спасением детей чопорно говорит: "Вас это не касается, ваше время истекло". Мне кажется, даже Гиббельс так резко не давал Эдварду поворот от ворот. Омерзительно и низко. Но британцы же уверены, что Чемберлен "привез им мир". И спасаем только тех евреев, которые не слишком похожи на евреев. Чтоб, прости Господи, "глаз не мозолили" английским аристократикам. Какое же позорище.... Если про Францию Кейтель сказал, подписывая капитуляцию, "и они у нас выиграли?", то про Англию ему следовало бы сказать: "Разве они вместе с нами не проиграли?.." Столько ведь подыгрывали... И занятно, что под словом "восток" Эд и Эл даже не помышляют об СССР. Видимо, настолько невероятным был все-таки план Гитлера воевать против самой большой в мире страны, что в головах не укладывалась такая возможность в принципе. На этот счет есть разные точки зрения, но говорят, что и Сталин не верил донесениям наших агентов, что Германия планирует воевать на два фронта и наступать на СССР. По крайней мере, начинать наступление в разгар лета, когда до осеннего бездорожья рукой подать. Но Гитлер был уже слишком самонадеян. Блицкриг, ну да, ну да... Спасибо большое! п.с. Поняла, что в прошлом отзыве не упомянула сцену с милым нашем Белым Лунем. Очень ценен его взгляд со стороны как на Эда, так и на трагедию с Эл. Честно, когда он выдал этот монолог о том, как Эл попала в больницу, и как он пытался, но не мог спасти их ребенка, довел меня до слез. При минимальных описаниях переживаний и чувств героя, один этот монолог передает всю боль старого врача, который всю жизнь видит чужие страдания и лишь малую часть их способен облегчить. Вечный разрыв между тем, к чему призван, и тем, что действительно может сделать, и не потому, что мало старается (он всего себя отдает своему служению), но потому что такова жизнь, такова судьба, таково несовершенство науки и хрупкость человека. Но трезвое понимание, что врач не всесилен, даже самый опытный, не дает нашему Луню отрешиться от чужого горя и просто развести руками. Прошло уже пять лет, а он помнит Эл, помнит ее боль и причитается к ней своей болью, ибо в том, как он говорит о ней, такой надрыв... и горечь. И, думаю, для Эда эта вспышка откровенности стала утешением. Даже большим, чем он мог бы признать на первых порах. Знать, что по твоему горю плачет искренне еще один человек - утешение, очень большое утешение. п.п.с. Спасиб за упоминание Гейдриха, сейчас нашла время и постаралась подробнее узнать о том, что это за человек. Чтение вашей истории как всегда располагает к самообразованию. 1 |
|
|
Anna Schneiderавтор
|
|
|
h_charrington
Показать полностью
Здравствуйте! там у Ханны больше какого-то глубинного страха перед тем, чего она никогда не сможет понять, чем реально вот сочувствия. И тот самый страх столкновения с чем-то большим, что есть в тебе, мог бы ее отрезвить, заставить пойти иной дорогой... Но нет. Не вышло. Минутная вспышка почти что благоговейного ужаса снова затоптана животной ревностью и тупой страстью. Согласна с вами, именно такой там страх. Страх перед неведомым, тем, что гораздо больше слов. И Ханна, верная себе, не удерживается от вопроса о Харри. Все ли с ним в порядке? Думаю, этот жест с платком был в чем-то искренним, но он, как вы и сказали, не повел Ханну дальше. Точнее, не вернул ее обратно. И все покатилось дальше, под гору. Я в каком-то из отзывов делилась соображениями о том, что у Ханны могло просто не быть понимания, что такое настоящая любовь, и та страсть, похоть и собственническое чувство могут быть ею приняты за то, что она "любит", а поскольку эта звериная жажда не находит удовлетворения, то, значит, еще и "страдает", и ей как "жертве" позволены любые средства для достижения ее "великих" целей. И при этом Ланг очень высокого мнения о себе. Но если отставить в сторону ее красивую внешность, такую правильную по тем временам, то что останется? Горечь? Ярость? Злость, ставшая озлобленностью? Повторю, она, как и всякий другой человек, могла пойти иным путем. Но выбор ее, как и выбор другого, всегда, конечно, свободен. И ее самомнение о себе, что примечательно, основано тоже, в общем-то, только на собственной внешности. В этом смысле яркий момент — тот, где Кельнер подвозит ее до дома, а она всю дорогу уязвлена тем, что он реагирует на нее сухо, не так, как она к тому привыкла. И если круг ее собственных интересов и ценностей узок настолько, то стоит ли удивляться тому, что она всё судит лишь внешне? Сама не обладая почти никаким душевным содержанием. И на основе своих нынешних "страданий", она, видимо, решает стать судьей и решать: кого миловать, а кому — голова с плеч. Все ее истерики и метания утомляют. Будь иное время, не такое опасное, Харри сказал бы ей гораздо более открыто гораздо больше "хороших" слов. Но время не то. С ней ему тоже приходится сдерживать себя. Честно скажу, я отнюдь не сторонник того, чтобы объяснять все-все особенности поведения и мировоззрения человека исключительно травмами, пережитыми в детстве. Нам дана волшебная способность изменяться. Учиться на своих ошибках. Переживать опыт и взрослеть, что в 5 лет, что в 50. Поэтому просто сказать, что у Ханны не было перед глазами примера "истинной любви", и списать на такую вот "необразованность" всю ее чудовищную гнильцу, никак невозможно, на мой взгляд. Ведь даже если и так, та самая "истинная любовь" сподвигла бы ее к изменениям. Я не задумывалась так четко о том, чем объяснить поведение человека. Но тема с детскими травмами кажется очень узкой и заезженной. Сколько можно? Нам и Гитлера впихивают в рамочки несчастного, непонятого художника. Вот прими его тогда в венское училище, вот было бы всё хорошо... А если нет? Все? От одной неудачи, пусть и болезненной, сломался и пошел всех жечь и ломать? Как же это уродливо и отвратительно. Только твари способны на такую лютую месть, истинные твари. И не надо никаких объяснений — нет их, не существует в таких случаях. Неважно, был ли у Ханны счастливый опыт любви или нет, а действует она ровно так же. Мстит, гадит, и в этой своей пакости не хочет видеть никаких границ. Дай такой волю, и была бы еще плюс одна Ильза Кох. Есть люди, которые, к примеру, не познают в своей жизни счастливую любовь. Не знаю, почему так, но бывает. И что, теперь всем мстить? Кто виноват в твоей боли? Никто. Может, и ты не во всем виноват, и есть еще какие-то иные факторы, но винить других, "мстить" им, — это гадость и низость. Но какая же она назойливая, и сколько уже крови подпила! Да, очень много сил и души уходит на нее, к сожалению. И поразительнее только то, что до сих пор, даже после почти визита в гестапо, она не успокаивается. Совершенно сошла с ума, я думаю. И не хочет остановки. Признаюсь, сколько я ни пыталась найти ответ на этот вопрос, ничто меня до конца не удовлетворяет, кроме мнения, что люди, по природе куда легче склонные ко злу, чем к добру, получая возможность творить зло и не нести за это ответственность, будут это делать с большой охотой, потому что видимых выгод больше, чем если держаться (еще и рискуя положением и даже жизнью) за совесть и моральные принципы. Полагаю, в моменте у многих просто не возникал вопрос "а правильно ли это?", они видели перспективы и выгоды - даже в убийстве 36 000 евреев - и шли на это, вовремя позволяя себя закрывать глаза и морщить носы. Тут часто гооворят о бедственном положении Германии после 1МВ. Помню, нам учительница истории рассказывала, что инвалиды, вернувшись с войны, совершали самоубийства, чтобы их вдовам и сиротам выплачивали пособия большего порядка, нежели по инвалидности кормильца. Но что, интересно, во Франции, половину которой истребила Германия в 1МВ, в России, которую мало что в 1МВ использовали как пушечное мясо, так добили напрочь революцией и Гражданской войной, не было отчаяния и бедственного положения? Но как-то не докатились до "окончательного решения еврейского вопроса", восстанавливая свои экономики. Как-то не дошли до полнейшей бесчеловечности, пробивая себе "дорогу в будущее". Да, и для меня этот вопрос открыт. А может, при наступлении нацизма, для таких, "более склонных" ко злу, и выбора не было? То есть и вопроса не стояло: плохо или хорошо? Выгодно, — вот и ответ. Сколько было уверено в победе "германского гения", в "расчистке новых территорий"... Гитлер и Ко орали с трибун о том, что "ничего не бойтесь, всю ответственность я возьму на себя!", — уверенные в том, что всё им не просто сойдет с рук, а зачтется как праведная цель в очищении пространства. Странно обо всем этом говорить, когда у самой (то есть у меня:) немецкая фамилия. Но всю эту "риторику" ненавижу люто. Просто какая-то внутренняя ненависть просыпается. Согласна с вами в ваших размышлениях о немцах. Меня умиляет еще и то, что они нам на полном серьезе заявляли, что зачем это мы к ним пришли? А Геринг вообще в своих речах дошел до того, что какие-то советские люди (недолюди, конечно же, по их размышлению культурных людей) не имеют права (!) судить их, немцев и национал-социалистов. То есть настолько все человеческое было выхолощено в этих уродах. То есть убивать людей миллионами, грабить их, насиловать — они, "великие" и "культурные" имеют право, а судить их не может никто. На такое даже не знаю, что ответить. Жалею, что Геринг сумел сам убиться. Хотелось бы, чтобы его, как большинство его единомышленников на том первом суде, вздернули. Веревка бы только оборвалась: толстый был непомерно. Но ничего, подвязали бы снова. Мне хочется верить, что мы никогда не дойдем до таких "окончательных решений". Меня, со временем, стало поражать другое: как обескровлен, как разрушен был СССР войной. И как быстро восстановлен! Параллельно с этим шла насмерть гонка по разработке ядерного оружия. А в 1961 г. не кто-нибудь, а мы — первые в космосе. Всего через 16 лет по окончании такой войны... Раньше я смотрела на снимки моделей в платьях Диор, прилетевших в Москву в то время, с сочувствием к нашим женщинам, одетым в самые простые платья. А теперь хочется сказать: идите на ... со своими платьями, в свою Францию. Где бы они все были, если бы не СССР? Но страх в том, что им там, на той стороне, нравилось. И ничего не казалось страшным. А что такого? Спасибо за отзыв! 1 |
|
|
Anna Schneiderавтор
|
|
|
h_charrington
Показать полностью
Часть 1. Здравствуйте! Спасибо, что подарили нам это чудо воссоединения с Кайлой. Что оставили ее в живых, что сохранили ее малыша. Когда столько боли, и история идет к финалу, не ожидаешь уже и проблеска света (разве что вспышки ракеты, которая взорвет все к чертям), однако такой вот дар напоминает нам о том, как в жизни ценно подлинное чудо. И оно случается. Я просто не могла лишиться Кайлы. Пусть она не главная, но очень важная героиня. То же касается и ее ребенка. Даже если все это, может, выглядит неправдоподобно, — плевать. Вокруг и так слишком много смертей и пожаров. Но Кайла будет жить. В конце концов, правдоподобие самой жизни иногда очень "хромает": есть в нашей истории воины, прошедшие через 17 концлагерей, и не сломленные этим ужасом. Господи, как трогательно - особенно вот такой яркой вспышкой жизни вопреки всему посреди всей этой мглы. И тут же рядом - несчастная Эл... Я ей очень и очень сочувствую. Ей самой себя страшно: как, спрашивает она себя, я могу искренне помогать Кайле, если сам факт, что она ходит с ребенком под сердцем, а я этого лишена, вызывает во мне приступ боли, и зависти, и горя? И рука одернулась, и снова пришло страдание. Это то же отчасти, что испытывает Росаура: личное (как всегда, но в такие времена это особенно) очень переплетено с "внешним". И хотя опасность — везде и всюду, вокруг Эл и Эда, личное отменить невозможно. Потому что оно и есть ты. И даже понимая, что мир уже слетает в темноту, забыть свое не можешь. И заглушить такую боль окончательно вряд ли возможно. Даже если потом будут другие дети, этот, не рожденный малыш, останется самим собой, тем же самым малышом, что умер. И тут же поднимается неусыпно другая волна: следить за собой, соблюдать осторожность, — все то, что уже вшито под кожу у Элис, и у Эдварда. И хорошо, что в такой момент рядом с Эл была Кайла. Даже если она что-то и подозревает (хотя я не думаю), то в любом случае никому не выдаст ни Агну, ни Харри. Интересно, что сама просит от него откровенности, но уже в который раз не делится с ним своими переживаниями. Она сильная и гордая, и, конечно, опасается ранить его своими переживаниями или обременить, или, хуже, подтолкнуть к решительным действиям (как когда он ходил угрожал Гирингу), которые могут повредить ему. И... еще ведь, как удивительно точно отражена печальна правда жизни: стоит хоть чуточку всковырнуть давнюю, непроболевшую до конца обиду, как она тут же восстает пламенным драконом. Ну вот, казалось бы, давно уже исчерпан вопрос верности Эда, его отношения к Ханне. Но стоит ему только упомянуть, что схватил Ханну за руку, как у Эл все отключается. Она уже не вдумывается в разницу между "схватил" и "взял". Она уже не слышит, что он схватил ее, чтобы уберечь Эл. Да, интересный перевертыш: просьба об откровенности и уже, в самом деле (как в случае с примеркой платья Ханной и "упреком" Агны в бездетности), не первая — с одной стороны, причем со стороны Элис, которая раньше, сама по себе была гораздо откровеннее, и Эд даже гордился своим умением легко "читать" ее лицо и эмоции, и нежелание рассказать Милну о том, что ее саму беспокоит. Но, думаю, Эдвард из проницательности, плюс-минус все знает. Конечно, это не скытность Эл, равная отстранению, а нежелание увеличивать и так то горькое и страшное, что есть. Только вот, конечно, от молчания ей легче не станет. Да и с кем еще ей всё делить, как не с Милном? Громадная радость (если уместно употребить это слово в данном контексте) в том, что они вместе не только как влюбленные, они вместе и на одной стороне и в жизни, и в миропонимании, в том деле разведке, о которой даже любимому не скажешь, нельзя. А понять это другой, сам не бывавший по эту сторону разведки, не сможет. К тому же, Элис уже не та девочка, прибежавшая в страхе в комнату Милна в первую ночь в Берлине. И думаю, теперь Эд не всегда может похвалить себя за умение "читать" Эл. Ну а что касается Ханны... тут все то же: та рана, как потеря ребенка, в какой-то степени всегда будет открытой. Это признали в том примирении после вечера с танцем и Софи, оба: и Эд, и Эл. Да и глупо было бы делать вид, что этого не было. Кто-то, конечно, выбирает и такой ход, но смысл? Глухой, постоянный стук-напоминание и саму память — не отменить, как ни старайся. Честность гораздо лучше в такой ситуации. Эд видит, что он не может просто так успокоить Эл. Словами до нее не достучишься. Когда болит сердце, разумные увещевания только больше бесят и доводят до крайности. Единственное, что работает в этот момент - это взять (или уж схватить) как можно крепче, прижать к груди и говорить о любви. О том, что Эл - единственная, о том, что без нее жизнь не мила. Она так хочет это услышать, и, пусть это выглядит глупым, но такая уж правда о нас - нам важно это слышать. Поступки, дела - безусловно, в этом вся суть, но какое волшебство творит одно только слово любви... Слова, правда, здесь не работают. Ну что он скажет? Все то же: то было ошибкой, а все, что у нас — и было, и есть одно настоящее? Эл это умом знает, она это слышала от Эдварда не раз, и, думаю, верит ему. Но боль, острую и сердечную, все это не отменяется Потому что рана всегда будет открыта. А доверие уже было основательно нарушено, и в той темноте они уже оба были. А скатиться в темное нам, не таким уж и уверенным в себе, всегда гораздо быстрее и проще, чем удерживаться в луче света. Поэтому выход один — быть рядом и ждать, когда стихнет приступ боли. И снова врачевать рану. Ну а слова... да, так вот удивительно они действуют на нас. Все всё знают про "смотри на дела и действия", но слова способны как исцелить, так и погубить. Притом, что это не просто слова, это — истинная правда для них двоих. В форме слова. Он ненавидит свою слабость, ненавидит свои раны, он умеет с ними жить - но не знает, кем бы он был без них. Для него они - уродство, которое нужно скрыать от посторонних глаз. И тут он видит, как Эл умеет утешать. Знаете, я думаю, Эд не ненавидит свои раны. Он их принимает. Да, возможно, он хотел бы, чтобы ни их, ни того опыта, что они ему принесли с собой, у него не было. Но без них он не был бы таким, каким мы его знаем. А может, сложись его жизнь более благополучно, он вырос бы рафинированным болваном? А потом, как Стив, решил бы, что и ему "все можно"? А что? Деньги, положение есть. Бороться "за место под солнцем" не нужно. Вообще ничего не нужно, — безбедное существование обеспечено на всю жизнь капиталом от родителей. Я не знаю, где эта золотая середина между правильным неравнодушием сердца и души и абсолютным равнодушием ко всему, возникшим из-за привычки к достатку. Мы так часто привыкли считать, что любви много не бывает. Но я смотрю на ту же дочь Делона и меня берет ужас, отвращение. Ей не на что жаловаться в своей жизни. Она, в отличие от своего отца, не знала бед или нужды. Отец ее обожал. А выросло на этом обожании чудовище. Монстр, приложивший руку к тому, что последние годы его жизни, судя по всему, были полны и горечи, и боли. И при этом, кажется, абсолютное непонимание того, кем был ее отец. Да, для нее он, прежде всего, папа. И потом "Ален Делон". Но такая душевная тупость... это так страшно. Безумно. Боль свою Эд скрывает из соображений того, что знание о ней никому не сделает лучше. Но и сам он, под ее гнетом, как мы видим, уже не выдерживает. Все это глубоко личное, опять же, совсем "не к месту", когда такая обстановка вокруг. Но сама мысль о том, что он, после всех этих лет абсолютного молчания, может быть принят и понят, а не отвергнут... Я думаю, для него это не меньше, чем потрясение. И я очень рада, что такая мысль пришла к нему, не оставила его в покое, а растревожила. Во имя дальнейшей жизни и любви, как бы странно это ни звучало на пороге войны. 1 |
|
|
Anna Schneiderавтор
|
|
|
h_charrington
Показать полностью
Часть 2. "Приключение" с Ханной, как я сказала, было уже сродни шоковой терапии. Клин клином, так сказать. А ну-ка иди, если такая честна и правоверная, а ну-ка выкладывай все свои подозрения! Но там, где все построено на страхе, уже нет места честности и справедливости. И страх Ханны показывает, что и по ней, видимо, ездили. И ее, может, на скамью клали... Вопрос только, какими средставами она нашла взаимопонимание со следствием. Вопрос риторический. Да, вопрос более, чем риторический. Тот, на который ответ не важен и не интересен. Именно потому, что всей своей сутью Ханна вызывает, может быть, сожаление (как человек, свернувший не туда), но не сочувствие. Я знала, что она как-то использует тот случай с подменой чемоданов. Это была бы не Ланг, упусти она такой повод задеть и зацепить. Но до того, как описала эту встречу Харри и Ханны под аркой, не знала, как именно. И, опять же, радуюсь наблюдательности Милна, заточенной годами разведки. Ведь он мог ее и не заметить. Да, очень классный момент с обменом шпильками Эда и Зофта. "Не ожидал увидеть вас здесь". А Зофт в общем-то хорошо держит мину при плохой игре, его разоблачили, а он и ухом не повел, мол, "так надо", или "я знаю, что вы знали, что я знаю, что вы знаете". Интересный он противник, учитыая, что он пытается соблюдать правила игры. Это не похотливый эсесовец и не чиновник, пользующийся своим положением, и не ревнивая стерва. Мне кажется, ему самому доставляет удовольствие изощренное этот интеллектуальный поединок с супругами Кельнер. И он хочет сам их подловить, расколоть, не силовыми методами, а чтобы как в шахматной партии кто-то совершил бы ошибку. Все верно, — Зофт не так прост, как хочет казаться. Это не обезумевший то ли от вспышки влюбленности в начале, то ли похоти, Биттрих. Это не новенький эсесовец, вчера взятый из "Гитлерюгенд", и пугающийся собственной тени. Это даже не Хайде, слишком взбешенный по эмоциям, чтобы всерьез противостоять Харри. Это именно противник. Умный. Потому что те твари во многих случаях были умными. И да, Зофт жаждет победы. Но еще — отменной игры. А она предполагает все эти словесные "не ожидания". Наконец, визит Агны к заказчице выдался действительно тошнотворным. Меня до сих пор это очень интересует: а как себя вели тогда немцы? Простые немцы, рядовые немцы? Все нравилось, ничего не волновало? Это тоже, во многом, вопрос без ответа. Тем более, что после нашей Победы они быстренько переквалифицировались в сплошь тайное сопротивление, которое с 1933 по 1945 было всегда резко против Гитлера. Ну-ну, знаем. Центр отмахивается от посланий своих шпионов, а официальный представитель комитета, который занят не много не мало спасением детей чопорно говорит: "Вас это не касается, ваше время истекло". Мне кажется, даже Гиббельс так резко не давал Эдварду поворот от ворот. Омерзительно и низко. Тут, в случае с новым героем, с Фоули, я могу только посоветовать подождать. Очень мне интересно узнать ваше мнение о нем после всех событий. Ну а Центр — на то Центр. Оттуда, с Форрин-офис в Лондоне, видно лучше обстановку в Германии. Вон, даже Милна, в делах почти всегда предельно выдержанного, довели до кипения. И спасаем только тех евреев, которые не слишком похожи на евреев. Чтоб, прости Господи, "глаз не мозолили" английским аристократикам. Какое же позорище.... Да. Я когда читала реальные данные об этой программе "Киндертранспорт", поверить не могла этому. Но очевидцы, которых просили рассказать о ней, подтверждали слова друг друга: дети внешне должны были внешне походить на евреев. Еще — здоровыми, придежными в поведении и учебе. Не инвалидами какими-нибудь, конечно же, ну что вы! И в этом — расчет, а не настоящая помощь. Причем, семьи могли отправить по этой программе только одного ребенка из семьи. А семьи тогда, как правило, были многодетными. И понятно, что ожидало оставшихся в Германии. И занятно, что под словом "восток" Эд и Эл даже не помышляют об СССР. Видимо, настолько невероятным был все-таки план Гитлера воевать против самой большой в мире страны, что в головах не укладывалась такая возможность в принципе. Я думаю, и война Гитлера против Англии и Франции тогда еще тоже могли выглядеть невероятным. Как? Как это возможно? А между тем "блицкриг" настолько отбил Гитлеру даже его больные мозги, что эту кальку он приложил и на СССР, с его громадными территориями. Как сказал Геринг: у нас было очень много информации о состоянии СССР перед войной. Численность населения, подготовка, запасы, ресурсы... одного мы не учли и не могли знать: советского солдата, который так яростно сражался за свою землю. Так, что и смерть не останавливала. На этот счет есть разные точки зрения, но говорят, что и Сталин не верил донесениям наших агентов, что Германия планирует воевать на два фронта и наступать на СССР. По крайней мере, начинать наступление в разгар лета, когда до осеннего бездорожья рукой подать. Да, многие говорят, что Сталин не верил. И донесениям многих разведчиков, и даже тому, что, конечно же, не просто так ранее был заключен пакто Молотова-Риббентропа. Не верил он и донесениям Зорге. А уж Зорге — какой разведчик! Могли его вытащить из тюрьмы, а вытаскивать не стали. Он тоже, кстати, называл точную дату: 22 июня 1941. А Сталин думал, что он двойной агент. А Зорге умер в тюрьме, но своих не сдал. Поняла, что в прошлом отзыве не упомянула сцену с милым нашем Белым Лунем. Очень ценен его взгляд со стороны как на Эда, так и на трагедию с Эл. Честно, когда он выдал этот монолог о том, как Эл попала в больницу, и как он пытался, но не мог спасти их ребенка, довел меня до слез. Спасибо вам за такое неравнодушие! Я тоже очень люблю этот горький момент. Это сочувствие старого человека, опытнейшего врача. Чего и кого он, действительно, не видел в своей жизни? А Эл, эту девочку, запомнил. И столько сострадания к ней, к Эдварду. К чужой жизни, которая столкнулась с таким непоправимым горем. На таком сердце и на таком умении сопереживать, и держится, думаю, во многом, наш мир. А Гейдрих, кстати, — из тех самых очень "культурных" нацистов, о которых вы писали в недавнем отзыве. И скрипка, и фортепиано... Образцовый на всю сотню. А вместе с тем, — не человек, а чудовище. Спасибо вам! 1 |
|
|
отзыв на главы 3.14-3.15, 1 часть
Показать полностью
Здравствуйте! Вот, я снова плачу. Вообще я очень ценю моменты, когда искусство вызывает во мне такую реакцию. Это настоящие переживания, они как ничто показывают, как искусство проникает в жизнь и обнажает самые сокровенные и красивые, осмысленные и значимые её моменты. Над чем я плакала в этот раз? Во-первых, конечно же, сцена встречи Мариуса и Эл. Вначале я была обескуражена, как это, он ее не узнает, а еще так озлоблен, что готов растерзать своих спасителей!.. Но что еще можно было требовать от человека, на глазах которого убили мать? И не просто не дают ему прожить горе, а вокруг во всеуслышанье объявляют, что "ничего такого" не было... какая гнусность, какая ложь... Мальчику 12 лет, он не способен думать о целесообразности, безопасности, благоразумии... И, может, он честнее и искреннее всех собравшихся. Это взрослые могут запирать сердце на замок, зашивать рот суровой ниткой, и в страшном мире Берлина конца 30-х, где все говорят шепотом, а лучше - вообще молчат, нам просто необходим был этот крик разгневанного, обездоленного ребенка. Именно уже подросшего, в котором потеря вызовет не только горе, но и гнев. Который будет уже понимать прекрасно, что происходит, без тонкостей и политики, но в самой что ни на есть правде жизни: там звери. Здесь люди. Да, он натерпелся страха, но гнев выжег страх, гнев оказался сильнее шока, и ребенок, эта чистая душа, уже способен испытывать такую лютую ненависть, что иным бы поучиться у него. Потому что ни о каком "примирении" и уж тем более "принятии" зверства речи быть не может. И когда сейчас я порой слышу о попытках говорить о преступлениях нацистов "помягче", у меня волосы дыбом встают. Как видим, в те времена взрослые, осознанные, зрелые люди вообще не смели назвать это "преступлениями", по крайней мере вслух (и самое страшное, что многие ведь и вправду не считали происходящее таковыми?...), так пусть остаётся этот гневный крик ребенка, который ненавидит. И тем сильнее впечатление, когда он наконец-то из-за кровавой пелены перед глазами сумел различить и узнать перед собою Эл. Свою фею-крестную... Конечно, он по-рыцарски, по-юношески влюблен. И я думаю, это прекрасно для него - быть влюбленным в такую женщину, как Элисон Эшби. Эта влюбленность преподымет его над гневом и болью. Поможет отделить зерна от плевел, набраться стойкости, воли, превратит его из гранаты, которая готова была взорваться в любую секунду от малейшего неосторожного жеста, в борца. Который будет неутомим, но не растратит себя попусту. И Эл - вовсе не та фея, которая заманит этого маленького рыцаря в свой волшебный Бугор, где потеряется счет времени, и все былое покажется дурным сном. Нет. Наоборот, она научит помнить, ценить, поможет, чтобы боль, которая сейчас может довести до саморазрушения, стала болью, которая, как ни странно, придает сил и напоминает о смысле, что к чему. Как у Высоцкого, "если в жарком бою испытал, что почем", и там продолжение про нужные книги, которые прочитал в детстве. Думаю, равноценно будет сказать про нужных людей, которые тебя поддержали, направили и утешили. Потому что Мариус, как всякий переживший потерю человек, нуждается в утешении. но не приторно-сладком, а в трезвящем. И Эл иное дать и не может. Она видит своими глазами весь ужас происходящего, она все прекрасно понимает, она переживает свою боль, свой страх, она ведет свою борьбу. И те чудесные мгновения, о которых говорит в финале этой главы Эд, они возможны между Мариусом и Эл именно потому, что там не будет притворства, попыток "сгладить углы", отвлечься на что-то несущественное, затереть и забыть(ся). Это не значит, что в их общении они будут обмусоливать новости или говорить лозунгами сопротивления, но там будет честность и чистый взгляд на мир, даже если разговор будет идти о самых отвлеченных вещах. Да и вообще, мне кажется, когда между людьми _правда_, там не может быть "отвлеченного" и "несущественного". ...к слову, Мариус и книги нужные читает. Конечно же, рискует. И с точки зрения взрослого, который болеет душой за жизнь мальчика, мне, как и Эду, хочется посетовать, что вот, он неосмотрителен, зазря подвергает себя опасности, рискует... Но не могу не понять Эл, которая говорит о Ремарке под полой пальто Мариуса с гордостью. И конфликт, который на протяжении главы охладил отношения Эда и Эл касательно всей ситуации, тоже очень понятен. Эл вся - сердце, она чувствует, что вот сейчас - самые что ни на есть мгновения жизни, и ее мечта стать матерью вот так внезапно осуществилась. Конечно, она видит в Мариусе сына. С самого начала видела. Это невероятно трогательно не в слезливо-сентиментальном смысле, а опять же в своей правде, в том, что это - кусочек счастья для несчастной Эл, и это надежда и возможность приподняться после потерь для Мариуса, это тот опыт, который жизненно необходим им обоим. Второй раз меня пробило, когда Эд вновь вспоминал об аварии своих родителей. Теперь его мысли были сконцентрированы вокруг отца. И эти говорящие без всяких слов подробности... Как он аккуратно уложил его руку... Как ему пришло осознание, что на горячая, потому что на самом деле уже остыла, но ее нагрело солнце... И страх, и ужас, и боль, и оцепенение, которое приносит потеря, и то таинственное действие любви, которое выражается в горе. Шокировал эпизод с Эрихом, вот же подонок, мало из него Эд сделал отбивную? Кстати, вспоминаю, что я была уверена тогда на боксерском поединке, что Эд его именно что насмерть избил (и, кажется, сам Эд так решил поначалу). Сейчас допускаю, что Эд (и я) подумал так, потому что пережил внутри ту ненависть и остервенелую ярость, которая и доводит человека до возможности совершить убийство. Внутри переступлена какая-то грань, и это пугает. Не успела я задуматься, испытываю ли облегчение, что Эд все-таки не убил Эриха, как эта скотина (пардон, но мерзавец же) вваливается в сюжет и самым варварским образом ведет Эда на пытки... просто потому что может. Просто потому что он не Зофт, который удовлетворился бы ответами Эда и отступил до поры, а потому что сделал именно то, чего Зофт себе не позволяет: выбесило его, что Эд явно умнее, находчивее и проворнее, и просто использовал право сильного. То бишь, наделенного властью и не обремененного больной рукой. Наверное, самое шокирующее в этой сцене именно то, что Эд почти что уже вышел сухим из воды благодаря своим умным ответам и прекрасной выдержке, но суровая реальность показала, что ты можешь быть хоть семи пядей во лбу (и это оценят Зофт или Гиббельс), а такие дуболомы, как Эрих, только больше выбесятся и потащат тебя в подвал, просто потому что могут. И, конечно, долгая партия с Зофтом может привести к последствиям попросту необратимым и гораздо более страшным, чем сеанс избиения за десять метров от собственного рабочего места, однако вот это отсутствие всяких правил, беспринципность, звериная жестокость и тупая сила... Это страшно. Страшно, страшно... 1 |
|
|
отзыв на главы 3.13-3.15, 2 часть
Показать полностью
Интересен был отрывок от лица Зофта, как всегда, мурашки по коже пробегают, когда благодаря мастерству автора как бы влезаешь в шкуру зверя. Так было с Биттрихом, с насильником в Хрустальную ночь, теперь вот - очередной хищник. Умный, самовлюбленный, уверенный, что он идет на жертву ради "искусства контрразведки", просиживая часы в неудобной машине. И раздумывает над тем, как бы прижать беззащитную девушку, заставив ее пройти через ужас, боль и унижение, лишь бы "найти доказательства". Ну да, он-то "играет по правилам". Жуть. Зато какая красивая и эффектная сцена погони! Как Эд выложился на все сто! Такое опасное и красивое сочетание предельного риска и максимального контроля... Да, я вторила словам Эл: "Никогда не видела тебя таким..." Вспомнила сцену, где Руфус катает Росауру на метле)) Обстоятельства у них, конечно, куда как благоприятнее, здесь-то у Эда ни толики "лихачества ради лихачества". Он спасает их жизни, но в то же время играет с огнем. Он дает нам увидеть на пару мгновений, в каком адском напряжении он живет каждодневно, и этот порыв, от него веет такой жизненной силой, жаждой, скоростью... Вспоминаю о том, как Эд увлекся гонками вскоре после смерти родителей, чтобы на грани жизни и смерти ловить этот адреналин и чувствовать себя живым. Мне кажется, это была главная потребность у него и сейчас. Постоянно играть роль, быть на пределе контроля, оберегать Эл, оставаться сильным, невозмутимым, несокрушимым... Вот так красиво и пугающе прорвалось это напряжение. Знакомство с Кете вселяет веру в сильных, несломленных людей, которых изрядно пинала судьба, но они не сдались. В ее положении она может подвергнуться насилию, преследованию, быть заключенной в тюрьму, лагерь, а то и вовсе быть расстерелянной, в любой момент, но она упорно и неутомимо делает свое дело. Да, отношение к Фоули потихоньку меняется, по крайней мере, рекомендация его как друга Кете многого стоит, и факт, что он разведчик, обуславливает его поведение уже не столько трусостью и черствостью, сколько предусмотрительностью и осторожностью. Однако встреча с феей, конечно, заставила и улыбнуться, и удивиться. Ну, Эд прав, ничего не попишешь: все мужчины теряют голову от Агны Кельнер, он по себе знает))) И то, как этот с иголочки одетый, запакованный в твидовый костюмчик британец вдруг потерял дар речи, способность мыслить трезво и связывать слова последовательно, было даже забавно, вот только, увы, чары Агны не привели к нужному результату: вместо того, чтобы пасть перед ней на колени и спешить выполнить любой каприз, Фоули отказал ей и весьма жестко, отказал в присутствии своей подруги Кете. Быть может, подумал, что его пытаются перевербовать?...)))) Да, эта линия однозначно цепляет и интригует. Но... не могу не подчеркнуть, какой щемящий осадок оставляет последняя фраза Эда, что таких вот мгновений у Эла и Мариуса, а там и у них, уже, может и не будет. Конец 38 года. Через полгода уже начнется Вторая мировая война. А до конца истории (каждый раз с тоской смотрю на оглавление) осталось всего три главы... И мне и хочется, и колется листать страницы дальше. Слишком страшно за героев - раньше, хоть с ними и происходили самые ужасные вещи, а все-таки объем книги располагал к надежде, что они как-нибудь выберутся. Но теперь... неужели вот-вот будет подведена черта?.. Спасибо вам огромное! 1 |
|
|
Anna Schneiderавтор
|
|
|
1 часть ответа.
Показать полностью
h_charrington Здравствуйте! Вот, я снова плачу. Вообще я очень ценю моменты, когда искусство вызывает во мне такую реакцию. Это настоящие переживания, они как ничто показывают, как искусство проникает в жизнь и обнажает самые сокровенные и красивые, осмысленные и значимые её моменты. Спасибо за такие чудесные слова. Эти главы писались в диком цейтноте: не знаю, что или кто меня торопил. Но писать все эти главы, заключительные, спокойно и медленно, я просто не могла. И если получилось передать в тексте хотя бы часть настоящего, то я очень-очень рада. Над чем я плакала в этот раз? Во-первых, конечно же, сцена встречи Мариуса и Эл. Вначале я была обескуражена, как это, он ее не узнает, а еще так озлоблен, что готов растерзать своих спасителей!.. Но что еще можно было требовать от человека, на глазах которого убили мать? И не просто не дают ему прожить горе, а вокруг во всеуслышанье объявляют, что "ничего такого" не было... какая гнусность, какая ложь... Мальчику 12 лет, он не способен думать о целесообразности, безопасности, благоразумии... И, может, он честнее и искреннее всех собравшихся. Это взрослые могут запирать сердце на замок, зашивать рот суровой ниткой, и в страшном мире Берлина конца 30-х, где все говорят шепотом, а лучше - вообще молчат, нам просто необходим был этот крик разгневанного, обездоленного ребенка. Я сама была удивлена встречей с Мариусом. Таким Мариусом, и удивлена такой встречей. И, в то же время, а как могло быть иначе? Он видел то, что никому, тем более ребенку (еще) не пожелаешь. И всему этому гневу, всей этой боли в том Берлине не то что нет, а, по заветам нацистов, не должно быть места. И что делать? Как выразить эту дикую боль? Вот и остаются безрассудные, конечно, с точки зрения взрослых, забеги по городу с ножом. Но и сами взрослые недалеки от своей грани. Когда грань стирается, некоторые взрослые идут к веревке или к воде. Я не думаю, что Кете, Эл или Эд не честны здесь. Они, как никто, все понимают. Все, на самом деле. И, если бы могли, они бы тоже кричали от ужаса. Но нужно, необходимо ради жизни смирить себя. Иначе из этого ада и Мариус не выберется. Эд, как никто, понимает боль Мариуса. К тому же, он и Эл переживают боль от утраты своего малыша. У Кете много своих ран, ее жизнь тоже не благополучна. Но ради спасения нужно перестать кричать. И действовать. Иначе все они умрут от горя, если задумаются о нем и остановятся на месте. Конечно, это и больно, и невыразимо, и страшно. Но дорога ведет только вперед. И когда сейчас я порой слышу о попытках говорить о преступлениях нацистов "помягче", у меня волосы дыбом встают. Я сначала хотела пересказать своими словами. Но лучше дам прямую цитату (Борис Полевой, "В конце концов"): "Вот подвал — опять трупы, сложенные аккуратными штабелями, как на заводских складах размещают сырье. Да это и есть сырье, уже рассортированное по степени жирности. Вот отдельно в углу отсеченные головы. Это отходы. Они негодны для мыловарения, а может быть, нацистская наука отстала от потребностей жизни и еще не нашла метода промышленного использования человеческих голов. А вот расчлененные человеческие тела, заложенные в чаны, — их не успели доварить в щелочи". Это даже невозможно ни осмыслить, ни комментировать. И это — только часть сделанного нацистами. И об этом "помягче"?.. И тем сильнее впечатление, когда он наконец-то из-за кровавой пелены перед глазами сумел различить и узнать перед собою Эл. Свою фею-крестную... Конечно, он по-рыцарски, по-юношески влюблен. И я думаю, это прекрасно для него - быть влюбленным в такую женщину, как Элисон Эшби. Да, вы правы. Любовь с людьми способна творить чудеса. И здесь такое чудо Мариусу необходимо. Чтобы не сойти с ума. Потому что Мариус, как всякий переживший потерю человек, нуждается в утешении. но не приторно-сладком, а в трезвящем. И Эл иное дать и не может. Она видит своими глазами весь ужас происходящего, она все прекрасно понимает, она переживает свою боль, свой страх, она ведет свою борьбу. И те чудесные мгновения, о которых говорит в финале этой главы Эд, они возможны между Мариусом и Эл именно потому, что там не будет притворства, попыток "сгладить углы", отвлечься на что-то несущественное, затереть и забыть(ся). Это не значит, что в их общении они будут обмусоливать новости или говорить лозунгами сопротивления, но там будет честность и чистый взгляд на мир, даже если разговор будет идти о самых отвлеченных вещах. Впереди очень важный разговор Эл и Мариуса. И он именно такой, как вы предполагаете. А те слова Эдварда вызывают во мне острую боль. Потому что известно, что и сколько за ними стоит. И конфликт, который на протяжении главы охладил отношения Эда и Эл касательно всей ситуации, тоже очень понятен. Эл вся - сердце, она чувствует, что вот сейчас - самые что ни на есть мгновения жизни, и ее мечта стать матерью вот так внезапно осуществилась. Конечно, она видит в Мариусе сына. С самого начала видела. Это невероятно трогательно не в слезливо-сентиментальном смысле, а опять же в своей правде, в том, что это - кусочек счастья для несчастной Эл, и это надежда и возможность приподняться после потерь для Мариуса, это тот опыт, который жизненно необходим им обоим. Иначе и здесь быть не могло. Эл — именно раскрытое сердце. И ничто не может заставить ее действовать иначе. Да, я тут сама говорю про "делать", "собраться". Но когда на плечах столько всего, то иногда это становится совсем невыносимой тяжестью. Ценно и радостно для меня то, что Эл и Эд теперь, даже будучи в непонимании, иначе ведут себя. Оба. Переживают не меньше, но внешне ведут себя иначе. И за всем этим — громадное понимание боли другого, сочувствие, несогласие с ним и любовь. Второй раз меня пробило, когда Эд вновь вспоминал об аварии своих родителей. Теперь его мысли были сконцентрированы вокруг отца. И эти говорящие без всяких слов подробности... Как он аккуратно уложил его руку... Как ему пришло осознание, что на горячая, потому что на самом деле уже остыла, но ее нагрело солнце... И страх, и ужас, и боль, и оцепенение, которое приносит потеря, и то таинственное действие любви, которое выражается в горе. Спасибо, что так сочувствуете Эдварду. Мне безумно больно за него. И я очень горжусь им. Тем, как он смог, — пусть неровно (а ровно не будет уже никогда) — собрать себя напополам с этой утратой. Не люблю мелодраматическиих сцен, с криками "на разрыв аорты". Но в таких движениях, как здесь, деталях, взглядах, касаниях руки, мыслях — гораздо больше правды. Они, в то же время, очень точно характеризуют Эда. И воспоминания эти накрывают Милна все чаще. Значит, и его прочность подтачивается. Шокировал эпизод с Эрихом, вот же подонок, мало из него Эд сделал отбивную? Кстати, вспоминаю, что я была уверена тогда на боксерском поединке, что Эд его именно что насмерть избил (и, кажется, сам Эд так решил поначалу). Сейчас допускаю, что Эд (и я) подумал так, потому что пережил внутри ту ненависть и остервенелую ярость, которая и доводит человека до возможности совершить убийство. Внутри переступлена какая-то грань, и это пугает. Не успела я задуматься, испытываю ли облегчение, что Эд все-таки не убил Эриха, как эта скотина (пардон, но мерзавец же) вваливается в сюжет и самым варварским образом ведет Эда на пытки... просто потому что может. Просто потому что он не Зофт, который удовлетворился бы ответами Эда и отступил до поры, а потому что сделал именно то, чего Зофт себе не позволяет: выбесило его, что Эд явно умнее, находчивее и проворнее, и просто использовал право сильного. А вот там Эрих — во всей своей красе. Конечно, нет разницы (только внешняя) между ним и Зофтом. И, кстати, говоря о Зофте, скажу, что он еще себя "проявит". Так, как Эриху не снилось и не думалось. Я думаю, в конце поединка Милна ослепило его эмоциональное состояние, мысли об Элис, и знание, что он убивал, и — много. Именно поэтому в конце боксерского раунда у него нет никакой радости от победы, с которой его поздравляли буквально на каждом шагу. Да, — это Хайде, и он враг. Но и в отношении к нему Милн не испытывает жажды убийства. Ну, а Эрих, как видим, ни в чем себя не сдерживает. Тем больше, что знает за собой именно все то, что так бесит его в Харри — ум, утонченность, выдержку, настоящую силу. Поэтому Хайде делает то, что в его власти. Может увести на допрос. И уводит. И, конечно, долгая партия с Зофтом может привести к последствиям попросту необратимым и гораздо более страшным, чем сеанс избиения за десять метров от собственного рабочего места, однако вот это отсутствие всяких правил, беспринципность, звериная жестокость и тупая сила... Это страшно. Страшно, страшно... Нам все еще необычно отсутствие морали и правил. И пока это так, мы остаемся людьми. А вот это "могу" Эриха стоит именно на том, что в его власти допросить Кельнера. Неважно, виновен он или нет. Само чувство власти и безнаказанности (хоть забей до смерти) таких мразей пьянит. И да, это страшно. |
|
|
Anna Schneiderавтор
|
|
|
h_charrington 2 часть.
Показать полностью
Интересен был отрывок от лица Зофта, как всегда, мурашки по коже пробегают, когда благодаря мастерству автора как бы влезаешь в шкуру зверя. Так было с Биттрихом, с насильником в Хрустальную ночь, теперь вот - очередной хищник. Умный, самовлюбленный, уверенный, что он идет на жертву ради "искусства контрразведки", просиживая часы в неудобной машине. Спасибо за комплимент тексту. Меня же искренне не перестает изумлять вот это непробиваемая уверенность и вера нацистов в то, что они заняты правым делом, и что все, сделанное ими — во имя истины и торжества справедливости. Вот как они смогли так откалибровать свои мозги, все извратить в сути своей? Зато какая красивая и эффектная сцена погони! Как Эд выложился на все сто! Такое опасное и красивое сочетание предельного риска и максимального контроля... Да, я вторила словам Эл: "Никогда не видела тебя таким..." Вспомнила сцену, где Руфус катает Росауру на метле)) Обстоятельства у них, конечно, куда как благоприятнее, здесь-то у Эда ни толики "лихачества ради лихачества". Он спасает их жизни, но в то же время играет с огнем. Он дает нам увидеть на пару мгновений, в каком адском напряжении он живет каждодневно, и этот порыв, от него веет такой жизненной силой, жаждой, скоростью... Вспоминаю о том, как Эд увлекся гонками вскоре после смерти родителей, чтобы на грани жизни и смерти ловить этот адреналин и чувствовать себя живым. Мне кажется, это была главная потребность у него и сейчас. Постоянно играть роль, быть на пределе контроля, оберегать Эл, оставаться сильным, невозмутимым, несокрушимым... Вот так красиво и пугающе прорвалось это напряжение. Взрослый мальчишка тоже нашел способ отпустить накопившееся напряжение:) Есть в Милне этот неутихающий азарт, даже в окружающих обстоятельствах. И эту его остроту, этот кураж, любовь к риску и смелость на грани отчаянности и опасности, я очень в нем люблю. В этом тоже — та самая жажда жизни, о которой вы упомянули. В общем, девочки любуются такими мальчиками:) И в такие моменты — особенно. Улыбнулась той сцене с Руфусом и Росаурой:)) Кому метла, а кому автомобиль. Транспорт роздан согласно времени действия. И я тоже думаю, что чисто по-мужски для Эдварда это важно: выдерживать всё, стараться еще больше. Не только ради себя, но ради любимой Эл. Быть мужчиной и оставаться им, оставаться сильным, быть именно тем, к кому Эл может прибежать ночью, перепуганная от собственных волнений, или сказать: "объясни мне, я, кажется, совсем запуталась". А он улыбнется и объяснит. Знакомство с Кете вселяет веру в сильных, несломленных людей, которых изрядно пинала судьба, но они не сдались. В ее положении она может подвергнуться насилию, преследованию, быть заключенной в тюрьму, лагерь, а то и вовсе быть расстерелянной, в любой момент, но она упорно и неутомимо делает свое дело. Кете Розенхайм — это реальная личность. И место ее работы, и детали ее биографии, все — от реальной Кете. Она в самом деле занималась программой "Киндертранспорт", она помогла огромному количеству людей. И не уезжала из Берлина до самой последней, крайней минуты. Сопровождала детей в поездках, и могла бы выехать сама. Но возвращалась, и помогала снова и снова. Только когда ей уже совсем грозила смертельная опасность, она выехала из Берлина вместе со своей мамой. На таких чудесных людях и держится наш мир. Однако встреча с феей, конечно, заставила и улыбнуться, и удивиться. Ну, Эд прав, ничего не попишешь: все мужчины теряют голову от Агны Кельнер, он по себе знает))) И то, как этот с иголочки одетый, запакованный в твидовый костюмчик британец вдруг потерял дар речи, способность мыслить трезво и связывать слова последовательно, было даже забавно, вот только, увы, чары Агны не привели к нужному результату: вместо того, чтобы пасть перед ней на колени и спешить выполнить любой каприз, Фоули отказал ей и весьма жестко, отказал в присутствии своей подруги Кете. Быть может, подумал, что его пытаются перевербовать?...)))) Да, эта линия однозначно цепляет и интригует. Хотелось хотя бы где-то, хоть капельку иронии и улыбки. И тут, — бац! — Фрэнк:)) Его, кстати, чувства к Агне доведут до отчаяния, и он предпримет свой рискованный поступок. Но... не могу не подчеркнуть, какой щемящий осадок оставляет последняя фраза Эда, что таких вот мгновений у Эла и Мариуса, а там и у них, уже, может и не будет. Конец 38 года. Через полгода уже начнется Вторая мировая война. А до конца истории (каждый раз с тоской смотрю на оглавление) осталось всего три главы... И мне и хочется, и колется листать страницы дальше. Слишком страшно за героев - раньше, хоть с ними и происходили самые ужасные вещи, а все-таки объем книги располагал к надежде, что они как-нибудь выберутся. Но теперь... неужели вот-вот будет подведена черта?.. Мне безумно больно было заканчивать историю моих ребят. Я очень остро и долго все это переживала. Но, работая над этими главами, знала: они — завершающие. Я вам очень благодарна за такое искреннее, неравнодушное прочтение истории. Очень не хочется расставаться с таким собеседником и читателем, как вы. Могу предложить в качестве нового текста (если, конечно, вы захотите читать) "Хрупкие дети Земли". Космоса там совсем немного, и только в первой главе. А истории о людях, по сути, все те же: со своими взлетами и падениями, со своим светом и со своей любовью. И, конечно, незаурядный главный герой, с ярко-голубыми глазами:) Спасибо за отзыв! |
|
|
Здравствуйте!
Показать полностью
Давно прочитала главу, но не сразу нашла время, чтобы написать отзыв. Тем более ощущения были очень тягостными от первой части, где идет мучительное погружение в самые жуткие воспоминания Эда... Честно, в какой-то момент натурализм и звериное удовольствие, которое получал риф от пыток Эда достигли такой грани, что читать стало почти невыносимо - в хорошем смысле слова, поскольку эффект оглушительный получился. Это ни в коем случае не воспринимается как "чернуха ради чернухи", это вновь мучительный, я полагаю, и для автора, и для читателя эксперимент - взглянуть на происходящее глазами палача, а не жертвы, и мы, лишенные сочувствия к герою, глазами которого смотрим на мир, должны в подробностях впитывать каждую секунду его злодеяния. Мы уже проходили это с Биттрихом, с Ханной, с бандитом из переулка, с Зофтом, и вот - безымянный риф. Которого, несмотря на жуть сцены, можно понять (не оправдать, но понять... до тех пор, пока он не переходит грань человечности и не становится сущим зверем. Потому что одно дело - защищать свою землю и уничтожать врага, а другое - вот это хищническое, садистское извращенное удовольствие от причинения мук другому живому существу). война, которая ведется в отрыве от понятий долга, чести и моральных законов, всегда будет войной зверей. Долгие годы, века, земля рифов была разменной монетой "цивилизованных" людей. Которые и в середине 20 века фотографируются с головами рифов. И считают себя проводниками Культуры именно что с Большой Буквы. Ох, тема колониализма и "бремени белого человека" - очень болезненная и приводящая меня в возмущение, по сути-то недалеко ушедшая от истории нацизма. Мне кажется очень важным, что в вашей книге линия Эда проходит в нацистский Берлин именно через войну с рифами, хотя в Европе тех лет тут и там творились зверства, вполне себе предвещавшие ад 2МВ. Но мне особенно кажется ценным, что Эд, скажем так, побывал по обе стороны баррикад. Он выступил (почти невольно) на стороне поработителей, захватчиков, которые пришли в чужую землю как хозяева, хотя не имели на это никакого иного права, кроме варварского права сильного. Конкретно Эд, быть может, не совершал военных преступлений, но, как на любой войне, он убивал, только вопрос, ради чего и ради кого. Просто потому что приказали, потому что направили. Солдату не пристало задумываться, за что он убивает врагов, правда?.. или благодаря опыту 20 века этот вопрос все же выходит за рамки риторического? Конечно, читая о мучениях Эда, попросту нечеловеческих (признаюсь, некоторые моменты я просто не смогла прочитать, зная, что у меня бывает непредсказуемая реакция на натуралистические описания ранений - прости, Эд! Вот видишь, я, например, не смогла полностью испить твою чашу...), невероятно ему сочувствуешь, но больше задаешься в конце концов вопросом: почему, почему люди становятся как звери? Почему причиняют друг другу столько боли, страданий, почему в них (да что уж там, в нас) столько вражды и ненависти? Где предел, "доколе"? Такое ощущение, что предела нет. И боль терзает Эда всерьёз, как будто всё это было не то что вчера, а вот прямо сейчас, пока он спал в объятьях Элис. Страх, боль и ненависть вырывают его из призрачного покоя, отнимают у него и без того сосчитанные уже минуты нежности и радости. Бедный Эд, бедная Элис! Сердце ее привело к нему, она почувствовала, что он не справляется, что он ослаб, что ему больно и тяжело. Но вот правда, как в такое "впустить" другого человека? Даже не то что пустить... рассказать-то можно. Можно описать. Даже такими вот страшными, жестокими словами. Вопрос скорее, а поможет ли, если другой человек будет об этом знать? Насколько это безотказный способ, когда мы поверяем душу другому? Очень велик риск столкнуться с непониманием, преувлеличенной жалостью или любой другой реакцией, которая, ну вдруг, сделает только хуже? Быть может, и не всегда обязательно душу наизнанку выворачивать, бередить раны? Просто тот, другой, должен смириться, привыкнуть и с пониманием отнестись к этим состояниям, болям, страхам своего избранника. Не торопить, не сетовать, не закрывать глаза. И... не думать, что это когда-нибудь пройдет. У меня в черновиках Росаура говорит Руфусу: это пройдет. А он отвечает: лучше жить так, как будто не пройдет. И мне видится в этом не пессимизм или упадничество, а трезвый взгляд и мужество. Если у человека отрублена рука, он не живет с мыслью, что она когда-нибудь снова вырастет. Он приноравливается быть одноруким. Не называя себя "здоровым", кстати. Эта честность, которой, мне кажется, в наше время очень старательно избегая, на каждую проблему придумывая кучу других названий, лишь бы не называть проблему проблемой, что в итоге это сводится не к решению ее, а наоборот, к усугублению. Мне кажется, мы на протяжении всей истории еще не видели Эда настолько слабым. Говорю это безо всякого, Боже упаси, разочарования или укора, он непрестанно заслуживает восхищение, что вообще держится и взваливает все на себя, но его неизменная улыбка, с которой он выходил из страшных переделок и словесных дуэлей с самим Гиббельсом, создавала иллюзию, что его стальные нервы и железная выдержка не могут быть сломлены вообще. Но они истончаются. И здоровье подводит. И это так больно читать и видеть, когда молодой, сильный, красивый человек в своем возрасте уже растратил себя, уже не может с той же легкостью, как и в 20 лет, выйти из кризиса, побороть болезнь, бессонницу, нервозность и тд. Это очень трагично и жизненно, когда человек оглядывается сам на себя и вдруг видит, что он уже "не тот, что раньше". Как ни прискорбно, это касается всех нас. И в мирное время, и в более опасное. Такая неумолимость времени и жизни. В случае Эда и Элис помноженная на беспощадность обстоятельств. Омерзительные попытки Зофта унизить и вывести из себя Эда и Эл вызывают чувство отвращения. Хотелось сказать ему, ну что ж, и ты, "злодееще", оказался червем калибра Ханны, который только и может придумать, чтобы давить беззащитной женщине на ее самое очевидно больное место, и ухмыляться? Этот подлый прием, низкий и грязный, обличает и в высокоумном Зофте и в глупой Ханне людей, которые понятия не имеют, что такое любовь. Им кажется, что спустя пять лет брака Эл и Эд вдруг с их насмешек возьмут и разбегуться? Разули бы хоть чуток глаза свои, увидели бы, что Эд за Эл горой, уж сколько раз их пытались рассорить, развести, но даже измена их брак не расколола, чего ж они... Глупые, мерзкие твари. Простите, иначе язык не поворачивается помягче сказать. Не заслуживают такие чудища мягкости и снисхождения. А Эл и Эд... держитесь, ребята. Держитесь. На фоне пережитого эти гадкие поддевки - как укусы комара слону, но, увы, если укус произведен в больное место, он все равно будет ощутимым. Для Эл бездетность - причем не врожденная, а приобретенная по вине людей и самого времени - это незаживающая рана. Никак этого не исправить. И я просто говорю: слава Богу, сейчас у нас все-таки хоть немного сменился менталитет. Сейчас человек, который попробует осуждать вслух женщину за бездетность, вызовет только осуждение окружающих (я надеюсь), а женщина не будет (надеюсь) испытывать стыд или чувство вины! Боль - да, но это будет ее выбор, а не давление общественности. Ох, как же это гнусно. Эл, мое сочувствие всецело с тобой. Знаете, мне приснилось после этой главы вскоре, что я читаю следующую, и она оканчивается тем, что Эл и Эд на каком-то званом вечере, и вдруг в дом врывается отряд солдат. Всем понятно, что дорога отсюда теперь одна.. И... Эд достает гранату, говорит Эл, что любит ее, и на его улыбке заканчивается глава. И я боюсь открыть следующую, потому что не знаю, что нас там ждет. Вдруг - Эпилог и пара строк? Или мучительное описание последних минут? Вот и сейчас смотрю на две (!!!) оставшиеся главы. Не могу оторваться от этой истории (разве приходится прерываться из-за насущных дел), но как думаю, что там, на следующей странице, сразу так страшно и горько... Потому что ощущение, что жизни Эда и Эл могут оборваться в любую, вот в совершенно любую секунду, очень острое. Особенно после того, как оба они признали, что не хотят обживаться в новом доме... Но еще хуже - думать о том, а вдруг кому-то придется пережить другого, и как это вообще будет возможно для них, как их великая любовь это стерпит? Хотя, что, разве Кайла и Дану не любили друг друга, разве война не обрекала любимых на то, чтобы расстаться навсегда? Это настолько общая трагедия, рядовая, можно сказать, но я просто не могу вместить эту боль, думать, что с этим в те страшные времена столкнулся, считай, каждый.... 1 |
|
|
Anna Schneiderавтор
|
|
|
h_charrington
Показать полностью
Здравствуйте! Часть 1. Тем более ощущения были очень тягостными от первой части, где идет мучительное погружение в самые жуткие воспоминания Эда... Честно, в какой-то момент натурализм и звериное удовольствие, которое получал риф от пыток Эда достигли такой грани, что читать стало почти невыносимо - в хорошем смысле слова, поскольку эффект оглушительный получился. Это ни в коем случае не воспринимается как "чернуха ради чернухи", это вновь мучительный, я полагаю, и для автора, и для читателя эксперимент - взглянуть на происходящее глазами палача, а не жертвы, и мы, лишенные сочувствия к герою, глазами которого смотрим на мир, должны в подробностях впитывать каждую секунду его злодеяния. Я понимаю. Писать подобные моменты очень тяжело. Да, как автор я в момент написания знала, — Эд выжил, выбрался и из той "передряги". Но все же это очень страшно. И дело как раз в том, как рифу нравилось управлять той ситуацией. Я тоже могу понять враждебность к противнику, до определенного момента. Но здесь, как вы верно заметили, мы видим иное: удовольствие от расправы, с которой рифа никто не торопил, и торопить не мог. Это наслаждение болью другого. Пытка физической болью. Да, Милн тоже убивал на той войне и потом, он пришел, как и другие французы с испанцами, как сторона силы, с расчетом на выигрыш. Только вот выигрыш в таких битвах, — всегда за теми, кто управляет такими солдатиками. Как у Высоцкого: Будут и стихи, и математика, Почести, долги, неравный бой. Нынче ж оловянные солдатики Здесь, на старой карте, встали в строй. Вот и там, в Фесе или в Марокко, они — такие же солдатики. Я не оправдываю Эда, мне в этой ситуации важно было, как автору, решить иное: показать, как появились те шрамы, что у него остались. Не знаю, возникают ли у читаталей вопросы об этом по мере чтения текста, но мне, как автору, было важно дать ответ и на эту ситуацию. И та война, в самом деле, очень сильно повлияла на него. В общем, мы видим, что это событие — из ряда тех, что всегда с ним. И как Эл (если проводить параллель между ними и тем, что с ними происходило в их 18-19 лет) навсегда запомнит домогательства Гиббельса, случившиеся в самое первое ее время в Берлине, так и Эд будет дальше нести в себе след той войны. Мне кажется очень важным, что в вашей книге линия Эда проходит в нацистский Берлин именно через войну с рифами, хотя в Европе тех лет тут и там творились зверства, вполне себе предвещавшие ад 2МВ. Но мне особенно кажется ценным, что Эд, скажем так, побывал по обе стороны баррикад. Он выступил (почти невольно) на стороне поработителей, захватчиков, которые пришли в чужую землю как хозяева, хотя не имели на это никакого иного права, кроме варварского права сильного. Конкретно Эд, быть может, не совершал военных преступлений, но, как на любой войне, он убивал, только вопрос, ради чего и ради кого. Думаю, и тогда, и позже, повзрослев, оказавшись в Берлине, Эд понимает: та война, как и всякая другая колониальная, — на обогащение. Ему, мальчишке, как и испанским нищим мальчишкам, которых гнали на войну, с той битвы "ничего": умерли? И ладно. А за счет того, что Милн, как вы сказали, побывал по обе стороны баррикад, я уверена: никакого удовольствия от убийства рифов он не испытывал. Ни тогда, ни позже. И он — такая же разменная монета. Я пишу это, и понимаю, что если бы не Эд, столь близкий мне герой, я написала бы иначе. Потому что для меня всегда это вопрос: вольный или невольный ты участник войны? Я не особо верю в прозрение или раскаяние пленных, и сегодняшних, со стороны ВСУ, в том числе. Я не хочу их слушать. Но здесь, в случае Милна, для меня все иначе. И все же, такой злости, зверства, что показывает риф, в нем нет. Я ни разу не замечала в нем удовольствия или наслаждения от боли другого, даже противника. Даже если это Хайде, к примеру. И, хотя, по крайней мере, во Второй Мировой ясно, что чему противостоит (для Эда тоже ясно), выходит, что та, рифская война — очередная "просто война". А Франция и сегодня мучительно не хочет отпускать свои колонии. Которые сегодня уже типа и не колонии. Конечно, читая о мучениях Эда, попросту нечеловеческих (признаюсь, некоторые моменты я просто не смогла прочитать, зная, что у меня бывает непредсказуемая реакция на натуралистические описания ранений - прости, Эд! Вот видишь, я, например, не смогла полностью испить твою чашу...), невероятно ему сочувствуешь, но больше задаешься в конце концов вопросом: почему, почему люди становятся как звери? Почему причиняют друг другу столько боли, страданий, почему в них (да что уж там, в нас) столько вражды и ненависти? Где предел, "доколе"? Такое ощущение, что предела нет. Я тоже не поклонник таких описаний. Но лично мне, как автору, было нужно и важно это прописать. Быть со своим героем не только в минуты радости или шутки, но и в такие. Особенно в такие. И задача автора здесь — выдержать и записать. У читателя есть право отойти в сторону, пропустить, если тяжело, а у автора — нет. У него есть вместо этого обязанность пройти со своим героем все пути. Всё увидеть, всё договорить. У меня всё последнее время ощущение такое же: пределов нет. Даже если читать новости быстро. Читаешь и думаешь: как это возможно? И ответа нет. И боль терзает Эда всерьёз, как будто всё это было не то что вчера, а вот прямо сейчас, пока он спал в объятьях Элис. Страх, боль и ненависть вырывают его из призрачного покоя, отнимают у него и без того сосчитанные уже минуты нежности и радости. Бедный Эд, бедная Элис! Сердце ее привело к нему, она почувствовала, что он не справляется, что он ослаб, что ему больно и тяжело. Но вот правда, как в такое "впустить" другого человека? Даже не то что пустить... рассказать-то можно. Можно описать. Даже такими вот страшными, жестокими словами. Вопрос скорее, а поможет ли, если другой человек будет об этом знать? Насколько это безотказный способ, когда мы поверяем душу другому? Очень велик риск столкнуться с непониманием, преувлеличенной жалостью или любой другой реакцией, которая, ну вдруг, сделает только хуже? Быть может, и не всегда обязательно душу наизнанку выворачивать, бередить раны? Просто тот, другой, должен смириться, привыкнуть и с пониманием отнестись к этим состояниям, болям, страхам своего избранника. Не торопить, не сетовать, не закрывать глаза. И... не думать, что это когда-нибудь пройдет. У меня в черновиках Росаура говорит Руфусу: это пройдет. А он отвечает: лучше жить так, как будто не пройдет. Да, я тоже думаю, что для Эда нет временного расстояния между его страшным "прошлым" и тем днем, который для него — сегодняшний. Всё это поразительно об одном, по сути. В Элис, опять же, уже почти ничего не осталось от той юной девочки, только приехавшей в Берлин. А если осталось, то это глубоко спрятано. И теперь она выдерживает такие происшествия. Если раньше Эд все больше помогал ей, а она пряталась за него в поисках защиты, пожимая руку украдкой, то теперь она спасает его. Таков долг. Любви, долг человека. Долг той, что знает всё лучше всех, и обязана, — скрепив свои страдания и страхи, — помочь и превозмочь. Да, Эдвард — сильный. Но иногда даже самому сильному нужна помощь. Я думаю, что о войне Эд никогда не скажет Эл. Не потому, что она не поймет. "Благодаря" Берлину она многое сможет понять и без слов. Но как это объяснить, какими словами выразить? Эда во многом поддерживает именно любовь Элис в настоящем. А то его прошлое, стань оно известно Эл, отяготит их двоих. Лучше его оставить там, где оно уже есть, — в прошедшем времени. В ответе Руфуса мне видится очень много Руфуса и истинной правды. Я согласна с ним. И с вами. Сегодня мы, как будто, все пытаемся сказать себе и другим: как бы чего не вышло. Не говорить прямо. Не говорить серьезно. Не пугать. "Давайте не будем о грустном". Можно, конечно. Только где в этом правда? И настоящее? Или мы всегда будем стоять за этот удобный инфантилизм? Из серии "на Украине нацизма нет". Нет, что вы. Просто так поклонники Гитлера с флажками, да в ночных шествиях ходили. Но вы не бойтесь, это совсем не опасно. Мне кажется, мы на протяжении всей истории еще не видели Эда настолько слабым. Говорю это безо всякого, Боже упаси, разочарования или укора, он непрестанно заслуживает восхищение, что вообще держится и взваливает все на себя, но его неизменная улыбка, с которой он выходил из страшных переделок и словесных дуэлей с самим Гиббельсом, создавала иллюзию, что его стальные нервы и железная выдержка не могут быть сломлены вообще. Но они истончаются. И здоровье подводит. И это так больно читать и видеть, когда молодой, сильный, красивый человек в своем возрасте уже растратил себя, уже не может с той же легкостью, как и в 20 лет, выйти из кризиса, побороть болезнь, бессонницу, нервозность и тд. Это очень трагично и жизненно, когда человек оглядывается сам на себя и вдруг видит, что он уже "не тот, что раньше". Как ни прискорбно, это касается всех нас. И в мирное время, и в более опасное. Такая неумолимость времени и жизни. В случае Эда и Элис помноженная на беспощадность обстоятельств. Да, здесь он слаб от усталости, устал от взятой на себя тяжести. И взято все это по причине того, что кроме него — никто. А он, как и все, — просто человек. Который и без того не дает себе ни минуты покоя, который взрастил в себе это долженствование гораздо выше собственных нужд или желаний. Это и накопительный эффект. Чувствовалась, к моменту написания этой главы, громаднейшая усталость от всего. Иногда я даже не знала, как мы из этого выйдем. И выйдем ли. А страшнее становится именно от того, что и такие сильные, как Милн — устают. И за собой, конечно, все эти перемены от времени примечаешь. Но сдаваться все равно нельзя. Даже если не видно пути. 1 |
|
|
Anna Schneiderавтор
|
|
|
Часть 2.
Показать полностью
Омерзительные попытки Зофта унизить и вывести из себя Эда и Эл вызывают чувство отвращения. Хотелось сказать ему, ну что ж, и ты, "злодееще", оказался червем калибра Ханны, который только и может придумать, чтобы давить беззащитной женщине на ее самое очевидно больное место, и ухмыляться? Этот подлый прием, низкий и грязный, обличает и в высокоумном Зофте и в глупой Ханне людей, которые понятия не имеют, что такое любовь. Им кажется, что спустя пять лет брака Эл и Эд вдруг с их насмешек возьмут и разбегуться? Разули бы хоть чуток глаза свои, увидели бы, что Эд за Эл горой, уж сколько раз их пытались рассорить, развести, но даже измена их брак не расколола, чего ж они... Глупые, мерзкие твари. Простите, иначе язык не поворачивается помягче сказать. Ничего:) Я про Ханну и не так еще думала. Про Зофта нет, потому что как-то предпочитала не тратить на него сил. Просто сесть, написать и увидеть, как с ним будет в конце истории. Зофт, в силу своего ума, конечно, не похож на Хайде, которого ненависть и жажда мести уже накрывает. Зофт выглядит этаким "достойным противником", но, как видно, ничего он не гнушается. Да и зачем, если все эти "приемы" так для него естественны, привычны? Уколы Ханны на счет бездетности Эл, еще можно хоть как-то списать на ее эмоциональную жестокость и тупость, и зависть, и дикую ревность. Но тут... "мужчина"... Не нашел, как и безумная Ланг, ничего лучше этих мер? Про любовь в отношении Зофта и Ханны и таких, как они, даже говорить не приходится. Это просто что-то несовместимое. Внешне — люди. А внутри ничего нет. Одни директивы да настройки нацизма. И вместе с тем, я очень рада той потрясающей, настоящей близости, что установилась между Элис и Эдвардом. Это то, чего я им всегда желала. Но в иные, очень острые и страшные моменты, совсем не была уверена, что они смогут дойти до такого сближения. Потому что, к примеру, после измены Эда, у меня не была уверенности и в том, что они смогут быть вместе. Так, как того требует разведка (если говорить об их общем деле; а чувств Элис и Эдварда тогда и касаться было страшно). А Эл и Эд... держитесь, ребята. Держитесь. На фоне пережитого эти гадкие поддевки - как укусы комара слону, но, увы, если укус произведен в больное место, он все равно будет ощутимым. Для Эл бездетность - причем не врожденная, а приобретенная по вине людей и самого времени - это незаживающая рана. Никак этого не исправить. И я просто говорю: слава Богу, сейчас у нас все-таки хоть немного сменился менталитет. Сейчас человек, который попробует осуждать вслух женщину за бездетность, вызовет только осуждение окружающих (я надеюсь), а женщина не будет (надеюсь) испытывать стыд или чувство вины! Боль - да, но это будет ее выбор, а не давление общественности. Ох, как же это гнусно. Эл, мое сочувствие всецело с тобой. Спасибо большое. Они держатся. Конечно, слова, какими бы сильными ребята ни были, доходят в какой-то степени до цели. Но... нужно именно держаться. Непозволительно, как бы больно ни было, перед лицом настоящих угроз, тратиться на Зофта. Он этого и добивается, конечно. Я думаю, что менталитет наш, на деле, в смысле бездетности, сменился именно "немного". Но хорошо, что возможностей, свободы у женщин стало больше. Знаете, мне приснилось после этой главы вскоре, что я читаю следующую, и она оканчивается тем, что Эл и Эд на каком-то званом вечере, и вдруг в дом врывается отряд солдат. Всем понятно, что дорога отсюда теперь одна.. И... Эд достает гранату, говорит Эл, что любит ее, и на его улыбке заканчивается глава. И я боюсь открыть следующую, потому что не знаю, что нас там ждет. Вдруг - Эпилог и пара строк? Или мучительное описание последних минут? Вот и сейчас смотрю на две (!!!) оставшиеся главы. Не могу оторваться от этой истории (разве приходится прерываться из-за насущных дел), но как думаю, что там, на следующей странице, сразу так страшно и горько... Потому что ощущение, что жизни Эда и Эл могут оборваться в любую, вот в совершенно любую секунду, очень острое. Особенно после того, как оба они признали, что не хотят обживаться в новом доме... вам очень признательна за такое искреннее отношение к героям. Удивительно, что вам приснился сон о них. К сожалению, все идет к завершению. Как бы горько и больно это ни было. И состояние ребят именно такое, как вы сказали: все может окончиться, оборваться в любую минуту. Остается в таких случаях только все та же надежда. Призрачная она или нет. Правда, Скримджер? К сожалению, страданий в том времени столько, что, кажется, не перечесть. И много было любящих до Элис и Эдварда, и много после, кто терял своих. Но они — всё, что у них есть. У Эдварда есть только Эл, у нее — только он. И, я думаю, ни один из них без другого не сможет. По-настоящему. Да, можно сказать про "надо жить, жизнь на этом не заканчивается...", но... если честно. С чего вы взяли, что на смерти любимого человека она, на самом деле, не заканчивается. В этом тоже проглядывает та честность, о которой сказал Руфус. Спасибо вам! 1 |
|
|
Отзыв к глае 3.17
Показать полностью
Здравствуйте! Вот знаете, от чего страшно? От того, что осталась одна глава. И если предчувствия Элис верны, и случится что-то плохое, то очевидно, что оно подведет черту под судьбами всех героев. Если бы дальше еще нащупывались страницы, они давали бы надежду, что и сбывшиеся дурные предчувствия еще не означали конец. А здесь... Очень хочу ошибаться. Очень хочу верить, что герои, несомненно заслужившие счастливый финал, его обретут, и не будет никакого упавшего неба в их конкретном случае. Нет, разумеется, небо упадет, когда начнется Вторая мировая война. И слишком многих это небо придавит. И странно, наверное, сравнивать, взешивать, какая смерть страшнее - на поле боя или в концлагере, от голода в осажденном городе или в подвалах гестапо. В этой истории нам были продемонстрированы различные, разнообразнейшие грани ужаса, страха, боли, стыда, вины, ненависти и утраты. Но все-таки грани любви, доверия, икренности, храбрости и человечности куда как удивительне и ярче. В первом случае все сливается в беспросветный мрак и задавливает ледяной тяжестью. Во втором же случае красота и свет раскрываются всё более полно и разнообразно - как в приземленно-бытовых сценах, так и в моментах нравственного подвига. Для меня сильнейшими сценами, остаются всё же не эпизоды насилия, жестокости и страха, а эпизоды примирения между Эдвардом и Элис, воспоминания Эда о его родителях (пусть прочно связанные с их гибелью, но все же эти сцены больше о любви, чем о смерти), воссоединение с Кайлой, потом - с Мариусом, воспоминания Элис и доктора о том, как она попала в больницу, теряя ребенка (опять же, казалось бы, крайне трагическая сцена, но в ней ведь неимоверно много любви)... Да, свет, которым полна эта глава, стал для меня прекрасной неожиданностью. Я ожидала Зофтов из-за каждого угла, я ожидала подлости от Ханны, ожидала жестокости от начальника Эда, ожидала непокорства и ошибки Мариуса, ожидала подности от Фоули, ожидала печальную гибель надежд на спасение Дану (и вообще на его обнаружение). Но из раза в раз то, что уже привычно было видеть черным, оказывалось белым, и это такое чудо!.. Даже стыдно немного за себя, что, как и Элис, в этом пытаешься найти какой-то подвох, сложно даётся вера в хорошее, в то, что всё получилось, каждый раз поправляешь себя и добавляешь это подлое "почти". Наверное, редко мне хотелось, чтобы история не оправдала моих ожиданий (точнее, сомнений и страхов) и подарила мне счастливый финал, который для такого маловера, как я, точно будет незаслуженным)) Помню, похожее переживание незаслуженного счастья со мной случилось, когда я читала самиздатовскую историю про Титаник, и там главными героями были дети, которые подружились во время его плавания, и, несмотря на страшную катастрофу, в конце все-таки спаслись и даже вновь встретились. Чудо? Чудо. И почему мы редко пишем о чудесах? Будто это что-то "недостоверное". Мне кажется, тут важнейшим фактором выстуает личная вера автора и способность читателя довериться истрии. Чудо особенно явно себя проявляет именно в самых безвыходных обстоятельствах. Быть может, действительно хорошие истории и должны учить нас не терять надежды, а не просто бить нас лицом об асфальт страшной реальности. К сожалению, лично у меня писать о чудесах вот вообще никак не получается. Я как-то пять лет переписывала одного своего бегемота, чтобы хоть немного уйти от тотального мрака в финале и дать персонажам хоть маленький шанс, если не на счастливую жизнь, то хотя бы на возрождение души. Вот и с Руфусом и Росаурой у меня никак не получается выплыть на что-то жизнеутверждающее. Но что это я всё о финале, стоит обратиться к событиям главы. Просто хотела сказать, что даже если финал все-таки выбьет почву из-под ног и обрушит небо, свет, который пролился на нас в этой главе, останется в моем сердце. Начну, пожалуй, с Фоули. Я читала о нем и думала, Боже, неужели редчайший человек в этой истории ,который, влюбившись в Агну, не проявил своей животной стороны? Это заслуга его как англичанина или просто как человека с более укорененными ценностями, чем у всех этих нацистских вырожденцев? В общем-то, его влюбленность - это пресловутый "солнечный удар", в ней очень много страсти, которое доводит Фоули до беспомощности, однако воодушевляет его на решительные поступки: да, он все-таки состряпал нужный документ, но вот интересно, если бы не влюбленность в Агну, он бы махнул рукой на судьбу мальчика и беременной Кайлы? И вот это его: "я хотел увидеть вас еще раз, прежде чем..." Как ни крути, мне видится тут эгоизм влюбленности, слепота страсти, и разве это не ставило Агну в унизительное положение? Думаю с содроганием, что будь Фоули чуть больше подлец, с него бы сталось сделать Агне непристойное предложение в обмен на подписанные бумаги. И еще вопрос, вдруг Агна бы на это пошла? Ради Кайлы, ее ребенка и Мариуса? Просто интересно, когда вы планировали историю, вы не рассматривали такой, более "асфальтовый" вариант? И ведь наверняка именно так, подло и грязно чиновники всякого пошиба торговали своими услугами те жестокие годы. И мне стоит сердечно поблагодарить вас, что вы не пошли по этому пути. Вы вновь выбрали показать нам чудо, которое сотворила влюбленность, пусть и не самая "идеальная". Это ведь несравненно лучше, чем если бы возникла ситуация, о которой сходу подумало мое заляпанное всякой грязью сознание, когда появился персонаж Фоули и его реакция на Агну. Отдельно хочу сказать о сцене Эл и Мариуса. Невероятно эмоциональная сцена, в которой и горечь, и любовь, и страдание, и утешение. Мариуса нельзя не понять. Его боль беспредельна. И так ценно, что он выговорился Эл, раскрыл ей свою боль, рассказал об этом страшном эпизоде с гибелью матери... Выплакался. И в то же время Эл. Насколько она мудра и искренна! Она не пытается Мариуса поучать, не пытается ему что-то насаждать. Не боится признаться в собственных страхах и тем самым возложить на него надежду, довериться. Да, Мариус благодаря разговору с Эл теперь чувствует свою ответственность не только за свою жизнь, которая сейчас ему кажется ничего не стоящей, но и за жизни своих благодетелей. Они все повязаны, и Эд, и Эл, и Мариус, и Кайла, и Кете, и Дану, да, кто-то выступает в роли спасителей, а кто-то в роли жертв, но по факту от действий каждого зависит жизнь остальных, здесь нет тех, кто менее важен или более пассивен. Очень ценно, что Мариус это понял. И, конечно, для него это тоже подвиг - отложить месть ради доверия и спокойствия его чудесной феи-крёстной. Момент, когда Эд по факту приказал Ханне сделать все, чтобы освободить Дану, наполнил меня торжеством. Ханна, как ни пыталась взбрыкнуть и диктовать свои условия, в итоге оказалась послушным орудием в руках того, кого столько раз пыталась погубить, что своей любовью, что своей ненавистью. И все из-за чего? Ее низменное преклонение перед чинами. Стоило Эду сказать, кто он теперь, так она заткнулась и на задних лапках побежала выполнять. Конечно, вопрос еще, не предаст ли, не раскачает ли лодку, но в моменте это быа маленькая победа над маленькой гадиной, которая не по своим размерам много крови подпортила. Наконец, воссоединение Кайлы и Дану... Пронзительно и будто за гранью реальности. Вновь чудо, чтобы увидеть которое нужно иметь веру. Даже если это чудо на один день, и завтра все обрушится, оно стоило того, чтобы его дождаться и пережить. Спасибо вам огромное! 1 |
|
|
Anna Schneiderавтор
|
|
|
h_charrington
Показать полностью
Здравствуйте. Очень хочу верить, что герои, несомненно заслужившие счастливый финал, его обретут, и не будет никакого упавшего неба в их конкретном случае. Мне интересно будет узнать ваше мнение после прочтения заключительной главы, но, мне кажется, небо нам всем вместе все-таки удалось удержать. Хотя, конечно, вы правы: дальше — война. В этой истории нам были продемонстрированы различные, разнообразнейшие грани ужаса, страха, боли, стыда, вины, ненависти и утраты. Но все-таки грани любви, доверия, икренности, храбрости и человечности куда как удивительне и ярче. В первом случае все сливается в беспросветный мрак и задавливает ледяной тяжестью. Во втором же случае красота и свет раскрываются всё более полно и разнообразно - как в приземленно-бытовых сценах, так и в моментах нравственного подвига. Для меня сильнейшими сценами, остаются всё же не эпизоды насилия, жестокости и страха, а эпизоды примирения между Эдвардом и Элис, воспоминания Эда о его родителях (пусть прочно связанные с их гибелью, но все же эти сцены больше о любви, чем о смерти), воссоединение с Кайлой, потом - с Мариусом, воспоминания Элис и доктора о том, как она попала в больницу, теряя ребенка (опять же, казалось бы, крайне трагическая сцена, но в ней ведь неимоверно много любви)... Спасибо вам за такое внимание и воспоминание о светлых моментах. Очень счастлива знать, что самое сильное впечатление у вас остается именно от светлых моментов, а не от темных. Да, воспоминания Эдварда о гибели родителей полны боли и страдания, но в том, как он вспоминает о маме (с нежностью и любовью), об отце (с печалью и, может, даже пиететом) говорит о том, что даже такие, безумно тяжелые происшествия, как бы, может быть, удивительно и странно это ни было, дают нам в итоге своеобразную точку опоры. Да, боль. Но и любовь. Эдвард проносит все это в своем сердце. Это тоже, может быть, наряду с огромной любовью к Эл, не позволяет ему очерстветь сердцем, перейти на сторону зла. Недолго думая, как, к примеру, Стивен. Во всех эпизода, что вы вспомнили, наряду с болью есть любовь. И если любовь больше, то я могу только порадоваться, что это так. Да, свет, которым полна эта глава, стал для меня прекрасной неожиданностью. Я ожидала Зофтов из-за каждого угла, я ожидала подлости от Ханны, ожидала жестокости от начальника Эда, ожидала непокорства и ошибки Мариуса, ожидала подности от Фоули, ожидала печальную гибель надежд на спасение Дану (и вообще на его обнаружение). Но из раза в раз то, что уже привычно было видеть черным, оказывалось белым, и это такое чудо!.. Даже стыдно немного за себя, что, как и Элис, в этом пытаешься найти какой-то подвох, сложно даётся вера в хорошее, в то, что всё получилось, каждый раз поправляешь себя и добавляешь это подлое "почти". Наверное, редко мне хотелось, чтобы история не оправдала моих ожиданий (точнее, сомнений и страхов) и подарила мне счастливый финал, который для такого маловера, как я, точно будет незаслуженным)) Я верю и хочу верить дальше, что свет всегда сильнее. Может, это наивно. Но без этого невозможно, если мы хотим жить. А в людях ужасно сильна жажда жизни. И, конечно, можно было бы "подсыпать" зофтов везде и всюду, но есть же, действительно есть и в нашей, и в мировой истории примеры потрясающего мужества, невероятной душевной силы. Они — без фанфар. Просто делают свое дело. Как, во многом, Эд и Эл, чуждие тщеславия и признания, рискующие самой жизнью ради помощи другим. Не потому, что хотят казаться какими-то правильными, а потому, что они действительно неравнодушны. К Мариусу. К Кайле. К Дану. Та война окончила Победой. Великой Победой, стоившей очень много. Об этом нужно помнить. Поэтому, даже если это выглядит наивно (?), Эд находит Дану, а все вместе они противостоят нацизму. И почему мы редко пишем о чудесах? Будто это что-то "недостоверное". Мне кажется, тут важнейшим фактором выстуает личная вера автора и способность читателя довериться истрии. Чудо особенно явно себя проявляет именно в самых безвыходных обстоятельствах. Быть может, действительно хорошие истории и должны учить нас не терять надежды, а не просто бить нас лицом об асфальт страшной реальности. К сожалению, лично у меня писать о чудесах вот вообще никак не получается. Мне очень хочется верить именно в это, в чудо. Мы привыкаем к плохому слишком легко и слишком быстро. А вера и надежда, свет, — требуют куда больших усилий. Я думаю, вы очень правы: хорошие, настоящие истории, в основе своей, учат нас и вере, и надежде. Даже вопреки всему. И даже если все окончится гибелью главного героя, в ней будет то, что преодолеет тьму. Повторю: в той войне победи свет. Нам нужно помнить именно об этом. Может, со временем, и у вас получится написать о чуде? И вот это его: "я хотел увидеть вас еще раз, прежде чем..." Как ни крути, мне видится тут эгоизм влюбленности, слепота страсти, и разве это не ставило Агну в унизительное положение? Думаю с содроганием, что будь Фоули чуть больше подлец, с него бы сталось сделать Агне непристойное предложение в обмен на подписанные бумаги. И еще вопрос, вдруг Агна бы на это пошла? Ради Кайлы, ее ребенка и Мариуса? Просто интересно, когда вы планировали историю, вы не рассматривали такой, более "асфальтовый" вариант? Да, соглашусь: есть в словах Фоули эгоизм. Причем крайний, отчаянный, даже непримиримый. Он знает прекрасно и осознает, что поставлено на карту вместе с его подписью, но позволяет себе эгоизм влюбленного: хочу! И все. С одной стороны ужасно, и совсем его не рекомендует с положительной стороны, а с другой стороны... так понятно. Я совершенно, абсолютно не не думала о непристойности со стороны Фоули. Вот совсем. Потому что этого нисколько не было со стороны самого Фрэнка. Не потому, что он — англичанин и "хороший", а немцы непременно "плохие", а потому что таков сам Фрэнк. Такова суь его влюбленности в Агну. Он влюблен именно так: непонятно, вдруг, нелепом, наивно, "глупо", в обход всей логики и здравого смысла. И именно эта влюбленность не позволяет ему совершить подлость. Это — его мерило, показатель того, каков он. Он не идеален, конечно. Но в Агну он влюблен именно так. И подлости в отношении нее он даже не мыслил. Потому и не знаю, что ответить вам на другой вопрос: сделай Фрэнк однозначное "предложение", пошла бы на него Агна? Пишу: "думаю, да...", и радуюсь, что Эл, чудесной Эл не пришлось ни давать ответ на этот вопрос, ни даже задумываться над ним. Спасибо Фрэнку за его чистую влюбленность, не мыслившей зла. Отдельно хочу сказать о сцене Эл и Мариуса. Невероятно эмоциональная сцена, в которой и горечь, и любовь, и страдание, и утешение. Мариуса нельзя не понять. В Мариусе оказалось море юной, самой горячей мужественности. Конечно, она "замешана" на влюбленности в Агну, но это позволяет ему, даже в его положении, не выглядеть жертвой, и взять на себя, как на мужчину, требуемую долю ответственности. Я очень рада, что он понял и услышал Агну. Не скатился в свою боль, не стал ее растягивать. А собрался и сделал то, что нужно было. Рада и за Эл, потому что она, как вы сказали, смогла в определенной степени довериться ему. Сколько всего ей пришлось вынести... где-то же на этом пути должна быть остановка. И вот, влюбленный, замечательный мальчишка, горячий, как и положено юности, помогает ей, как может. Как она его просит. Момент, когда Эд по факту приказал Ханне сделать все, чтобы освободить Дану, наполнил меня торжеством. Могу сказать, что, в таком случае, мы торжествовали вместе: Эд, я и вы:)) Он же просто лучится этим торжеством, не удерживается оно в нем. Это как и ответ за все, сделанное Ханной, и как ответ всему, чему Эд и Эл противостоят. Люблю очень эту куражность в Милне, просто любуюсь им. Наконец, воссоединение Кайлы и Дану... Пронзительно и будто за гранью реальности. Вновь чудо, чтобы увидеть которое нужно иметь веру. Даже если это чудо на один день, и завтра все обрушится, оно стоило того, чтобы его дождаться и пережить. Автор никак не может и не хочет навредить своим героям. Да, пусть они не главные, но было очень важно сохранить их во всех тех событиях. Очень этого хотелось. Спасибо вам огромное! И вам спасибо:) 1 |
|
|
Здравствуйте!
Показать полностью
Думала, буду писать: не верю, не верю, что роман завершён, но вот парадокс - он завершён так красиво, нежно и светло, что слово "конец" в кои-то веки не ассоциируется со свистом гильотины. Завершение истории Эда и Эл это даже не тот покой в светлой грусти, который заслужили Мастер и Маргарита Булгакова, а это самый настоящий праздник жизни, надежды и света, пусть тихий, укромный, но и нельзя сказать, что замкнутый только на них двоих... точнее, троих))) Виновники этого торжества - и Кайла с Дану, и Мариус и крошкой Майей, и Кете с ее матерью. Да, на пороге война, и самые разрушительные бедствия еще впереди, но в финале этой истории лежит прообраз Победы. В финале истории уже есть "мир спасенный, мир вечный, мир живой", который будет помнить о страдании и жертве, о пределах, которые хочет яростно испепелить злоба, и которые все равно возводит добро и справедливость. После прочтения вашего романа мне хочется писать именно такие слова, которые почему-то зачастую считаются набившими оскомину, обесценившимися. Это все клевета; слова "справедливость", "любовь" и "добро" не могут обесцениться. Могут выхолоститься души, которых крутит от одного упоминания этих слов, вот и всё. Ещё бы я добавила к празднующим и родителей Эдварда. Он перестал отгоражить воспоминания о них от своей нынешней жизни, впустил их, символически произнеся их имена, будто призвав стать частью своей новой радости. Боль и любовь, как мы говорили, почти нераздельны, потому что любовь, чтобы преодолеть смерть и горечь, вынуждена с ними соприкасаться, даже, я бы сказала, их покрывать. Это очень тесный контакт, неразрывная связь, в которой вода камень точит. Боли, этого яда, разлито вдоволь по всей нашей жизни. Любовь - единственное противоядие. Любящий набирается мужества соприкоснуться с болью того, кого юбит. Вобрать ее в себя, как губка вбирает кровь с раны. Это тяжело, это настощяий подвиг любви. Сколько раз его совершали Эд и Эл? Сколько раз преодолевали обстоятельства, людей и самих себя, чтобы продолжать спасать друг друга - не только из тяжелых ситуаций, ловушек и угроз для жизни, но и каждодневно... Все сцены, где они ночью спят, и то одному, то другому вдруг плохо, накрывает волна ужаса и паники, а тот, кто рядом, протягивает руку и сторожит сон, наполнены любовью и светом. Это тот малозаметный подвиг, который да, не требует завалить большого страшного дракона (Зофта, Биттриха, Хайде, насильника с улицы), но требует придушить змею паники, неверия и отчаяния, которая приползает во мраке и душит. На протяжении всей истории герои боролись не только с внешним, таким очевидным врагом, но и со своими внутренними демонами. И Эл, и Эд, пусть разлчиные внешне, оба были хрупки и уязвимы, как каждый из нас. Более того, чем ближе к кульминации и финалу, я бы сказала, что с одной стороны, они истончались, не вполне могли оправиться от полученных ран, становились еще более хрупкими, а с другой стороны обретали в себе, точнее, друг в друге стальной стержень, укрепление, поддержку, которая стоит десанта вооруженных до зубов спецназовцев. Они друг для друга стали ангелами-хранителями, вот и все. Когда я читала эту главу, признаюсь, у меня прям сердце сжималось от тревоги. Особенно когда дошло до званого вечера в доме мод мадам Гиббельс. Во-первых, у меня случилось жуткое дежавю, потому что мне ведь это приснилось, когда я еще не добралась до этой главы. Уже что-то мрачное и пророческое. Во-вторых, настолько мощно передано плохое предчувствие Эл, по нарастающей, что я будто с ней под руку вошла в этот адский притон, и каждая смена кадра, сцены, заставяла меня с замиранием сердца приостанавливаться, просто чтобы продышаться. Знаете, такой накал, когда закрываешь рукой страницу книги, чтобы не дай Бог не подглядеть развязку? Мне тут повезло, что я с телефона читала, и могла на экран выводить предложения по мере прочтения, но если бы (ах, если бы!) ваша книга была в бумажном виде, я бы точно ее всю истерзала от тревоги и неумолимого стремления быть вместе с героями в каждом мгновении. Говоря про жуткую сцену схватки с драконом, хочу отметить, как верно тут, на мой взгляд, выведена природа зла. Этот Зофт, который успешно долгое время изображал из себя "не такого как все", слишком умного и слишком далекого от простых человеческих слабостей злодея, здесь рухнул в ту же грязь, что и его предшественники. Банальная похоть, зверская, мерзкая, отвратительная зараза, которая кажется таким выродкам, как он, вернейшим способом самоутверждения. Мне кажется, то, что каждый из череды злодеев в конечном счете пытался изнасиловать Эл, указывает на тот животный, примитивный и безликий корень зла, который никак нельзя отрицать. Кстати, не могу не отметить, что сокращение имени Зофта, Герх, слишком уж похоже на слово грех. Вот он весь, во всем своем срамном "великолепии": в отличие от других похотливых скотин, эта еще возомнила о себе в гордыни невесть что. Мания величия Герха омерзительна, но как смачно показана... Я наблюдала борьбу Эл с ним, просто не дыша. Я так сопереживала ей, мне было так больно за нее, и в то же время я так гордилась ею, когда она до последнего, до последнего сопротивлялась, била его, царапала ему лицо, плевала в него... Сколько в ней мужества, смелости, чистоты! Такие, как Зофт, должны просто обращаться в прах от прикосновения к таким, как Эл. К сожалению, мы не живем целиком и полностью в духовной реальности. А может, к счастью - ведь иначе нельзя было бы испытать ликование, когда Эд спустил курок, и душа этого ублюдка отправилась плавиться в аду. Скажу, что мысленный монолог Эл перед практически неизбежным тронул меня до слёз, и я так благодарна этой истории за то, что я часто плакала. Для меня это огромная ценность, когда произведение искусства пробивает меня на слёзы. Спасибо вам, что добились этого своим творчеством! На Фоули я злилась поначалу... (имею в виду, его поведение на вечере) но потом он сам себя так бичевал, что я успокоилась. Да, он совершил ошибку. Он не уследил за той, которую полюбил. Эл пережила столько ужаса и почти распрощалась с жизнью отчасти и по недосмотру Фрэнка. Однако то потрясение, которое он испытал, когда увидел, что с Эл сотворил дракон, искупает его провал. И как он плакал в машине... Да, в этих слезах нет ничего мужественного, героического, только жалкое, но тот факт, что человек может плакать, глядя на чужое страдание, говорит о его сердце, о том, что оно не окаменело. Фрэнк ошибся, но его преданность была сильнее этой ошибки. И, самое главное, Эл и Эд не затаили на него обиду за это. К тому же, Фрэнк успел совершить свой подвиг, когда поехал покупать паспорт для Дану. Это крошечная деталь, но какая говорящая - что он отдал кольцо, которое напоминало ему о покойной жене. Больше ничего не сказано о Фрэнке, мы о нем ничего не знаем, и когда впервые встретили, я не заподозрила, что он мог быть женат, тем более, что он вдовец. И он об этом ничего не рассказывает, не вспоминает о своей покойной жене, когда влюбляется в Эл. Однако эта подробность открывает нам персонажа совсем с иного ракурса. То, что Эд, к счастью, так и не испытал, Фрэнк пережил. Мы не знаем, как и почему умерла его жена. Но какой бы смерть ни была, это трагедия, это утрата, это боль на всю жизнь, которая тем сильнее, чем сильнее была любовь. А то, что Фрэнк Фоули умеет любить, мы знаем. ..просто ради интереса пошла загуглила имя Фрэнка, потому что мне оно казалось смутно знакомым. Оказалось, что это реальный британский шпион, сотрудник посольства в Берлине, который помогал бежать евреям из Германии... Невероятный опыт - воспринять как живого персонажа романа, а потом узнать, что это и был рельный человек! Это, конечно, камень в огород моей непросвещенности, но как приятно благодаря вашей истории вновь и вновь раздвигать границы познания. И я также стала больше узнавать о программе Киндертраспорт. Спасибо! Линия Кайлы, Дану и Мариуса тоже не давала мне вздохнуть спокойно. Очень эффектно был введен отсчет по дням. Как и Эл, дурные предчувствия сгущались в моей душе, как тучи. Я боялась каждого нового предложения, ведь сколько всего могло бы произойти, что разрушило бы все планы, все надежды! А по сути-то что были бы эти планы без гигантской силы надежды? Судьбы Эл и Эда, вплетенные в мастшабную историю главного бедствия человечества, остались судьбами частными. Нет, они не спасли десятки сотен несчастных. Но на их примере мы увидели, что спасти и четверых - это величайший подвиг, это сила, это мужество, это риск, это готовность отдать свою жизнь за крохотный шанс, что это спасет другого. Так зачем измерять подвиги в количестве, когда это в первую очередь качество души. О таких душах, о таких судьбах, хочется читать, хочется к ним прикасаться. Чудо новой жизни, которое было даровано Эду и Эл тогда, когда они уже и не надеялись, когда уже смирились, тоже вызвало у меня слёзы. Я смогла прожить эту радость с Эл и Эдом, потому что мне она знакома лично. Это несказанное чудо, и вы нашли нужные слова, чтобы запечатлеть его в сердце читателя. Спасибо вам, что финал осчастливен еще и этим событием. В нем и предельный символизм, и предельное правдоподобие. Спасибо. Теперь все-таки скажу: не верится, что история окончена, потому что я сроднилась с ней, с героями, но мне спокойно, потому что я знаю, что у них все хорошо. Она окончена именно так, как мы и надеяться не смеяли, поэтому столько радости и облегчения, и вера в то, что Эл и Эд будут наконец-то счастливы всецело, хотя жизнь, что в мире, что в войне, имеет свои испытания, и боль сопутствует нам до самого конца в тех или иных проявлениях, однако я сполна прочувствовала светлую мощь такого финала. Спасибо, что не омрачили его ничем от слова совсем. Мне кажется, благодаря таким историям, как ваша, известна целительная сила искусства. 1 |
|
|
Anna Schneiderавтор
|
|
|
h_charrington
Показать полностью
Часть 1. Здравствуйте! Думала, буду писать: не верю, не верю, что роман завершён, но вот парадокс - он завершён так красиво, нежно и светло, что слово "конец" в кои-то веки не ассоциируется со свистом гильотины. Я очень хотела счастья для моих ребят. Опять же, по самой простой и великой причине, известной нам: та война окончилась Победой. Да, война принесла громадное горе всему миру, но все же, все же — Победа. Это — главное. Завершение истории Эда и Эл это даже не тот покой в светлой грусти, который заслужили Мастер и Маргарита Булгакова, а это самый настоящий праздник жизни, надежды и света, пусть тихий, укромный, но и нельзя сказать, что замкнутый только на них двоих... точнее, троих))) Виновники этого торжества - и Кайла с Дану, и Мариус и крошкой Майей, и Кете с ее матерью. Да, на пороге война, и самые разрушительные бедствия еще впереди, но в финале этой истории лежит прообраз Победы. В финале истории уже есть "мир спасенный, мир вечный, мир живой", который будет помнить о страдании и жертве, о пределах, которые хочет яростно испепелить злоба, и которые все равно возводит добро и справедливость. А мне лично совершенно не по нраву тот покой, что у Мастера. Не люблю. Не нравится он мне и как герой. Ну да ладно. Конечно, все мы понимаем: война грянет, и скоро. Элис и Эдвард это понимают очень отчетливо. Но сила самой жизни непреложна, неостановима: человеческое сердце вне жизни не стучит, а пока оно живо, всегда есть надежда и вера. У меня есть ответ на вопрос о том, что дальше будет с Элис и Милном. И, может быть, позже я наберусь сил и сяду за продолжение их истории. Но пока — так. Все устали: и они, и автор. На последних главах невозможность, невыносимость Берлина стала такой тяжелой, очевидной, душной, что хотелось только бежать из того смрада, без оглядки. Даже Эдвард, с учетом всей его выдержки, уже истончался. Мне лично безумно дорого, что удалось спасти дорогих Кайлу, Дану, их тогда еще нерожденную девочку, и, конечно, Мариуса. А Кете с ее мамой, к счастью, спаслись и в реальности. И чем больше было положено для Победы, — сил, труда, души, жизни и любви, — тем отчаяннее и сильнее хочется, чтобы никогда мы не забывали о том, какой стала та Победа. Да, мы в полной мере никогда, быть может, не сумеем оценить ее громадность, масштаб. Но к этому нужно стремиться. И, конечно, взаимное счастье Эл и Эда. То, что они станут родителями... не смогло мое сердце не дать им этого счастья (если возможно считать, что автор — хозяин текста:). После прочтения вашего романа мне хочется писать именно такие слова, которые почему-то зачастую считаются набившими оскомину, обесценившимися. Это все клевета; слова "справедливость", "любовь" и "добро" не могут обесцениться. Могут выхолоститься души, которых крутит от одного упоминания этих слов, вот и всё. Спасибо за чудесные слова. Это не они выхолощены. Это мы теперь, — часто, к сожалению, — такие. Очень жаль, что так. Правда. Любовь никогда не перестает. Ещё бы я добавила к празднующим и родителей Эдварда. Он перестал отгоражить воспоминания о них от своей нынешней жизни, впустил их, символически произнеся их имена, будто призвав стать частью своей новой радости. Боль и любовь, как мы говорили, почти нераздельны, потому что любовь, чтобы преодолеть смерть и горечь, вынуждена с ними соприкасаться, даже, я бы сказала, их покрывать. Это очень тесный контакт, неразрывная связь, в которой вода камень точит. Боли, этого яда, разлито вдоволь по всей нашей жизни. Любовь - единственное противоядие. Любящий набирается мужества соприкоснуться с болью того, кого юбит. Вобрать ее в себя, как губка вбирает кровь с раны. Это тяжело, это настощяий подвиг любви. Сколько раз его совершали Эд и Эл? Я уверена, что из того, невидимого нам мира, родители Эда очень, по праву гордяться им. Тем, что их сын, их мальчик сумел выстоять и не сломаться. Сильно раненный, но никогда не сломленный. Все же, с учетом всех потерь, сильный духом и живой, — в громадной степени от любви Эл, за которую ей бесконечная благодарность, — живой сердцем. Но смог. Он преодолел, он выстоял, он не перешел во тьму. Он несет в себе то, чему они, родители, учили его. И это его личная, ничуть не меньшая, чем наша общая, человеческая, победа. Словами не передать, как я рада, что он смог открыть Эл свою боль о родителях. О Рифской войне, уверена, так и не скажет. Но о маме и папе сказал. И, думаю, сердце его стало еще живее, полнее и больше. Он теперь и сам — папа. Спасибо Эл, что вместила его боль в свое сердце. Смогла, сумела, приняла и выдержала. И любви стало больше. Я думаю, это бесценно — искреннее разделение такой боли. В этом — сила любви. Может, любовь настоящая о боль закаляется сильнее. Все сцены, где они ночью спят, и то одному, то другому вдруг плохо, накрывает волна ужаса и паники, а тот, кто рядом, протягивает руку и сторожит сон, наполнены любовью и светом. Это тот малозаметный подвиг, который да, не требует завалить большого страшного дракона (Зофта, Биттриха, Хайде, насильника с улицы), но требует придушить змею паники, неверия и отчаяния, которая приползает во мраке и душит. На протяжении всей истории герои боролись не только с внешним, таким очевидным врагом, но и со своими внутренними демонами. И Эл, и Эд, пусть разлчиные внешне, оба были хрупки и уязвимы, как каждый из нас. Более того, чем ближе к кульминации и финалу, я бы сказала, что с одной стороны, они истончались, не вполне могли оправиться от полученных ран, становились еще более хрупкими, а с другой стороны обретали в себе, точнее, друг в друге стальной стержень, укрепление, поддержку, которая стоит десанта вооруженных до зубов спецназовцев. Они друг для друга стали ангелами-хранителями, вот и все. Иначе они не могли. Просто вот так они любят друга. Учатся этому, в том числе, проходя и через свои ошибки: непонимание, замкнутость, эгоизм, одиночество, горечь. И тем более ценна их близость. Их любовь, как любовь вообще, наверное, единственное, что можно противопоставить войне, всем видам мрака и боли, утраты. Это, как вы и сказали, подвиг. Незаметный, тихий, "на двоих". Но ежедневный, постоянный, иногда очень трудный. Не всегда он может получится из-за нашего эго, но кроме любви, что могло спасти Элис и Эдварда? Эд, при всей его силе — человек. Он не всемогущий. И на него можно было найти "управу". К счастью, этого не произошло. А если сердце — пусто, то и управа будет, может быть не нужна. В той войне противостояние не только физическое, но духовное. Душевное. Изжив намеренно в себе все человеческое, нацисты хотели уничтожить мораль, чувство, правду, любовь. К счастью, не смогли. И не смогут. И, как вы верно заметили, ближе к заключительным главам ребята становились все тоньше. Терпения и сил — все меньше. Даром, что не тревожили друг друга разговорами об этом, но все же видели, понимали, чувствовали. 1 |
|
|
Anna Schneiderавтор
|
|
|
h_charrington
Показать полностью
Часть 2. Когда я читала эту главу, признаюсь, у меня прям сердце сжималось от тревоги. Особенно когда дошло до званого вечера в доме мод мадам Гиббельс. Во-первых, у меня случилось жуткое дежавю, потому что мне ведь это приснилось, когда я еще не добралась до этой главы. Уже что-то мрачное и пророческое. Во-вторых, настолько мощно передано плохое предчувствие Эл, по нарастающей, что я будто с ней под руку вошла в этот адский притон, и каждая смена кадра, сцены, заставяла меня с замиранием сердца приостанавливаться, просто чтобы продышаться. Знаете, такой накал, когда закрываешь рукой страницу книги, чтобы не дай Бог не подглядеть развязку? Мне тут повезло, что я с телефона читала, и могла на экран выводить предложения по мере прочтения, но если бы (ах, если бы!) ваша книга была в бумажном виде, я бы точно ее всю истерзала от тревоги и неумолимого стремления быть вместе с героями в каждом мгновении. Очень хорошо вас понимаю. Я знала, что Зофт поймает Эл. И как я не хотела это писать! Всё та же тревога, а вместе с ней — знание, что в истории будет именно так, несмотря на мое нежелание. И, да... ваш сон. Но нам не пришлось прощаться с ребятами. Про себя могу сказать, что не знаю, как бы я это перенесла. Накал и предчувствие, о которых вы говорите, и меня не отпускали. Я знала, что буду выцарапывать Эл и Эда с того вечера изо всех сил, до последнего. Но все равно было и страшно, и тошно. Говоря про жуткую сцену схватки с драконом, хочу отметить, как верно тут, на мой взгляд, выведена природа зла. Этот Зофт, который успешно долгое время изображал из себя "не такого как все", слишком умного и слишком далекого от простых человеческих слабостей злодея, здесь рухнул в ту же грязь, что и его предшественники. Банальная похоть, зверская, мерзкая, отвратительная зараза, которая кажется таким выродкам, как он, вернейшим способом самоутверждения. Мне кажется, то, что каждый из череды злодеев в конечном счете пытался изнасиловать Эл, указывает на тот животный, примитивный и безликий корень зла, который никак нельзя отрицать. Да, вы правы. Зофт очень хотел быть, выглядеть, производить и запоминаться именно таким-"не таким, как все". Но... в итоге все то же. Та же грязь, та же похоть. Жестокость, наслаждение болью другого и демонстрация власти. У него это просто, в силу личных характеристик и желаний, вышло дольше, "утонченнее", более завуалиованно. Но как он приказал Агне: "Ешьте, я хочу посмотреть!". А потом заметил ей, что здесь никому и в голову не приходит "заботиться о чистоте своих рук". Во всех смыслах. Тогда, в момент написания, даже мне стало жутко. И при всем этом — ни тени сомнения, ни капли человеческого. Все сломано, осталась только жажда наживы. А насчет изнасилований... меня "умиляло", когда я читала про "чистоту крови" и запрет на связь с евреями. А потом — Хрустальная ночь. И массовые изнасилования. Кстати, не могу не отметить, что сокращение имени Зофта, Герх, слишком уж похоже на слово грех. Вот он весь, во всем своем срамном "великолепии": в отличие от других похотливых скотин, эта еще возомнила о себе в гордыни невесть что. Мания величия Герха омерзительна, но как смачно показана... Я наблюдала борьбу Эл с ним, просто не дыша. Я так сопереживала ей, мне было так больно за нее, и в то же время я так гордилась ею, когда она до последнего, до последнего сопротивлялась, била его, царапала ему лицо, плевала в него... Сколько в ней мужества, смелости, чистоты! Такие, как Зофт, должны просто обращаться в прах от прикосновения к таким, как Эл. К сожалению, мы не живем целиком и полностью в духовной реальности. А может, к счастью - ведь иначе нельзя было бы испытать ликование, когда Эд спустил курок, и душа этого ублюдка отправилась плавиться в аду. Скажу, что мысленный монолог Эл перед практически неизбежным тронул меня до слёз, и я так благодарна этой истории за то, что я часто плакала. Для меня это огромная ценность, когда произведение искусства пробивает меня на слёзы. Спасибо вам, что добились этого своим творчеством! Есть у автора слабость к сокращению имен. Тем более, таких пышных и претенциозных, как "Герхард". Зофт сам себя называл "Герхом". Кто мы такие, чтобы упустить подобное созвучие с "грехом"? То, как Эл сражается с ним, как противостоит ему, вызывает у меня, — несмотря на авторство, — те же чувства и эмоции, что у вас. Спасибо вам! Это не самолюбование, а сопереживание истории, маленькой Эл. И дикое желание, чтобы Эдвард пришел уже скорее. И ее монолог внутренний, просто звенящий от безмолвия, отчаянья и того, что она ожидает после него, у меня снова и снова вызывает и боль, и слезы. Я, когда писала, уже просто мысленно молила: "Эдвард, давай скорее!". И когда он пришел, я выдохнула. Потому что дальше писать не могла. Все, предел. Спасибо вам за такое огромное, искреннее сопереживание героям. Спасибо, что не побоялись всей горечи и всего страха, что есть в истории Эл и Эда, и дошли с ними до конца. На Фоули я злилась поначалу... (имею в виду, его поведение на вечере) но потом он сам себя так бичевал, что я успокоилась. Да, он совершил ошибку. Он не уследил за той, которую полюбил. Эл пережила столько ужаса и почти распрощалась с жизнью отчасти и по недосмотру Фрэнка. Однако то потрясение, которое он испытал, когда увидел, что с Эл сотворил дракон, искупает его провал. И как он плакал в машине... Да, в этих слезах нет ничего мужественного, героического, только жалкое, но тот факт, что человек может плакать, глядя на чужое страдание, говорит о его сердце, о том, что оно не окаменело. Фрэнк ошибся, но его преданность была сильнее этой ошибки. И, самое главное, Эл и Эд не затаили на него обиду за это. Я знала, чувствовала с самого первого появления Фрэнка, — он принесет помощь и добро. Несмотря на все его странные внешние поведения, горячечную влюбленность в Агну. Да, ошибся. Это он сознает сам, это сознает Эд. И Фрэнк чувствует вину и перед Эл, и перед Милном. Думаю, Фоули сам и первый казнит себя больше всех. Да, Эд угрожал ему тогда, в моменте. Но Фрэнк не струсил (несмотря на очевидный страх), он очень помог Эдварду. Он остался с Эл (Агной). И то, как он заплакал над ней, говорит о нем больше всего. Мне его очень жаль, я очень ему сочувствую. И очень благодарна за помощь Элис и Эдварду. Эд и не мог затаить на него обиду: он видел, КАК Фоули успел полюить Агну. Несмотря на свою страшную ошибку, он не желал ей зла. Ни за что. А Элис... о слезах Фрэнка над ней она не знает. Этого не знает и Милн. Пусть это останется сокровенным Фрэнка. Уверена, что Эд рассказал Эл о помощи Фоули. И Элис, несмотря на все "неровности" в поведении Фрэнка, благодарна ему. Даже в машине, когда она и Фоули подъехали к дому, где шел праздник, она смутилась от того, что действительно поняла: он горячо ее любит. И не нашлась с ответом. Потому что сердце ее доброе, а не насмешливое и не злое. Что до кольца, которое Фрэнк отдал за паспорт... есть в этом некий "символизм": заложить кольцо, как память об умершей жене, в помощь той, что он полюбил теперь. Поэтому спасибо Фрэнку огромное. 1 |
|
|
Anna Schneiderавтор
|
|
|
Часть 3.
Показать полностью
..просто ради интереса пошла загуглила имя Фрэнка, потому что мне оно казалось смутно знакомым. Оказалось, что это реальный британский шпион, сотрудник посольства в Берлине, который помогал бежать евреям из Германии... Невероятный опыт - воспринять как живого персонажа романа, а потом узнать, что это и был рельный человек! Это, конечно, камень в огород моей непросвещенности, но как приятно благодаря вашей истории вновь и вновь раздвигать границы познания. И я также стала больше узнавать о программе Киндертраспорт. Спасибо! Спасибо вам! Да, Фрэнк, как и Кете — реальные люди. Они спасали, помогали, рисковали своей жизнью. О них я узнала, как раз, когда искала информацию о "Киндертранспорт". И рада, что таким образом, — кратким отображением в тексте, — смогла упомянуть им и передать благодарность за то, что они делали для спасения людей. Линия Кайлы, Дану и Мариуса тоже не давала мне вздохнуть спокойно. Очень эффектно был введен отсчет по дням. Как и Эл, дурные предчувствия сгущались в моей душе, как тучи. Я боялась каждого нового предложения, ведь сколько всего могло бы произойти, что разрушило бы все планы, все надежды! А по сути-то что были бы эти планы без гигантской силы надежды? Судьбы Эл и Эда, вплетенные в мастшабную историю главного бедствия человечества, остались судьбами частными. Нет, они не спасли десятки сотен несчастных. Но на их примере мы увидели, что спасти и четверых - это величайший подвиг, это сила, это мужество, это риск, это готовность отдать свою жизнь за крохотный шанс, что это спасет другого. Так зачем измерять подвиги в количестве, когда это в первую очередь качество души. О таких душах, о таких судьбах, хочется читать, хочется к ним прикасаться. Я очень полюбила и кроткую, добрую Кайлу, и ворчливого, сумрачного, но тоже доброго Дану. Про Мариуса молчу. Люблю таких мальчишек. Горячих сердцем. Порывистых, живых, самых настоящих. Таким, в какой-то мере и по-своему, был сам Эдвард в юности. Произойти, как вы и сказали, могло все, что угодно. Герои ставили на риск. Отчаянно, без оглядки. Другого выхода и шанса не было. Да, Эл и Эд не спасли многих. Они не спасли ни тысяч, ни сотен, ни "даже" десятков. Но они спасли. И я даже не берусь сказать, что понимаю, какая сила нужна для этого. Но без их помощи не было бы Майи. И не было бы в живых Дану. Кстати, сцена спасения Дану из лагеря. То, как молчаливо Милн вывозит его за эти пределы, потом останавливается, снимает наручники... очень мне дорога. Для меня она вся звучит очень пронзительно. Чудо новой жизни, которое было даровано Эду и Эл тогда, когда они уже и не надеялись, когда уже смирились, тоже вызвало у меня слёзы. Я смогла прожить эту радость с Эл и Эдом, потому что мне она знакома лично. Это несказанное чудо, и вы нашли нужные слова, чтобы запечатлеть его в сердце читателя. Спасибо вам, что финал осчастливен еще и этим событием. В нем и предельный символизм, и предельное правдоподобие. Спасибо. Хочется сказать в ответ на ваши слова: рада служить правде. И особенно счастлива, что получилось найти верные слова. Рада счастью Эл и Эда, рада вашему счастью. Теперь все-таки скажу: не верится, что история окончена, потому что я сроднилась с ней, с героями, но мне спокойно, потому что я знаю, что у них все хорошо. Она окончена именно так, как мы и надеяться не смеяли, поэтому столько радости и облегчения, и вера в то, что Эл и Эд будут наконец-то счастливы всецело, хотя жизнь, что в мире, что в войне, имеет свои испытания, и боль сопутствует нам до самого конца в тех или иных проявлениях, однако я сполна прочувствовала светлую мощь такого финала. Спасибо, что не омрачили его ничем от слова совсем. Мне кажется, благодаря таким историям, как ваша, известна целительная сила искусства. Я бы хотела писать еще про моих дорогих, горячо любимых героях. Но пока их история завершена вот так. Повторю, может, будет продолжение. Но для него нужно много сил. Я уверена, что Эл и Эд будут счастливы. Жизнь бывает самой разной. И очень счастливой она тоже бывает. А когда есть взаимная любовь — все по плечу. Другой финал, думаю, написать бы я не смогла. Не с моими ребятами. Спасибо вам за прочтение, внимание, чуткие, проникновенные слова. Спасибо за неравнодушие к истории, любовь к героям. С самой искренней, огромной благодарностью. 1 |
|
| Предыдущая глава |
↓ Содержание ↓
↑ Свернуть ↑
|