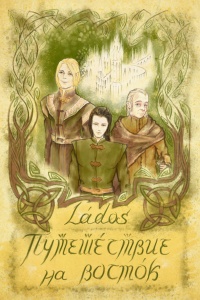





|
↓ Содержание ↓
↑ Свернуть ↑
|
Волчонок закрыл глаза.
Волны — серебристо-серые, с золотистой пеной — одна за другой накатывали на жемчужный песок, по которому бегали босоногие дети. Искали ракушки, ловили крабов. Плескали друг в друга водой. Смеялись.
И птицы, птицы пели!
А он не верил, когда Рауко говорил, что птицы умеют петь. Отцовские птицы, те только кричали, и то редко. Рауко говорил — они вспоминают, что у них были крылья, и плачут о них. А чего плакать? Отец сделал им новые, стальные, ничуть не хуже...
— Птица без крыльев не может петь, Волчонок, — объяснял Рауко. — Они созданы свободными и крылатыми, и радуются этому. А без крыльев — какая свобода? Хотя ты и знать-то не знаешь, на что она похожа, дитя темниц... — вздыхал тяжело, пускал дым из узких ноздрей.
Он всегда говорил странные вещи, Рауко. Странные и мятежные, которые сладко и страшно слушать, но никак не удаётся понять. Поэтому Волчонок приходил к нему снова и снова, садился у горячего чешуйчатого бока и слушал, пока не засыпал. Просыпался — и снова слушал.
Рауко мог говорить, что хотел, а Волчонок — слушать, что пожелает: кроме них некому было зачать новых драконов и новых волков.
Вот только всё хорошее заканчивается. И Рауко закончился, и отцовский пленник с птицами, водой и песком — тоже скоро закончится. Как его спутники, которые храбрились, пели, но Сильный всех их сожрал. На то и Сильный — он эльфятиной только и питался последние годы, хотел Синего превзойти, а лучше — и самого Волчонка. Тогда Хозяин Севера поставит его во главе волчих стай и все волчицы будут только его.
Следовало его хорошенько проучить, но отец не позволял. Как будто и сам был не против, что Сильный будет вместо Волчонка. Может быть, потому, что Сильный послушно жрал эльфов, крамольные речи не слушал и о жемчужном песке не мечтал. Рауко говорил — родители должны любить своих детей, и Волчонок пытался, но как любить Сильного, если он обнаглел?
Да и отец Волчонка не так, чтобы любил. Не так, как мать — Волчонок её почти не помнил, но знал, что она была тёплая и заботливая. Поила его молоком, мыла горячим шершавым языком, грела собой по ночам, защищала. Потом пришёл отец и мать тоже закончилась, как всё хорошее, а началась жизнь на Севере и служба его Хозяину.
Вот только вместо эльфа закончился Сильный. А потом чуть не закончился отец — под лапой пса с холодными сияющими глазами, под тяжёлой волей женщины из белого огня. И замок закончился, распался на тысячу камней.
Женщина пришла за своим мужчиной — всё как положено, Карнаухая тоже любого за Куцего загрызёт. Это Волчонок понимал. А зачем она закопала эльфа с песнями — не понимал.
Ну, как закопала... присыпала землёй, пару камней сверху положила, благо, камней хватало.
— Шарки! — позвал он требовательно.
Шарки ему подарил отец. Развлёкся с ним сначала, конечно, а когда наигрался — отдал Волчонку. Сначала он думал Шарки сожрать, но мясо было уж больно старое и жёсткое. Решил оставить для разговоров. Знал этот старикашка поменьше, чем Рауко, но тоже немало.
— Шарки, зачем она его закопала? Съесть собирается?
Дети иногда так закапывали еду, если ни с кем не хотели делиться. Хотя Волчонок их учил: еда — не игрушка, еда принадлежит всем.
— Нет, молодой господин, что вы. Эльфы не едят эльфов.
Значит, не совсем беззаконно они живут. Волки вот тоже волчатину не ели. Хорошо.
— Значит, она за ним не вернётся?
— Нет, молодой господин. Она его похоронила. Это обычай многих народов, они так показывают, что уважают умершего...
— Он не умер!
Эльф загрыз Сильного. Эльф сделал воду, песок и птиц.
Эльф не должен заканчиваться — Волчонку надоело, что всё хорошее заканчивается!
* * *
Зов Намо был совсем не страшным. Наоборот: он был светом на Западе, мягким шёпотом, тёплым ветром. «Приди, усталое дитя, обрети покой, обрети исцеление...» Но только Инголдо устремился туда, навстречу Мандосу и, может быть, новой жизни — как что-то его схватило и дёрнуло, сердито и резко, и запихнуло назад в измученное тело.
Над ним склонились двое: старик с седой клочковатой бородой и юноша с удивительными, жёлто-алыми глазами.
— Не смей уходить, — сказал юноша. — Сделай опять песок, воду и птиц! Я так хочу!
Инголдо считал хорошим тоном поверить в невозможное пару раз перед завтраком. Но завтрака он не видел уже давненько. Сложно считать время, когда сидишь в темноте и единственное, что хоть как-то меняется — число несъеденных спутников.
Он им не завидовал, нет. Хотя, конечно, они отправились короткой дорогой к Намо, и наверняка скоро вернутся к родным и близким. И им больше не было больно, а ему приходилось терпеть новаторские методики лечения от северных народов: облизывание волком с целебной слюной и зашивание ран жутковатого вида костяной иглой. На которую «никто не жаловался», по словам шившего старика — вот только по его же словам практиковался он на трупах...
И всё-таки, Инголдо старался не терять веры в лучшее.
Он пел — пел как мог, слабым голосом, не очень внятно проговаривая слова. Волчонок — тот самый юноша с красно-жёлтыми глазами — радовался, хлопал в ладоши. Требовал ещё. Как ребёнок, которому дали сладкого. И его волки затихали, придвигались поближе. Потом спрашивали: а это что, а это где, а это как... тоже — как дети.
Один старик хмурился и держался поодаль. Потом осматривал, грубыми пальцами щупал края сшитых им ран, подцеплял их длинными, неровными ногтями. Хорошо, хоть чистыми Бормотал что-то по-тёмному — Инголдо постепенно начинал осваивать этот язык, но далеко пока не продвинулся. Написать бы Майтимо, он вроде как занимался этой темой... но какое тут написать, когда понять бы, где вообще находишься!
Сначала его хотели везти на Север, и это было страшно. Потому что по сравнению с Морготом его глазастый вонючка... человек бы на его месте сказал — «жалкий любитель», но Инголдо было лучше знать. По сравнению с Морготом Вонючка был жалкий профессионал, лишённый истинной страсти к мучению живого и разумного. Слишком рассудочный он был, слишком любил порядок во всём, даже в таких вещах.
Моргот, тот давным-давно последовал собственному совету и отбросил цепи рассудка, совести и логики. Им — опять же, как он и советовал нолдорам во время оно — во всех начинаниях руководила страсть.
К счастью, Инголдо не один боялся Севера; что волки, что старик — явно не больше него хотели показываться на глаза хозяина, потеряв крепость и Вонючку вместе с ней.
— Отец, а может, не надо? — бесхвостый волк по имени Куцый нервно прижался передом к земле. — Там нас опять по клеткам запрут. Не хочу в клетку!
— Ну да, а мне опять придётся целую стаю крыть, — мрачно согласился Волчонок. — А потом тоже запрут. И эльфа отнимут, небось... Но куда ещё-то? Крепость наша закончилась, нет её больше. А здесь кругом — сплошь всякие вражьи владения.
— На Юг? — предложил старик. — Отправимся вниз по реке, а там...
— Эльфы там, — хмуро напомнила волчица. — Только сунься, в ёжика превратят. Нет, надо думать.
— Есть ещё Восток, — больше в шутку, чем всерьёз предложил Инголдо.
— Восток... — старик почесал бородку. — Это в Дортонион, что ли? Так нет больше Дортониона. Одна пустошь с железными воронами и прочей дрянью. Там даже вода несъедобная.
— Там отец, — заметил Волчонок.
— Это хорошо, что ли? — буркнул Куцый. — Смотри, отнимет он у тебя эльфа, и кто нам петь будет?
— Он не задержится, — Волчонок был явно в этом уверен. — Может, тоже на Восток уйдёт. Может, на Север. Нам идти-то долго, — он повертел в пальцах кончик длинной красноватой косы. — Отец любит жить приятно. Он сделает там себе уютное логово, а мы его займём.
Ребёнок, не ребёнок — а слушались они Волчонка беспрекословно.
Той ночью старик подсел к нему и заговорил — не на синдарине, как раньше, и не на своём наречии, а на талиске.
— Слушай, Ном, — сказал он быстрым шёпотом. — Я сам из Дортониона. Может, и не был тебе хорошим вассалом, и мёртвых теребил без надобности, но я Беоринг, и Чёрному не служил. Я князем был! Ну, как князем... князьком.
(Не тем ли самым, за которым братья гонялись? Его именем пугали детей, а Берен — тот просто бранился. Что-то там Ко Бессмертный, похититель девиц, осквернитель колодцев, хозяин кладбищ... но Чёрному, оказывается, не служил.)
— Я это всё ради науки делал, хоть твои братья мне и не верили и говорили, что это не наука, а дрянь, — продолжал старик.
Ещё бы про свободу творчества начал, как дядя Феанор после седьмой чарки...
— Ном, я это всё к чему. У меня запасы есть. Давай подсыпем этим четверым яду? И потихоньку к тебе, в твой город. Я тихо сидеть буду, мне всё равно недолго осталось. А, Ном?
Вот она, свобода. Вернуться в город, выкинуть оттуда потерявших совесть кузенов, успокоить Ресто, корону починить, а то помялась... закончить мозаику в восточном крыле...
— Нет, — ответил Инголдо.
— Ась?
— Нет, говорю. Купить корону жизнями четверых детей... нельзя так, Шарки, — он нарочно назвал Беоринга его обидной кличкой. — Им-то что, они у Намо отдохнут и дальше куда-нибудь, куда волкам положено. А нам-то с тобою ещё жить.
Беоринг посмотрел на него недоумённо, но потом кивнул:
— Как знаешь, Ном. Тебе виднее.
Костиан, сын Костатты, очень гордился своим происхождением. Происхождением в общем и целом — папаша-то его был обычный лесоруб, и мамаша недалеко ушла, бортничала. Но племя — племя у него было лучшее из возможных. Даже эльфы это признавали — говорили, что Беоринги ближе всего к ним. Почти так же хороши, то есть.
Костиану этого было, конечно, недостаточно.
Что толку быть сыном лесоруба, освоившим тенгварскую грамоту и книги об устройстве Вселенной? Что толку говорить с теми, кто видел мир до прихода Солнца? Только страдать от собственного несовершенства. Нет, по-настоящему мудрый человек — а Костиан был весьма мудр даже в юности, бабка не даст соврать — не станет подбирать крохи за другими. Он будет расширять горизонты!
Оставалось найти то, в чём эльфы уступали людям — а лучше, в чём они вовсе не разбирались.
И он нашёл.
И какова была награда за труды? Стать нянькой у прихвостня Чёрного и терпеть его презрительное «Эй, Шарки». По крайней мере, отец этого волчонка всегда называл Костиана по имени, со всем уважением. Даже когда пытал — сразу видно хорошее воспитание, нолдор, те вроде у того же бога учились...
— Ном, и всё-таки, почему нельзя их просто притравить? Они даже мучаться не будут!
Это была большая жертва с его стороны — отказаться от подобающей мести за унижения и таскание в вонючей слюнявой пасти! Но ради Нома любой Беоринг поступится своими мелочными интересами. Ном всегда был больше богом, чем те, о ком он рассказывал. Те сидели за морем и ничего не делали — а Ном откликался на любую мольбу, приходил, помогал. Учил добру, охранял от зла. Увлекался иногда, конечно — но Костиан был не в обиде.
По слухам, так и Беора Старого он... как богу положено, и Баран с Беленом несли в себе божью кровь — как подобает истинным вождям, а не всяким там Златоглавым.
Выяснить бы, раз случай представился, да врождённая деликатность не давала.
— Ты у них в плену, они тебя мучают. Зачем ты их защищаешь?
Ном промолчал. Видно, и ему было нелегко объяснить, зачем так странно себя вести.
— Нет, ты ответь! Ты наш бог, ты должен знать ответ! — его разбирало.
Он предложил богу выход, а бог кобенится! Куда это годится?
— Но я не знаю, — клятая эта эльфийская кротость! — Я только знаю, что если так поступлю — не смогу больше петь. А если не смогу петь, то и жить смысла не будет. Они дети, Ко Бессмертный из народа Беора. Как можно убить детей и пойти своей дорогой?
— Хороши дети. Такой ребёночек сожрал твоих спутников и не подавился!
— И я убил его, потому что должен был спасти друга. Но кого я спасаю от этих четверых, Ко Бессмертный?
— А свобода как же?
— Да какая же это свобода?
Боги. Всё у них не как у людей!
Костиан только сплюнул сердито.
Вечером опять было пение.
Ном пел, волки пытались подтягивать, уши вяли. Волчонок пялился в пустоту, словно там было, на что смотреть, и рисовал палочкой по земле какие-то узоры. Нет, не узоры — буквы северной речи, проклятое письмо, от которого люди сходят с ума и начинают верить, что Чёрный их любит, а боги — ненавидят. На Костиана, в силу его мудрости и преклонного возраста, оно не действовало.
Ну, и разговоры. Конечно, разговоры — бессмысленные, как всё безумное.
— А что, по-вашему, бывает после смерти? — спрашивал Ном. — Вот мы вернёмся в Аман, хузды — те верят, что попадут в чертоги Аулэ и будут там работать над основой Обновлённого Мира, а волки?
А волки отвечали наперебой — кто про возвращение на Север и новые тела, а кто — про тёплый бок вселенской мамки, которая когда-то родила Волчонка и теперь ждёт всех его детей. Наивные, дикарские воззрения.
— А что такое Обновлённый Мир? — Волчонок, конечно, не мог не задавать дурацких вопросов.
То про свободу, то про Обновлённый Мир... философы, даже эльфийские, веками копья ломают — а ему подай ответ, и прямо сейчас!
— Ну, ты ведь согласен, что всё на свете немножко неправильно? Как будто можно было бы и лучше? Так вот, однажды... — понёс Ном своё любимое.
И только Костиан заметил, что раны-то его не заживают.
Тело не гнило, нет, и душу не отторгало — воля Волчонка была сильна, куда сильнее, чем воля человечишки из народа Беора. Но дело её не сильно отличалось: так же вот он сам поднимал покойников на кладбищах, чтобы они ему служили, покуда не испортились.
Ном был, конечно, куда более совершенным творением. Но может быть, иррациональное нежелание вредить хозяину вот этим и объяснялось?
* * *
А Волчонок слушал про Обновлённый Мир, где каждый голос будет услышан.
— А мама? — спросил он. — Мама там будет? Шарки говорит, у зверей нет души.
Эльф посмотрел на него своими наивными глазами и спросил в ответ:
— Скажи, если бы ты мог — разве ты бы не спел о ней и для неё?
— И он, и мы! — как всегда, поперёд батьки ответил Быстрый. — У нас много песен про Мать! Хочешь послушать?
Эльф кивнул.
А потом — потом он вплёл свой голос в их хор, и Волчонок почувствовал, как снова он совсем малыш, и мама рядом, и лижет ему загривок горячим языком против шерсти. И там, рядом с мамой — кто-то больше, горячее, такой же любящий. Которому он почему-то тоже родной, и мамка родная, и даже отец, хоть он и прихвостень врага всех эльфов.
Новая песня была слишком хорошей для Волчонка. Мамка любила его потому, что он — её детёныш; матери всегда любят своих щенков. Иначе щенки не смогут вырасти — так устроен мир, в нём нет ничего лишнего, ничего, существующего без простой понятной цели.
Так говорил отец; он хотел, чтобы Волчонок знал такие вещи и не обманывался.
Любить просто так, просто за то, что ты есть и кому-то дорог... это было неправильно и оттого не очень представимо.
— Твоя песня понравилась бы Рауко, — сказал он, подумав ещё немного.
— Рауко?
Волчонок хотел ответить «отец драконов», но понял, что это совсем ничего не объяснит. Драконы в массе своей были злые, грубые гадины, любители поиздеваться над теми, кого они считали слабее себя — и глупее себя. Разговаривать с ними было противно, как валяться в луже поноса.
Рауко был совсем другим.
Да, он был умнее и старше, но никогда не... Волчонок поморщился.
Ему не хватало слов.
— Рауко был твой друг? — осторожно спросил эльф.
Mellon. Эльфийское слово, означающее... что-то вроде союзника? Боевого товарища?
— Объясни, — потребовал он.
Рауко когда-то сказал ему: «Слова должны быть точными. Лучше спросить, если не понял».
Эльф моргнул единственным глазом — второй прятался за ровными чёрными стежками.
— Друг — это... это самый близкий, родной человек, даже если у вас разная кровь. Брат твоей души, — объяснил он.
— Брат души... — повторил Волчонок, примеривая. — А отец души бывает?
— Конечно. Или сын души, — подумав, добавил эльф. — Друзья ведь бывают старше и умнее нас. Или моложе. Главное — что они как родные, но мы сами выбрали их и полюбили их. И они нас.
— Да, тогда Рауко — мой друг!
— Расскажешь про него?
— Он был большой, — просто ответил Волчонок. — Больше меня, больше тебя. Больше большого зала в замке на острове. У него была тёплая чешуя и глаз, который сиял в темноте. Он говорил со мной и учил меня запретным вещам. Его больше нет.
Куцый услужливо добавил:
— Говорили, что до того, как стать Рауко, он был орлом, и даже Хозяин не смог выбить у него из головы дурацкие мыслишки. Птицы вообще тупенькие, не понимают правил этого мира, не то что мы, да, отец?
Волчонок со всей силы его треснул — никто не смел обзывать друга тупым.
— Но вообще он прав, птицы придурочные, — заметил он, подумав. — Отец с воронами сколько мучался, пока Шарки его не научил, как мертвечину приручать.
— А почему Рауко понравилась бы моя песня? — спросил эльф.
Какое ему дело?.. Хотя отец ведь говорил, что мастера любят похвалу. А он — мастер песен.
— Он любил такое всякое, неправильное. Про fairie, — Волчонок хмыкнул. — Он говорил, это значит «свобода», но такая, другая, чем то, что я имел в виду. И про nil — это любовь, но тоже другая. Бессмысленная — как у того, из твоей песни.
— Nil — это то, что здесь называют mel, — улыбнулся эльф. — Как в mellon, «тот, кого любят». Разве ты не любил Рауко?
Волчонок поморщился:
— Ты как дракон. Ловишь в ловушку из слов. Мне это не нравится, прекрати!
— Прости, — странно, он эльф был искренен. — Просто хотелось спросить, почему она бессмысленная.
— Она ни для чего не нужна. Мать любит щенят, чтобы они выросли. Это стремление размножиться и оставить свою кровь на земле. Пахарь любит поле, чтобы оно его кормило. В мире ничего не должно быть просто так, без выгоды, — снисходительно повторил он слова отца.
— Совсем ничего?
— Отец так говорит, а он знает мир.
Эльф кивнул, как будто и соглашаясь — и не соглашаясь одновременно.
— Ты в это не веришь, — нахмурился Волчонок.
— Не верю. Солнце светит, ничего не прося взамен. Дождь питает землю, реки текут, люди и эльфы говорят друг с другом и открывают друг другу сердца. Рауко учил тебя, а ты слушал его. Твои дети идут за тобой, хотя это и опасно, — перечислил он.
— Твоё слово против слова отца, — пожал плечами Волчонок. — А ты ему проиграл.
— А зачем верить на слово? Надо решать самому. Смотреть на факты и решать, — тоже пожал плечами эльф.
Странная идея — решать самому.
Но чем-то приятная.
* * *
«Слишком много философских споров для одного долгого дня», — устало подумал Инголдо.
Поднялся с трудом и, неровной походкой, опираясь на камни, спустился к реке. Хотелось смочить усталые ноги и просто послушать шепот струй.
Почувствовать воду.
Последнее время он плохо чувствовал примерно всё: воздух в лёгких, землю под стопами, самого себя. Всё было как будто за лёгкой пеленой, совсем тонкой, но непроницаемой. Даже звёзды светили вполсилы, даже цветы пахли словно понарошку...
У воды на сером камне сидел ребёнок. Волосы как пена на воде. Серое платье. Тонкая белоснежная кожа. И глаза — глаза, которые не спутать ни с чем: синие, зелёные, с рыжими отблесками в глубине.
— Владыка, — Инголдо склонился в поклоне, поскользнулся и чуть не упал.
Владыка Ульмо волной подкатился ближе, подхватил сильными руками — теперь зрелый муж, больше похожий на одного из эдайн: с окладистой рыжей бородой и в серой кольчуге.
— И тебе привет, Анольдо! — как всегда, владыка звал его на телерийский манер. — Побеседуем?
Серебряная трава не мялась под ногами идущего по ивовой аллее мужчины. Он не отбрасывал тени, а звук его шагов походил на шорох ветра. Сам он был высок — даже для эльфа — чрезвычайно худ и словно бы немолод; волосы его, цвета старого золота, длинной почти до пят, развевались вокруг, как невесомые. Но удивительнее всего было его лицо — почти некрасивое, с носом, похожим на клюв хищной птицы, с глубоко запавшими огромными глазами цвета небесной синевы.
Король Мира пришёл в Лориэн.
Женщина рядом с ним удивляла разве что обыденностью своей внешности. Просто одетая — в скромное, но добротное платье из серой ткани, вышитой серебряными узорами, серый плащ потемнее и серые туфли чуть светлее, с тёмно-серыми, словно побитыми сединой, волосами, забранными в низкий пучок и заколотыми перламутровой шпилькой. Но глаза... глаза её внимания не привлекали, и всё же оторваться от них было невозможно — как и угадать их цвет. Одному они казались карими, другой клялся, что они зелены, как трава, третий описывал два чёрных провала — каждый видел в очах валиэ Ниэнны то, что искал.
— Мне странно, что я вижу здесь тебя, и никогда — её, — негромко сказала она, продолжая беседу.
Хотя никто не видел её торопящейся, она без труда поспевала за широким, резким шагом Манвэ.
— Кто будет светить, если она позволит себе скорбеть? — грустно ответил он. — Варда живёт долгом, ты знаешь. Эльдар зовут меня королём, но она куда больше taro, чем я. Я уж скорее подхожу на роль tari, которая разбирается с повседневными заботами, пока её супруг занят делами государственной важности.
— И всё же, именно ты беседуешь с Единым, — напомнила Ниэнна. — Хотя и это больше похоже на тех tari, которые нам известны. Впрочем, так ли это важно, пока вы слушаете и слышите друг друга? Но скажи ей: нельзя запрещать себе скорбь. Невыплаканные слёзы разрушают душу, как кислота разъедает ткань, дорогой брат.
— Ей так проще. Пока она трудится, она верит — и боится отчаяться, если позволит себе отвлечься. Поговори с ней ты, сестрица? Может быть, сможешь прогнать этот страх.
— Поговорю, — кивнула та.
На поляне, под сенью плакучих ив, среди бело-золотых звёздочек альфирина лежал юноша. Контуры его тела были размыты, смазаны; черты его лица — неразличимы, волосы и руки сливались с травой, а тело было словно намечено небрежной рукой и оставлено недорисованным.
Манвэ медленно опустился на траву рядом с ним, потянулся взять за руку. Его ладонь прошла сквозь неё, как сквозь желе, и он отдёрнул её, словно обжегшись.
— Мы хотели познать радость эрухини, радость иметь детей... — сказал он тихо.
— А пришлось узнать ту истину, что для эрухини радость всегда идёт об руку со скорбью, — Ниэнна погладила его по голове. — Но разве радости не было?
— Была. И всё же... почему он? Почему не Оромэ, охотник и бродяга? Не воин Телимехтар, не Несса, беспокойная, вся в своего отца?
— И это тоже — чувства, знакомые многим эрухини, братец. «Почему моё дитя, моё невинное и чистое дитя, почему не кто-то другой, сильнее или сердитее», — не этот ли стон снова и снова доносится из смертных земель? И другой: «Почему я, чем я виновен перед Отцом Отцов, за что мне эта боль».
— Ты знаешь ответ, Ниэнна, мудрейшая из нас?
— Никто не знает. Наш брат принёс в мир боль, и эта боль не разбирает жертв — вот и всё, что тут можно сказать.
— И всё же, ты за него просила.
— А ты его простил.
Манвэ устало прикрыл глаза. Когда валар решили попробовать любить друг друга, как эрухини — узнать, что такое дни детей... тогда всё было так весело и так легко! И как прекрасны были их дети, рождённые любовью и дружбой, соприкосновением сердец! Сколько нового, дотоле неведомого дали они миру!
Музыка дождя, азарт погони, веселье танца, отвага, презирающая все препятствия...
...и Фионвэ, Илвэран, их драгоценный, единственный, прекрасный сын.
Дитя света и воздуха, воплотивший не могущество и ярость, но красоту и лёгкость своих родителей, повисший между небом и землёй семицветным изогнутым мостом. Весёлый и беспечный, совсем не схожий ни со строгим Эонвэ, ни со страстной Асэ, ни с невозмутимой Ильмарэ — ни с кем из духов, кто по своей природе был ближе других к Манвэ и Варде.
Единый сказал: потому что дети не похожи на братьев и сестёр.
Дети — это другое.
И добавил: «Теперь вы знаете. Но порой цена за знания бывает высока». Он никогда не осуждал их, Отец Отцов. Только предупреждал: за этот выбор придётся заплатить.
— Скажи, Ниэнна... как думаешь, Единый... он тоже всё это пережил?
Всё-таки не зря люди и эльфы зовутся «эрухини». Не зря Отец Отцов зовёт айнур своими детьми. И самый мир, его творение — разве не ещё одно дитя?
— Конечно, — просто ответила та. — Поэтому есть я.
Любовь, скорбь и надежда.
— Я не верю, что брат смог окончательно его убить, — сказал Манвэ решительно.
— Конечно, — кивнула Ниэнна. То ли «конечно, не веришь», то ли «конечно, не смог».
— Если мой Фионвэ сумел добраться до дома, сможет и ожить. Однажды, со временем.
Если он сумел не сломаться после того, что брат с ним сделал. Сохранить себя даже во тьме.
Его прекрасный, сильный, любимый сын...
— Конечно, — снова повторила Ниэнна.
Любовь, скорбь и надежда.
Всё, что остаётся родителям — по ту и эту сторону Морей Разлук.
Владыка помог Инголдо сесть, сам сел напротив. Упёр руки в колени очень человеческим жестом, опустил голову — эдайн говорили: «набычил». Непростой, непростой ждал их разговор... и всё равно: здесь, сейчас, в этой далёкой земле — даже самый непростой разговор с владыкой казался глотком чистой воды.
— Что я должен сделать? — спросил он.
Потому что зачем ещё владыке приходить, если не просить чего-то?
Но Ульмо только улыбнулся, как он умел, и потрепал Инголдо по щеке.
— Не торопись, Анольдо. Вечно ты куда-то спешишь... — он добродушно усмехнулся, становясь на миг похожим на что-то совсем уж странное: как будто на дерево и человека одновременно. — Потом поговорим о долге и о делах. Сначала о тебе.
— Обо мне?
— О ком ещё? Нет, я могу поведать об Оссэ и о его забавах, как сложно отнимать у него моряков теперь, когда он искренне считает себя вправе творить с ними, что хочет — всё равно Намо потом всё залатает и починит... но едва ли тебя волнуют заботы стихий и их труды, — сказал Ульмо.
Как в былые дни, когда он часто приходил на пляжи у Альквалонде играть с детьми телери и болтать с ними, как добрый дед со внуками: о том, о сём, о вещах, малопонятных эльфам и даже о раздорах среди великих и малых стихий.
— Я... — начал он — и замолчал, потому что в горле застрял комок.
Он и не думал, что о себе вдруг будет так сложно говорить.
Владыка погладил его по волосам. Обернулся вдруг женщиной, похожей немного на маму, обнял, прижал к груди — прохладной, как струи Сириона. Слёзы, непрошенные, потекли сами собой. «Что ж, тоже — вода, вот и стремятся к владыке вод», — шутливо-грустно подумал Инголдо.
— Тебе хотелось бы остаться мёртвым, — не спросил, сказал владыка сочувственно. — Уйти к Намо, в покой. На волю.
Инголдо кивнул.
— Я знаю, трусость. Но... если я живой, то надо идти за Береном. Я клялся ему помочь, я должен... но нету сил, — беспомощно закончил он.
Владыка не стал его бранить, только покрепче обнял. Как будто Инголдо не в подлости признался.
— Клятва такая штука, — сочувственно сказал он. — Сначала кажется, что укрепит и придаст сил, а потом — ломает. Поэтому Отец Отцов их и не любит. Сами себя ими связываем, сами мучаемся потом... не надо, нехорошо.
— А как же честь? Верность слову?
— Честь? Пустое это, Анольдо. Верность слову нужна тогда, когда от слова есть польза, а не вред. Какая польза твоему другу, что ты себя изводишь? У него своя дорога, и та, кто с ним идёт — сильнее и здоровее, чем ты. А ты нужнее совсем не там, верно?
Инголдо отвёл глаза.
— Нет ничего дурного в том, чтобы хотеть другим добра, Анольдо! — сердито нахмурил брови Ульмо. — Уж тебе ли не знать! И не хотеть уходить, потому что ты привязался к этим детям — не плохо, это хорошо, это значит, что твоё сердце по-прежнему живое, не ледяное! Да, ты мог бы преодолеть волю майронова сына и уйти к Намо. Но ты не уходишь ради него — и правильно!
Инголдо тихо, тоскливо всхлипнул. От самого себя и жалкости себя было противно, и всё же...
— Курво сказал тогда: «Как быстро ты забываешь старых друзей ради новых, Минно». Я бросил его ради Берена, и чувствовал, что прав. Но теперь бросаю Берена ради Волчонка — и что же дальше? Так и бегать, за новыми друзьями от старых?
И снова владыка не выбранил его, только провёл прохладной ладонью-волной по волосам.
— Анольдо, никто не может всегда выбирать только между совсем верным и полностью неверным, между врагом и другом. Даже мы, стихии. Иногда приходится из двух неверных выбирать менее вредное, или из двух верных — то, что больше по сердцу. Иногда приходится выбирать между друзьями.
— Таттэ... Курво, он злился, но он ведь и правда мой друг! А друзья вправе рассчитывать на помощь, поддержку... просто клятва, я ведь тоже дал клятву, и Берену я был нужнее! Берен без меня... Берен теперь вот без меня, — устало закончил он.
За такое изложение мыслей Румил бы его оставил без обеда. И был бы прав.
— Ты был нужнее Берену, Анольдо. И ты помог ему — без тебя бы он не пережил плен у Майрона. Ты не бросил Адарина: он бросил тебя, предпочтя свою гордыню и клятву вашей дружбе. И Берена ты не бросаешь — разве можешь ты сейчас идти ему на помощь? Можешь ему помочь?
— Нет, — признал Инголдо.
— О том и речь. Берен справится и без тебя — с ним та, кто куда сильнее, поверь мне.
— Это... так в замысле? — с надеждой спросил он.
— Анольдо! Замысел — не книга и не хроника, где всё расписано! — укорил его владыка. — Мы же об этом говорили. Нет, просто я знаю Лутиэн, дочь Эльве и Мелиан. На свете нет того, что эта девушка не одолеет ради любимого, поверь мне! Ну, вот ты и задышал. Хорошо. Не дело вам, эльфам, быть не живыми, не мёртвыми. А теперь можно и о делах...
— Значит, дела всё-таки есть?
— И первое из них — помочь тебе ожить, Анольдо, сын Эарвен, — серьёзно ответил владыка. — Но есть и другие. Нет во мне покоя из-за твоего друга...
* * *
Костиан недоумённо воззрился на раны Нома. Ещё вчера ведь не было ни малейших изменений — а сегодня вот, и сукровица сочится, и вроде как даже края начали тянуться друг к другу! Странные дела творятся!
Но с другой стороны, это ведь Ном, не кто-то иной.
Если кому и можно восстать из мёртвых, сбросив с себя заклятья и одолев чужую волю — то это Ному. Теперь, пожалуй, есть смысл снова обсудить вопрос про яд... хотя, конечно, придётся отложить исполнение всех планов на потом. Без ездовых волков отсюда выбираться, с больным-то Номом... нет уж, ищите дурака.
Придётся тащиться в Дортонион, смотреть на разорение родной земли — а там уж добрым словом и хитрым манёвром уговорить мальчишку пройти подальше, к границе земли владыки Майдроса. Уж он-то, верно, не бросит Нома, как-никак, а родич.
Костиан придвинулся к огню поближе, зябко запахнул шерстяную кофту. В камышах шуршало, словно шептали голоса погибших в этих гиблых местах — хотя ему ли, знатоку посмертного, не видеть, что призраков тут нет, одна лишь память да сожаления.
«Эх, добрый Намо, не обижай моего Костира», — подумал он печально.
Сам он перед хозяином всех мёртвых был, конечно, не без вины — скольким покойникам он не дал покоя — но Костир-то...
Безрадостное это было зрелище и неуютное — осеннее болото. И огоньки эти, бледные такие, неверные, ... был бы Костиан суеверен, выглядывал бы сейчас среди них своего сына.
Но нет, он знал, что души не остаются здесь, среди живых. Они уходят к Намо, который решает — кому подняться на «Морниэ» под чёрным парусом и плыть за грани мира, а кому вечно страдать в его владениях.
И снова: «Костира, Костаира, Костирена, Данар — добрый Намо, не осуди!».
Костиан сам, конечно, не пошёл тогда на битву. Не потому, что струсил — он был вовсе не трус, хотя и не безрассудный храбрец. Не потому, что стар и слаб — тогда-то здоровье ещё было, до встречи с вражьей допросной. Просто его никто не звал.
Государь Эгнор его поставил вне закона и объявил врагом людей и эльфов — так чего он будет ради такого государя идти на смерть? Нет уж, дудки. Костиан остался дома, с женой и младшими детьми, и почитал себя весьма разумным.
Вот только взрослым детям родительская разумность не в указ — и Костир покинул Дортонион с войсками, да так и не вернулся. Ни живым, ни даже телом — лежало оно тут где-то, в холодных топях, огнём холодным не обогрето, водой холодной навек объято. Навеки сгинул rede nadillo(1), сложил за Нома русую голову...
Совсем стемнело. Костиан пошевелил длинной палкой догорающий костёр, подбросил хворосту. Плотнее завернулся в длинную кофту, подтянул ноги к груди, устраиваясь спать на влажной — всё здесь было отвратительно сырым — подстилке.
— Эй, Шарки! — окликнул его волчонок.
Только проснулся человек — и тут же это «Эй, Шарки». Ничего: не так долго осталось маяться, вот только найти способ его уговорить идти дальше на Восток — и можно будет избавиться от всех бед сразу. И от волков, и от ранних побудок, и от дурацких вопросов, и от отсутствия всякого уважения к старому человеку и практически князю Беорингов.
— Да, молодой господин?
— Шарки, скажи-ка, что ты думаешь: бывает бессмысленная любовь? Да не пялься так на меня! Эльф говорит, бывает. Отец сказал, что не бывает. По-хорошему, отцу лучше знать, он этот мир творил, а эльф недавно родился. Но хочется составить своё мнение — а дети говорят, для этого стоит спросить кого-то третьего. Так что ты считаешь?
Какая длинная, сложная мысль — по меркам Волчонка, конечно.
И вот что тут ответить? С одной стороны, по совести, надо бы поддержать Нома. С другой — в бескорыстную любовь (которую, по дурости, Волчонок звал «бессмысленной») Костиан не сильно верил. Каждый ищет свою выгоду, известное дело, и в любви тоже — кто-то утешения, кто-то поддержки, кто-то детей и внуков...
— Чтобы сказать, что я думаю, молодой господин, мне надо подумать, — вывернулся он.
— Ну, думай. Но не затягивай!
Ном всё шёл на поправку, с каждым днём и чуть ли даже не часом. Хорошо: Ном сильный воин, лучше ему быть здоровым. Да и просто — лучше, чтобы Ном был здоров. И так, по всему судя, шрамы у него останутся: жалко божественной красоты, а уж божьего здоровья — тем более.
— Скоро Дортонион, — сказал он, преувеличенно-бодро. — А там и дальше можно будет, если Вана нам улыбнётся.
— Скоро, — ответил Ном тихо, невесело, и вдруг перешёл на талиску, заговорил нараспев: — Сосны и ели Дортониона, песок и почва, трава и камень берегли бдительно Беорова внука, Барахирова сына, Берена Смелого: рука его клык, и клинок — коготь... удивительный он человек, Берен! Если бы мой дом разорил враг, осквернил мою родную землю, сделал её невыносимой, изуродовал — смог бы я, как он, оставаться до последнего и не сдаваться? Сражаться за память о доме?..
— Ты же Ном, — недоумённо ответил Костиан. — Конечно, смог бы.
— А я вот не уверен, мой добрый Ко Бессмертный. Это какую надо любовь иметь, чтобы — вопреки всему, вопреки самому себе, так держаться! Такой у меня нету.
— А у него, значит, есть?
У сына Барахира, который вот в этих топях положил Костира и чуть не сложил свою голову, чтобы Нома из них вытащить. Который умер, сражаясь за всё тот же родимый дом... за дом, на пороге которого — кровь Костаира и Костирена, кровь Данар, отказавшейся уходить за Эмельдир, чтобы умереть княгиней, а не служанкой.
— У него, значит, есть, — повторил он за самим собой.
«А у меня?» — невольно пришёл вопрос.
Смог бы он — как барахиров сын, сражаться за мёртвый дом, за мёртвую жену и мёртвых сыновей? Возможности судьба не предоставила, его схватили живым ещё до того, как порубили мальчишек и пошли за Данар, Прихвостню была нужна его наука.
Но если бы вдруг не схватили?
Повернул бы он своих послушных мертвецов против войска Прихвостня, стоял бы до последнего? Или сдался бы — на жизнь в плену или на смерть, не важно?
— Ох, Ном, боже наш Ном! Любишь ты душу перетряхнуть добрым людям! — тоскливо сказал он.
— Прости, пожалуйста, — ответил тот. — Честно, я не люблю. Просто так получается.
Не любит он... что за бог у них, не бог, а недоразумение!
* * *
Волчонку нравилась идея о составлении своего собственного мнения из множества чужих, в этом было что-то от той свободы, о которой любил говорить Рауко. Не нравилось ему то, что оказывается, мнения могут противоречить тому, что он считал верным.
Но если верить Карнаухой — а она была умнее многих — если большинство согласно в чём-то, но большинство обычно бывает право. А если собрать все голоса — Рауко, отца, волков, эльфа и Шарки — то отец оставался в меньшинстве.
А если отец ошибался — или соврал, такое тоже могло быть — в одном, то значит, мог и в другом. Волчонку это совсем не нравилось — так могло получиться, что отец ни в чём не прав, и что тогда?
Слушаться эльфа?
Нет уж. Отец бежал, его замок закончился, а значит — Волчонок теперь Хозяин самому себе. Сам всё решает и никого не слушает. Только собирает чужие мнения, чтобы сделать разумный вывод.
Эта мысль ему понравилась и он решил пока на ней остановиться.
1) дорогой наследник (талиска)
В заброшенном доме всё было, как при хозяевах — хотя нет. Они едва ли кидались стульями и бросали одежду посреди комнаты, Шарки не говорил, что у Беорингов так принято.
Интересно жили люди, непривычно. В окнах вместо стёкол была тонкая плёнка, на карнизах внутри висели куски вышитой ткани, на полу — тоже ткани, плетённые из тонких нитей, пёстрые, с бахромой. На постелях — покрывала, на стенах — тоже куски ткани прибиты. Шарки сказал — чтобы не дуло из щелей. Стол, стулья, ложки — всё деревянное, лакированное, расписанное в три краски простыми узорами. Беоринги вообще узоры и краски явно любили.
Никакой, словом, отцовской тёмной эстетики — да и пёс бы с ней. Всё равно Волчонок не очень понимал, что это значит. Что-то, связанное с любовью Хозяина везде навтыкать шипов, заклёпок, острых углов и рож пострашнее.
Одежда у Беорингов была под стать жилью: не пёстрая, но и не блёклая. Шерстяная, но не жаркая и не колючая. Вышитая, но простенько. Хорошая одежда, и Волчонок с радостью сбросил опостылевшее уже тряпьё и подобрал себе штаны и рубаху по размеру. Чистые, сухие, хотя и не свежие — всё-таки сколько лет тут лежали — они радовали тело прикосновением. Блаженство, что тут скажешь!
Грязь, бардак — Волчонок их на дух не переносил, а вот захватить больше одной перемены одежды в дорогу не додумался. Стирать же было попросту негде: последние недели они шли сначала по болоту, потом по пустошам, потом опять по болоту. Наказание пошло на пользу, и когда эльф припомнил, что человек той огненной женщины ему рассказывал, мол, в Дортонионе пить ничего нельзя и всё отравлено — Волчонок немедленно приказал набрать побольше воды впрок.
Тратить её на мытьё, правда, было нельзя, так что он взял тряпки, какие наименее жалко, и хорошенько ими вытерся. И Шарки с эльфом приказал так же сделать, а то они замарались ещё хлеще. Особенно эльф, весь вымазанный тем, что сочилось из его ран.
Закончив с наведением порядка в себе, он прибрался в доме и сел вычёсывать детей.
Воздух был сухой и противный на вкус. Как пепла глотнуть — аж вспомнился замок Хозяина, такой же неживой. Хотелось как-то отвлечься, перестать замечать мёртвый сад снаружи — ровную чёрную землю, чёрные деревья с чёрной сухой листвой, сухую жёсткую траву, похожую на иглы мёртвого ежа, яблоки, кажущиеся спелыми и рассыпающиеся от прикосновения в мерзкую чесучую пыль. Мёртвый мир снаружи, где ничего не росло, ничего не жило и всё застыло, и от всего веяло болью и отчаянием. Волчонок не мог их не слышать — жалобы травы, деревьев, воды, которой запретили течь и меняться.
Зачем отец всё это натворил?
Разве не лучше было бы поселить здесь волков и орков, в этих красивых крепких домах?
Загадят, конечно, быстро — но если хорошенько взгреть достаточно раз, научатся вести себя аккуратно. И не таких учивали. Как там пел Одноухий? «У Глаурунга нету талии, он не умеет танцевать — а мы его по морде лавкою, и кочергой, и за добавкою, потом столом и снова лавкою — и научили танцевать!».
Эх, Одноухий! Как он умел петь, заслушаешься — то звал небесный цветок, то бранил его, то вызов кидал...
— Эй, эльф! Давно хотел тебя спросить. Почему ты один поёшь?
От Быстрого пахло немытой шерстью. Хороший запах. Волчонок вдохнул полной грудью и продолжил вычёсывать — больно уж много детишки набрали всего по дороге. Эльф хлопнул глазами, как всегда, не понимая простого вопроса.
— Я имею в виду, — разъяснил Волчонок, — ваши кричать кричали, а вот чтобы петь вещи в тюрьме, это ты первый. Один что ли умеешь?
Даже те, кого сожрал Сильный, не пели. Только этот. Пел не как против отца, всякое невероятное. Нет; тюремные его песни пахли сосной, елью, дымом из очага, тёплым молоком — хорошие песни. Вопрос был важный: чем дальше, тем больше эльф наглел, чуя свою нужность. Надо было выяснить, нельзя ли его заменить кем-нибудь покладистым, пока не поздно.
Огорчился, кажется. Наверное, те сожранные были друзья.
— Нет, я не один такой, — медленно, словно через силу, ответил эльф. — Там, за Морем, многие умеют петь. Их учил сам Сулимо.
Волчонок швырнулся в наглеца железной щёткой:
— Не бранись мне тут! И отдай обратно. Зачем поминаешь всякую дрянь?
— Дрянь?
— Душителя, — радостно встрял Быстрый. Любил он встревать в чужие разговоры, благо эльф уже понимал нормальную речь. — Он как-то играл с Хозяином в кости и выиграл у него весь воздух. Затянул небо дымом, чтоб никто его собственность не крал, ядовитые туманы повесил. Но Хозяин его перехитрил: сказал, что если взять и отдать — это, вестимо, не кража. А известное дело, где вдох, там и выдох!
— Понабрался у орков, — фыркнул Волчонок, пнул сына в бок беззлобно. — В кости с Хозяином, это надо же... будет ещё Хозяин до всяких снисходить! Но Душитель жуткий. Он идёт, а воздух вокруг — как огонь, и обжигает всё нутро, и дышать невозможно. Страшный враг, его поминать нельзя! Вдруг услышит!
Он хорошо помнил — как воздух налился светом и резал глаза, как падали рядом дети, совсем малыши, а этот просто шёл, лёгкой такой походкой, не в доспехе — в красной накидке на плечах, прозрачной, тонкой, вышитой золотыми нитями. Волчонок тогда эту накидку разглядел так, что на всю жизнь запомнил: сотни, тысячи птиц, тончайшие золотые контуры по тончайшей ткани. Если бы она не слетела с плеч Душителя, не накрыла Волчонка с детьми — не пережить бы им гибель Утумно.
А так — повезло.
Он бы её себе оставил на память, да только её потом ветром унесло.
— И всё же, именно он научил петь моих учителей. Faire Thuaron(1), Друг Птиц, Сокол Света, — дерзким тоном ответил эльф. — Не говори о том, чего не знаешь.
— Я не знаю?! — вспылил Волчонок, вскочил на ноги. — Это ты, рожа грызенная, не знаешь! А я его видел!
Изумление ещё больше исказило и без того уродливое лицо эльфа. Потом он тихо, словно самому себе, заметил:
— И остался жив.
— Потому что на моей стороне была сила, — «И удача». — Был бы я слабее, закончился бы прямо там.
— И твой отец остался жив, потому что силён? — по-драконьи вкрадчиво спросил эльф.
Треснуть бы его, да ещё кончится — и кто тогда петь будет?
— Хочешь сказать, что он меня, как та огненная женщина — помиловал? Но я ему никакой крепости не сдавал, знаешь ли!
— Так и он — не Лутиэн из Дориата, и ты — не Вонючка Жестокий. Зачем ему убивать детей?
— Ну спросил! — заржал гиеной Быстрый. — Детей врага, их надо первым делом прибить. Чтоб он стал слабее и не вырастил новых воинов. Закон войны, ну!
— У нас другие законы.
— Ну и тупо, — ответил тот.
«Зачем ему убивать детей». Спросит тоже. Или это — как с fairie, как с бессмысленной любовью? Отец и Хозяин опять оказались неправы?
Но эльф проиграл отцу.
А отец проиграл женщине, униженно молил её о милости и сбежал впереди собственного визга.
Эльф хоть о милости никого не молил, и вообще Сильного ушатал. Как, кстати?
— Слушай, — сменив тон на мирный, спросил он, — а как ты смог Сильного загрызть? Дохлый же был. Я знаю.
Эльф посмотрел в упор и ответил просто:
— Помогли.
— Кто?
— А не знаю. Астальдо, Сулимо... я их всех просил: «На один рывок, пожалуйста, друг же», — он как-то странно, хрипло рассмеялся, скривил порванный рот в улыбке. — И вот, получилось.
— Что ж они, твои Сулимо с Астальдо, — он выговорил бранные слова со всем удовольствием, — тем двенадцати помочь не пожелали?
— Не знаю, — всё так же просто ответил тот. — Узнаю, непременно тебе скажу.
— Дерзишь.
— Нет, правда скажу. Меня это самого грызёт. Почему одни умирают, а другие — нет? Почему мне послали сил, а им — только смерть? Почему они не помогли моему дяде, когда тот пошёл на Врага? Знаешь, иногда спать не получается от всех этих вопросов! Ну, и от боли немного... — он снова хрипло рассмеялся.
— И что?
— И ничего. Приходится верить, что где-то есть объяснение. Иначе, понимаешь, твой хозяин окажется прав, мир — бессмысленная, дрянная штука, в которой только бесконечный круговорот своих и чужих ошибок и страданий. И надо не жить, надеяться и бороться, а искать способ разрушить душу так, чтобы умереть насовсем и всё это прекратить. Но ты — вот ты — разве хочешь насовсем умирать?
Волчонок только выругался — самыми плохими выученными от орков словами.
1) Вольное Дыхания
Наставница Элеммирэ говаривала: «Тяжёлые сны приходят к тому, кто ложится спать с тяжёлым сердцем». Ваниарская поговорка о том, что у всего есть свои последствия казалась молодому Инголдо странной, и однажды он не удержался, спросил:
— Но зачем тогда ложиться? Не проще подождать, пока на сердце не полегчает?
Наставница посмотрела на него, как будто он снова спел то розовое и с прозрачными крыльями вместо бабочки. Потом вдруг улыбнулась, светло и радостно, и ответила:
— Хорошо, что ты не понимаешь, зачем, дитя Блаженной Земли. Там, откуда мы пришли, нельзя было не спать. Тот, кто не выспался, шагает медленнее, его рука неверна, его глаза невнимательны. Тяжёлые сны или лёгкие — а надо было ложиться спать, чтобы набираться сил и не вводить в опасность ни себя, ни своих друзей.
Вот и пришли времена, когда приходится самому следовать этому правилу, и что бы там на сердце ни лежало, а устраивать голову на какой ни есть подушке, закрывать глаза и заставлять себя уснуть. Потому что утром снова в путь, а он и так ранен.
Но снился, на удивление, не мёртвый Ангрод с упрямо сжатыми губами, не то, что осталось от Аэгнора и даже не усталая мама у окна своей светлицы. Снился ему носатый сенешаль Аглона Финэллах. Не как в последние дни, когда волосы у него повыдрали, а зубы повыбили — красивый и целый, с гордо сияющей на груди восьмиконечной звездой. Инголдо почти не знал его; в походе тот как прибился к Эдрахилю, так они и каркали на своём, на сенешальском, между собою. Только и поговорили, что в самом начале — и в самом конце.
— Не думай, что я их бросаю, — с порога заявил ему тогда Финэллах. — Я отправляюсь с вами, потому что вы идёте за Камнем.
— И что?
— Ты слышал, что они говорили про клятву? Я думал, она... — он пощёлкал пальцами в воздухе, словно подзывая слова, — означает готовность сражаться, а не готовность в самом деле убить любого, кто встанет на их пути. Как верный друг, я не могу такого позволить. Сегодня они грозятся воевать с тобой, а завтра? Вдруг Камень достанется лорду Маэдросу и он не отдаст его по первой просьбе? У гномов такое случалось, что братья убивали друг друга за особо ценные сокровища. Это называется «Усобица».
— Мы, всё же, не гномы, — напомнил Инголдо. — Зачем так дурно думать о них? Они ведь просто не хотели допустить даже...
— Мы не так от них отличаемся, Артафиндэ. Если нас рассердить, запугать, запутать — мы не хуже гномов можем начать творить страшные вещи. Просто пока нам везло. Нет, способ выбраться из ловушки только один: Камень не должен принадлежать никому. Покажем его Лесному Чу... королю Эльве, и выбросим вон. Повесим на высокое дерево, бросим в Сирион, отправимся на побережье и отдадим морским волнам — неважно. Пока он никому не принадлежит, никто не сможет сослаться ни на какие клятвы. И мир не будет нарушен. Но сначала надо его добыть, конечно.
Занятный он был эльф, этот сенешаль. Уже умирая, рассказывал им с Береном байки про гномов. Даже пробовал спеть, отчаянно шепелявя из-за недостатка зубов, одну из баллад про усобицу Огнебородов. А теперь сидел — красивый, нарядный, с множеством пёстрых лент в чёрных волосах — и смотрел на Инголдо внимательным долгим взглядом.
И вдруг сменился Баланом — не старым, совсем молодым. Устроившимся на мостках над Сирионом, опустив ноги в воду и запрокинув голову навстречу Солнцу — яркому, такому яркому, что выбелило и мостки, и Сирион, и даже русую баланову голову. И столько в этой яркости было радости, что захотелось пошутить, и Инголдо, подкравшись, столкнул Балана в воду — и полетел вместе с ним сам от умелой подсечки. Выпрямился, сердитый и мокрый — а Балан напротив улыбался и фыркал, как большая лошадь, и вдруг наклонился к нему и сказал — серьёзно, строго:
— Ничего не закончится. Всё будет.
Всё. И Балан, и Берен, и мальчики в белой пене водопада, и юноша с игрушечным корабликом, и темноволосые близнецы, обнявшиеся, как в последний раз, и воин с зелёным камнем у ворота — и свет в ладонях дяди Феанаро, столько света, что хватит на всех.
— Ничего не закончится, nadilar. Всё будет, — повторил Балан.
Тут Инголдо проснулся, морщась от боли, потому что дурная затея — плакать с таким израненым лицом, только хуже солью разъест. Разбудили его, впрочем, не слёзы, а крепкий пинок Волчонка. В окно бил свет — слишком ровный, слишком белый. Всё вообще здесь было как-то слишком, как будто спето неумелым учеником, гнавшимся за внешней формой и наотрез забывшим о содержании. О том, что живое должно быть живым, хотя бы иллюзией живого.
Настоящую-то жизнь ни одному эльфу было не под силу спеть.
— Что-то ты радостный, — сказал Волчонок после обычной своей побудки. — Вчера был грустный.
— Всё будет, — передал ему добрую весть Инголдо. — Ничего не закончится, понимаешь? Ничего не зря.
— Лихорадит, похоже, — сочувственно сказала Карнаухая и осторожно лизнула его в лоб. — Хотя нет, не горит вроде...
— Если его лихорадит, лучше ещё сутки тут посидим, молодой господин, — поспешил посоветовать Костиан. — С больным по пустошам идти опасно. Вдруг слуги вашего отца притянутся на слабую добычу?
— А то он до этого сильный был, — усомнился Куцый.
— Остаёмся, — Волчонок как черту подвёл. — Нам спешить всё равно некуда.
Костиан — сменивший старую кофту на новую, такой же крупной вязки и такую же тёмную — заставил Инголдо проглотить какой-то порошок и запить отвратительной дрянью, которую Беоринги звали душой вина, а особо поэтичные эльфы — огненной водой. Таттэ как-то сказал, что годилась эта гадость только для протирки инструментов, особенно стеклянных, и был почти прав: ещё ей неплохо было промывать раны. Жгло неимоверно, зато если повторять почаще, то никакого воспаления и заживало легче.
Волки косились подозрительно, а Карнаухая и вовсе заставила полдня лежать и не шевелиться. По её словам, это хорошо помогало волчатам. Ещё одно чудо северной медицины, значит — наравне с целебной слюной и костяной иглой. Хотя та могла принадлежать и медицине Беорингов, он не был уверен.
По крайней мере, потом его отпустили и позволили заняться разбором кладовки. Между делом Инголдо нашёл хороший топор и привесил его на пояс — ходить безоружным в месте, которое называют Лесом Ужаса он был, как сказал бы друг Балан, не согласный.
Волчонок было взъярился, но объяснение принял.
И всё это время он думал. О своём сне, о вчерашнем разговоре, о владыке Ульмо и его просьбе:
«Я боюсь, что он слишком привяжется к своему городу. Что предпочтёт погибнуть с ним, а не жить без него. Но если он выберет смерть — то выберет её и за других тоже, Анольдо.».
Берен до последнего оставался здесь, в этом ненастоящем мире, где цветы не имеют запаха, а звёзды похожи на аккуратные белые точки, круглые и безжизненные. Где воду нельзя пить, еду нельзя есть, а дышать воздухом можно только постольку поскольку. Оставался, потому что любил.
Так ли любит свой город Нэлле(1)?
А если так, то что тогда делать?
И как вообще попасть в Гондолин отсюда, как сбежать от вонючкина сына и его волков — не убивать же их, в самом-то деле!
— Научи меня! — резкий голос Волчонка вырвал его из размышлений над мешком пшеницы.
Не испортившейся, не побитой гнилью, просто ненастоящей, как всё здесь.
— Чему? — спросил он.
— Петь. Рауко говорил, волки — певцы от природы. Значит, я могу научиться. Значит, ты меня научишь.
1) прозвище Тургона
Эльфы мало меняются с годами. Они не стареют, не тяжелеют, не пригибаются, оставаясь навеки в расцвете юности и одновременно на пике сил и зрелости. И всё же, можно легко отличить молодого эльфа. Он тоньше, быстрее, он движется иначе. Живой интерес к миру ещё не сменился у него тяжёлой усталостью от груза памяти, и это видно не только по глазам — по тому, как он взмахивает руками при разговоре, вглядывается во всё вокруг, вертит головой.
Юность их длится долго — пять сотен человеческих лет пролетает незаметно, и даже первое тысячелетие порой приносит только некоторый жизненный опыт. И два эльфа, стоявших на балконе у резной двери, были ещё заметно молоды, очень красивы — и совершенно друг на друга не похожи.
Тот, что опирался локтями на ограждение, слегка ссутулив плечи, был явный нолдор. Длинные чёрные волосы, гладкие и блестящие, белая кожа, серые глаза, прямой нос и упрямая складка губ, по нескольку серёг в каждом ухе, ожерелье и золотой пояс. Каждый, кто его видел, говорил, что Тельперинквар в полной мере унаследовал внешность своих отца и великого деда. В мать он пошёл невысоким ростом и мягким нравом.
Второй же, Артанаро, стоявший у стены, хмуро сложив руки на груди, словно явился сюда прямиком из Валмара, так он походил на живущее там племя ваниар. Высокий, тонкий, он заплетал светлые волосы в длинную косу. Запястья его были унизаны браслетами, и браслеты звенели на лодыжках. Вот только вместо принятых у блаженного народа лёгких туник на нём была обычная рубашка и длинные штаны — походная одежда, простая и добротная.
— Она и сегодня не ела? — спросил Тельперинквар.
— И завтра не станет, — мрачно ответил Артанаро. — И послезавтра. Если бы мы были дома, я бы сказал, что ей нужно в Лориэн, но...
— Мы не дома.
Говорили они про госпожу Мириль. Теперь королеву Нарготронда, жену короля Ородрета.
Когда-то её называли равной Индис по красоте и грации, когда-то её смех часто звучал среди садов Валмара. Тогда её прозвали Мириль Улыбчивой, и многих забавляло, что самая весёлая из ваниарских дев выбрала себе в мужья серьёзного и строгого сына Ангарато. Артанаро ещё помнил мать такой — бодрой, неунывающей, с улыбкой и шуткой на устах даже среди льдов Хэлкараксе.
Тельперинквар же впервые увидел её только теперь. Нет, конечно, видал и раньше — но издалека, и уж точно ни разу с ней не говорил. Но именно он вынес её из загоревшегося шатра, именно он помог ей взобраться на лошадь, и именно ему пришлось сказать ей страшную весть о смерти двух её сыновей.
В Нарготронде её прозвали иначе — Мириль Скорбная. Она не улыбалась и не смеялась больше. Молча, как тень она скользила по подземным коридорам, молча садилась за прялку, молча поливала свои цветы и молча собирала плоды в своём подземном саду, в котором Тельперинквар налаживал кристаллы света так, чтобы всё могло свободно расти, как бы под ясным солнцем. Единственной её отрадой была музыка, и король Финрод часами играл для неё на своей арфе, стараясь облегчить душевную муку. Последний год она как будто стала оживать, и часто звала своего спасителя с ней пообедать или просто поговорить, живо интересовалась его работой в кузне, жаловалась, что муж совсем забросил свои скульптуры, погрузившись в бумаги и быт. Так Тельперинквар и подружился с Артанаро, тоже частым гостем в покоях своей матери.
Тельперинквар не знал, любовь ли чувствует к ней, жалость или просто то восхищение, которое каждый мастер испытывает при виде красоты, но робко надеялся, что тучи над госпожой Мириль развеются. Отец с сомнением качал на его надежды головой.
— Если бы ты умер, я бы не смог дышать спокойно, покуда не встретил бы тебя из Мандоса, — мрачно сказал он как-то. — Такова судьба родителей, сынок.
Тогда Куруфин ещё не знал, что лишится сына иначе.
— Здесь стало душно, — заметил он внезапно. — Раньше я этого не замечал. Такая духота, как будто перед грозой. Даже в кузнице не так паршиво.
— Стало, — Артанаро отлип от стенки, встал рядом. — Не хочешь уехать с нами?
— А «вы» — это кто? И куда вы собрались?
— А я забыл сказать? Прости, последние дни сплошное безумие, сам понимаешь. Иногда я не уверен: то ли я просто не выспался, то ли наоборот — так и не проснулся и смотрю какой-то чудовищный кошмар. Дядя казался таким... как свет Дерев. Вечным.
Он понял неудачность сравнения слишком поздно, хлестнул себя по щеке, как бывало, когда говорил чушь и за это на себя сердился.
— Да уж, что есть — то есть. Я сам уверен только в том, что распростился с отцом, — невесело ответил Тельперинквар. — И что он меня простил. Не знаю, как с этим жить.
Артанаро только покачал светлой головой. Он сам не представлял, как можно отречься от родной семьи — но его семья и не пыталась удерживать девицу силой, как тёмный эльф Эол, и не стояла за гибелью короля Фелагунда. Дяди Инголдо.
Знать, что король в плену — и не просто, а у того, кто убил юных Хэрумира и Арталиндо, его внучатых племянников. Знать, что короля пытает тот, кто сам себя назвал Жестоким, тот, кто превратил его прекрасный Тол-Сирион в место скверны, страданий и гибели... знать всё это и не только не помочь — даже не сказать об этом ни слова. Ни словом не выдать, что знаешь о судьбе любимого народом государя. Любимого дяди. Верного утешителя. Друга и родича, который когда-то был ближе братьев.
И теперь дядя-король мёртв, а мама рухнула в такие глубины отчаяния, каких даже и раньше не знала — рухнула от боли предательства и боли новой потери разом.
Артанаро сжал кулаки и медленно заставил себя успокоиться.
Что гневаться на тех, кто уже изгнан и оставил их навсегда? Это никак не могло помочь его другу. Другу, которому и без того так больно, что он еле дышит.
— Мама хочет уехать к морю, — объяснил он. — Если нельзя вернуться домой, то можно хотя бы смотреть в ту сторону. Так она сказала. Хотела взять с собой нас обоих, но сестра решила остаться с отцом. Сам понимаешь, она наследница(1), нрав под стать, — он горько усмехнулся.
— Да уж, если она что-то решает, переупрямить её непросто. А ты уедешь с матерью?
— Конечно. Нарготронд — мирный город... теперь совсем уж мирный. А значит, ничто не помешает ей занять место наследницы. Да и в любом случае, она куда лучше моего понимает что в цифрах, что в судах — я всё-таки скорее воин и командир, чем правитель. Так что, ты с нами? У моря душно не будет.
Тельперинквар задумался. Уехать, оставить всё позади — что отца, что город, ради которого отец переступил через себя и стал чем-то, что нельзя назвать отцом... соблазн был велик.
Но уехать к морю?
Жить среди береговых синдар, терпеть косые взгляды, вечно оправдываться за то, что родился не в той семье?
Мысль поразила его неожиданно — яркая, как молния и простая, как два и два. Если так больно жить с позором своей семьи — то всего лишь нужно этот позор стереть. Стать героем. Помочь им всем! Говорили, что Берен ещё жил — что Лутиэн смогла его спасти. Они не могли быть слишком уж далеко, а помощь им пригодится любая, тем более помощь такого мастера и воина, как Тельперинквар.
— Прости, друг. Я уеду, но не с тобой, — сказал он. — Я всё исправлю!
Артанаро с сомнением покачал головой, но спорить не стал.
Спорить с потомками Мириэли вообще было бесполезно — даже валар это усвоили.
1) Имя Финдуилас я реконструирую как перевод Финтуилассэ, где первый элемент тот же, что в «Финвэ» и означает её роль первенца
— Эй, Шарки! Что-то ты невесел! — окликнул его один из волков.
Кажется, Быстрый, раз у него был хвост.
— А ты больно уж весёлый, видно, давно не получал, — в тон ему откликнулся Костиан.
С волками надо было по-волчьи, грубо и просто. Только Ном ухитрялся как-то иначе, так на то и Ном.
А веселиться Костиану было уж совсем не с чего: их странный отряд как раз дошёл до мест, где он когда-то вырос. И смотреть на исковерканную родину было и больно, и противно, и как-то стыдно. Особенно на лес, в котором столько гулял мальчишкой.
Серебряные липы стали чёрными и больше не цвели. Умерли сосны, в которых матушка проделывала дупла для своих пчёл, и сами пчёлы больше не жужжали, спеша по своим пчелиным делам. В исковерканные тени себя превратились молодые деревья, что он с братом и сёстрами сажал когда-то на отцовской просеке, платя Палуриэн(1) заботой за заботу.
А дом?
Сам Костиан не жил в нём давным-давно — как покинул родные стены, гонясь за новым знанием, так и не возвращался. Занятно свернулся его путь: отсюда до княжеских палат — и назад, сюда, где на печи ещё не стёрлись его попытки писать тенгвар, где не истлели ещё мамины дорожки на полу, где занавески на окнах вышиты руками сестёр.
Дом перешёл от родителей к брату. Простому лесорубу, каким был их отец. Не было у брата ни великих амбиций, ни сильного характера, одно смирение и добрый нрав. Такие, как он не оставляют следа в истории. Ном бы возразил, конечно. Сказал бы, что оставляют — в сердцах людей, которых они обогрели своим теплом, что-нибудь такое вот божественно-нелепое.
Костиану важно было другое: не придётся ли и брата хоронить, как хоронили хозяев тех пяти домов, где останавливались до этого?
Хоронили сначала вопреки воле Волчонка, желавшего скормить тела своим волкам.
Потом тот передумал, после долгого спора с Номом, можно ли есть разумных и есть ли разница есть волку волка или есть волку человека. Разрешил копать могилы, даже отрядил на помощь своих детей.
Всё равно без Нома трупы остались бы несъедобными. Здесь ничего не портилось и ничего не годилось в пищу — такое на всём лежало колдовство. Оленьи туши висели свежими, как десять лет назад, и оставались свежими после того, как Ном над ними пел, расплетая чужие чары. Зерно и овощи, горох и солонина — если еда была в кладовке, она годилась под песни Нома.
Но охотиться на местных зверей или копаться на огородах...
Костиан поёжился.
Он помнил, как они впервые наткнулись на зверей. Сначала все почти обрадовались. Ном схватился за топор, Волчонок — за свой железный кнут, волки ощерились. Как же, такое развлечение для молодёжи — драка! Сам он для подобных развлечений был слишком уж стар и мудр, но не осуждал тех, кто не дорос ещё до его меры миропознания.
А потом...
Первым странность заметил Быстрый. Шатнулся назад: уж больно странно двигались чужие волки. Неровно, словно вслепую. Не бешеные ли? И вороны над ними — вороны-то всегда здесь были мёртвыми, их первых заколдовал Прихвостень, как научился костиановому искусству.
Ни от ворон, ни от волков не пахло тлением.
Здесь ничего не истлевало, как ничего не изменялось. Если яблоки навек остались спелыми — настолько, что если попытаться сорвать их, рассыпались в пыль, истратив все силы на эту спелость — отчего зверям не оставаться навеки только что умершими? Уже утратившими жизнь, но ещё не начавшими тлеть. Неуязвимыми для стрел и даже для топора в руках Нома — что раны тому, кто давно уже не жив?
Хорошая работа.
Костиан, тот всё маялся с вопросом разложения в своих войсках: даже зимой они годились на пару месяцев, а летом — хорошо, если держались неделю. Прихвостень, значит, преодолел то, что мешало его учителю. Хороший ученик, иной бы гордился...
После той встречи Волчонок стал с ним почтительнее. Звал по-прежнему «Шарки», но каким-то другим, менее дерзким тоном. Понял, видно, что Костиан — не пустое место, не жалкий беспомощный старик. Что он — хозяин жизни и смерти, способный одной своею волей уложить целую стаю мёртвых зверей обратно лежать, как им положено. Вернуть всё на круги своя.
Он не хотел увидеть тело брата таким же, как те, другие тела. Брошенным лежать в крови, с открытыми глазами, навсегда пустыми, с беспомощно открытым ртом. Не хотел думать о том, как тот умер — быстро или же нет. Не хотел найти его жену или племянников поблизости — со стрелами в спине, разорванных волками, изрубленных... в каждом доме была своя история. Кто-то сражался до последнего, а кто-то пытался бежать, но заканчивалось всё одинаково.
Поэтому-то Костиан и не пытался противиться Прихвостню.
Он хотел ещё пожить, он знал, что противиться нет смысла.
Но видеть тело брата... брата, с которым давно расстался, о котором почти не думал раньше, с которым давным-давно не осталось ничего общего, кроме крови — отчего-то казалось слишком страшным.
Как будто ходить по трупу Дортониона не так погано, как хоронить родного.
Он не хотел — и не увидел. Во дворе, где был бы огород, кто-то насыпал высокую могилу, поставил камень по обычаю Беорингов. Кто-то крупный, оставивший в земле следы, как от гигантских лап. Лап, не похожих ни на что, дотоле им виденное.
— Вот не хватало нам заботы... — только и буркнул он.
1) Йаванне
— Что это такое, эльф? — Волчонок указал на странные следы. — Я такого раньше не видел. Думаешь, отец вывел себе новых тварей?
— Со всем почтением, молодой господин, едва ли твари вашего отца стали бы кого-либо хоронить, — осторожно заметил Шарки.
— Эльф, ответь ты!
Эльф опустился на колени, потрогал вывороченную землю, с корнем вырванную жёсткую траву. Потом вскрикнул, резко поднялся, сунул руку Волчонку под нос. Тот еле удержался, чтоб не укусить её — и правильно: в длинных бледных пальцах извивался розовый дождевой червяк.
Волчонок рухнул наземь сам, зачерпнул в ладони влажную землю... влажную!
— Что за чертовщина... — пробормотал Шарки.
— Отец, оно пахнет, — сказала Карнаухая. — Землёй. Все эти следы, они пахнут землёй. Только которые старые — те пахнут мёрзлой, а которые посвежее — такой, знаешь, на пике лета. Когда запах самый сытный... — она мечтательно притявкнула.
В самом деле, чертовщина какая-то.
В доме следов было не видно. Деревянные полы, оно, значит, попортить не могло...
— Наверху, — хрипло сказал Шарки. — Смотрите, на потолке!
На потолке когда-то хватало паутины. От двери до центра она теперь висела длинными серыми плетями, где ещё висела; кто-то сорвал её и расцарапал доски — на потемневшем дереве ярко виднелись частые серебристые царапины, как будто по нему прошлись жёсткой щёткой.
И конечно, мебель. Её, кажется, попытались даже поставить на место — но попытались как-то неумело, словно до конца не понимая, где место столу, где стульям, а где — длинной лавке. Даже Волчонок уже усвоил, что такие Беоринги ставили у стен. То, что копало могилу — не усвоило, поставило два стула за лавку, как за стол.
— Тут кровяка на полу была, — довольно доложился Быстрый. — Замыли.
Что логично, если уж наводить порядок. Трупы похоронить, кровь убрать, опрокинутую мебель — поставить, как стояла. Действия этого кого-то были Волчонку понятны. Непонятно было, что это было такое и зачем оно всем этим занялось.
И червяк, конечно.
Но сначала надо было расположиться на ночлег. Счистить с себя грязь, вычесать детей. Перебрать зимнюю одежду — хозяевам она уже без надобности, а первые заморозки прочно сменились настоящими холодами, и по ночам приходилось разводить огонь в гигантских печах, чтоб не замёрзнуть насмерть, а днём — всё время двигаться, даже в хорошей чистой одежде. Шарки утверждал, что на такой печи и спать можно, но Волчонок нравился себе как есть и не спешил зажариться.
Хотя хитрый старикашка поутру кряхтеть кряхтел, а слезал со своей лежанки довольный и даже на боль в пояснице не жаловался. Может, и было что-то в его словах...
А в чём ничего не было — так это в идее увести у отца его Дортонион и самому здесь устроиться со своими волками.
То есть сама-то идея ему и сейчас была очень по вкусу. Сам себе Хозяин, со своими владениями, своими войсками и своими правилами — кто же такого не хочет? Даже эльфы сбежали из Ненавистной Земли, потому что им там не давали ни воли, ни рабов. Ну, или как-то так — его-то эльф, конечно, был не согласен и блеял что-то там про месть за членов семьи.
Но кабы они мстили, так и громили бы Хозяина, а не разбегались по всем соседским краям и не примеряли короны.
Понятное дело, впрочем. Отец всегда говорил: «Дураки любят обманывать себя, приписывая себе благородство». Не дурак разве стал бы махаться с Хозяином, хоть за деда, хоть за камни, хоть за земли? Нет. Не дурак присягнул бы ему и получил бы свой честный кусок власти, сколько его ни будет. А если хочется больше — так на то соседи есть, можно у них отнять, Хозяин не обидится.
Кто сильный, тот и прав.
И если бы Волчонок увёл Дортонион, Хозяин бы ничего не сделал. Отца бы отругал, и только. Но отец сам виноват: не надо было проигрывать собаке и сдавать крепость огненной женщине, и не надо было оставлять Волчонка одного на растерзание эльфам. Что бы Хозяин не одобрил — так это уроки пения и эльфа как такового... но он далеко на Севере и если и есть ему дело до такого ничтожного слуги, то об этом он пока не сообщал.
Вот только увести Дортонион никак не получалось.
Можно было здесь поселиться — они и поселились, кочевали из дома в дом. Съедали, что было в кладовой — и дальше, и так помаленьку себе порядком продвинулись к востоку. Вот только количество домов не бесконечно, и не в каждом остались запасы. А когда они закончатся — то что?
Шарки говорит — идти дальше, отжать себе Аглон.
С тремя-то волками! Хотя... если освоить пение...
Если хорошенько освоить пение — то можно и на Восток.
Признавать свою ошибку и возвращаться Волчонок страшно не хотел.
А эльф пел над едой — сначала тихо, потом всё громче, громче... он как будто поздоровел за сегодня. Как будто та земля дала ему чего-то, чего всё это время недоставало. Что там — Волчонок и сам от её запаха был словно пьяный! То ли потому, что столько времени провёл здесь, где не пахло вовсе ничего, то ли сама она, эта земля, была какая-то такая этакая, с эльфийским колдовством.
И вдруг навстречу эльфийской песне раздался звук — как будто затрубили охотничьи рога, или запели трубы.
Такое он слышал один раз: когда Проклятые пришли разорять их прежний дом. Так пела женщина с тяжёлыми грудями и тонкой талией, когда она велела лесу расти и разорвать своими корнями неприступные стены Утумно. Эта песня не убивала, как песня Душителя, не заставляла прижаться к земле и дрожать от страха, как песня того, что на коне. Она как будто даже придавала сил — просто всем сразу: и ему, и волкам... и лесу.
Эльф вскочил на ноги, запел иначе — окликая, зовя неведомого музыканта — и музыка ответила.
От неё пахло теплом и летом, мокрым осенним лесом и весенней травой, щедрой землёй, палой листвой, грибами, спелыми яблоками...
От запахов немного кружилась голова.
— Эльф! Эльф, кто это?
— Не знаю, — ответил тот. — Но скоро узнаем. Он... нет, они — они идут сюда. Навстречу нам. На встречу с нами.
Песня звучала и отражалась, и Инголдо почти потерялся в ней, не зная, с кем говорит и о чём. Его собеседники не спешили себя называть; они рассказывали о себе, да — о своих трудах, о своих заботах. О том, что утром не видно солнца, а ночью луна сама на себя не похожа, что зимние холода только убивают, но не приносят мягкого одеяла снега. Что там, где есть снег — деревья не сбрасывают листья, и ветки ломаются под его тяжестью.
Бесконечный, выматывающий всю душу плач об искалеченной земле.
Он не знал, что им ответить. Он пробовал обещать свою помощь, конечно — но собеседники не могли не услышать, насколько он в себе не уверен. Да, он мог сделать еду съедобной, а воду — пригодной для питья, но здесь речь шла о куда, куда большем. О том, чтобы снять заклятье со всего края, сделать снова живым всё неживое. Инголдо не был уверен, что такое было бы под силу даже его наставнице, а Элеммирэ искусством не уступала некоторым майарам.
Но главное — он никак не понимал, кто с ним разговаривает! Не люди, конечно — хотя среди них бывали единицы, способные к чародейству, способность эта проявлялась совсем иначе, вот как у Костиана. Не тёмные твари, потому что от пения тёмных тварей не может быть так легко на душе. Но и не эльфы — хотя сходство было немалым, язык и форма песни собеседников были совсем другими, непривычными.
— Они идут сюда, — сказал он.
— Кто?
— Не знаю. Они, — пожал плечами Инголдо. — Хотят поговорить с нами.
— О чём?
— О... о том, как спасти это место, — с некоторым трудом подобрал он слова. — Понимаешь, они не хотят уходить. Они здесь были всегда, ещё когда не было людей. И они любят этот край.
— Любят... как можно любить землю, эльф? — Волчонок покрутил у виска пальцем. Жест сомнения в умственных способностях, Инголдо его уже выучил. — Она же даже не живая. Ты хоть умри за неё, она даже «спасибо» не скажет, продолжит себе быть, как была, что ты с ней ни делай.
— Разве?
— Думаешь, мне не кажется, что она плачет? — усомнился тот. — Жалобно так, жалко. Как щенок с перебитой лапой.
— Думаю, не кажется. Да, земля не имеет разума, не наделены им ни звери, ни птицы, ни растения. Но это не значит, что у них вовсе нет души...
— Да нет её! — вмешался Бессмертный. — Поэтому и работать с ними просто, жизнь выбил — и работаешь. А со всякими одушевлёнными ещё помаяться приходится. И вообще, опасно. Простите, молодой господин, за вмешательство.
— Я... не про ту душу, с которой тебе доводилось сталкиваться, — сдержал неуместный смех Инголдо.
— А какая ещё может быть? — удивился Волчонок.
— Та, которая плачет. Которая радуется солнцу и теплу весной, которая тянется к небесам. Которая ёжится от холода и спешит укрыться тёплым снежным одеялом. Которую ты чувствуешь, когда гладишь свою собаку и она тычется тебе носом в ладонь. Эта душа.
Тот задумался. Потом спросил:
— Это то, что под руками, да? Иногда трогаешь рукой дерево, а под ладонью что-то бьётся. Как мелодия. Но не здесь, здесь только горе.
Инголдо кивнул.
— И как эту мелодию можно любить? Хотеть, чтобы она была весёлой?
— Да, пожалуй. Весёлой или хотя бы спокойной. Лишённой боли и печали, — кивнул Инголдо. — А ещё землю можно любить иначе, не за её песню, а за воспоминания, которые она подарила. Так любят люди. Они до последнего сражаются за свой очаг и за могилы близких, хотя им не дано слышать. Они любят память, заключённую в дереве и камне, в работе своих рук, в могилах своих близких.
— И умирают за память?
— Да. Или живут ради неё.
— Тупо как-то. Память же никуда не денется.
— Как же, не денется? Умрёт человек, уйдёт эльф — вот и памяти не стало. А дом стоит, свет горит — и пока он стоит, будет жить память о тех, кто его построил, даже если их имена забудутся. Поле помнит того, кто распахал его и засеял. Река — того, кто запер её плотиной и опоясал мостом. Камень помнит того, кто обтесал и приручил его, и дерево — того, кто дал ему новую жизнь после краткой смерти.
— А если раскопать могилу, можно, пожалуй, узнать, как одевались люди, чем работали и что считали ценным, люди же хоронят всякую утварь вместе с трупами, — согласился Волчонок. Мыслил он... в своём духе. — И тогда даже если пройдёт много веков, память вернётся. Ты прав, эльф.
Он, положим, имел в виду нечто иное, но пока что и этого хватало.
А собеседники были всё ближе и ближе — вот уже слышны стали их шаги: тяжёлые, неторопливые. Звучали они странно — словно целая роща скрипела под сильным ветром, гнулась, но не ломалась, словно гигантские камни падали с небес на землю. Даже по следам было понятно, что собеседники должны быть гигантами — но слышать их шаги, чувствовать, как дрожит под их ногами земля... совсем другое дело.
Наконец, показались.
Их было трое, схожих между собой и всё же различных, похожих... похожих на тот облик, в котором владыка Ульмо всегда корил Инголдо за торопливость. Не человек, не эльф, не дерево — а нечто среднее, почти уродливое, но гармонично-прекрасное. Одеты они были только корой, но не казались нагими; их волосы походили на множество тонких ветвей, но оставались волосами. Пальцев у них было много, куда больше, чем полагалось детям Единого — но и это не мешало их правильности и оставалось по-своему красивым. У мужчины на грудь спускалась серебряная борода, похожая на ленты лишайника; у женщины среди её волос-ветвей цвели цветы, огромные и яркие. А третьим был ребёнок — определённо ещё ребёнок, и ростом меньше, и тоньше, и волосы у него пока не отросли и стояли дыбом, жёсткие и непослушные.
Они подошли ближе, и Инголдо разглядел, какие у них глаза. Огромные зелёные колодцы, в которых мерцали тысячи золотистых искр — мерцали и гасли в глубине, где за радостью скрывалась вековечная печаль. Такие глаза были у валиэ Йаванны. Не её ли это дети, о которых говорили неясные легенды времён Великого Похода?..
— Вы... пастыри лесов? — спросил он тихо.
— Эй, nadilar! — поприветствовал их низким голосом мужчина.
Забавно: Балан никогда здесь не бывал — а его любимое словечко вот оно, живёт. Конечно, это логично, талиска ведь, но всё равно забавно. И сердце щемит немного. И само словечко забавное: так можно обратиться к другу, любимому... а можно — к соседу, что проснулся за пару часов до рассвета и решил, что если уж он не спит, то никому не надо спать. Что-то подсказывало Инголдо, что они все подходили под третий вариант.
— И вам привет! — вперёд шагнул Волчонок. — Кто вы такие? Что вам от нас надо?
Ещё до того, как чужаки показались — только слышны были их шаги, от которых дрожала под ногами земля — Волчонок шагнул вперёд, а Шарки, трусоватый, как и всегда — шарахнулся назад, за спины волков. Эльф остался на месте, погружённый в свою и чужую мелодии.
Что ж, не так плохо: все бойцы на передовой. В недавнем бою себя и Шарки показал так, что поневоле хотелось зауважать, но его дело с переднего края не сделаешь. Наоборот, пусть себе держится позади и там плетёт свои чары, рисует свои знаки и шепчет свои слова.
Эльф же, когда дошло до дела, оказался совсем неплох, и топор ему был не для красоты. Только бы стряхнул наваждение вовремя.
Наваждение... оно и самого Волчонка коснулось. Чем ближе были чужаки, тем сильнее внутри разгоралась... радость. Детская, щенячья радость, зов первого снега, который ловишь ртом и не можешь остановиться, зов гонок за хвостом и других весёлых игр, забытых вместе с мамой и теми днями, когда ног было четыре и они ещё не очень уверенно стояли на земле.
Но он был сильнее наваждения.
Он — не его дети. Заливаясь по-собачьи бессмысленным брёхом, они бросились вперёд, навстречу странным тварям из леса. Навстречу терпкому запаху сосняка под дождём, спелых яблок и чего-то третьего... можжевельника? Да, пожалуй, его. И свежей воды — кто скажет, что у воды нет запаха, тот не умеет его почуять. Свежей, только оттаявшей по весне, такой весёлой и говорливой...
Волчонок сжал кулаки, впился ногтями в ладони, заставляя себя держаться. Бросил дерзко:
— Кто вы такие? Что вам от нас надо?
Чужаки его словно не заметили. Самый высокий, похожий на ожившую улыбчивую сосну, неспешно, с лёгким древесным скрипом склонился к детям, загудел неторопливо, низко и ласково:
— Хорошие, хорошие мальчики... Хумм, и девочка, замечательная девочка!... Дети, хорошие дети!..
Дети продолжали вести себя, как бестолковые псины: лаять, ластиться и проситься под многопалую руку. И самое мерзкое — Волчонку тоже хотелось так же! Чтоб на четыре лапы, и чтобы чесали по холке, и говорили добрые слова...
Он поёжился. Рауко говорил — в каждом добром волке живёт собака, но разве он добрый?
Эльф считал — да. «Добро и зло — это не кровь, это выбор». Как будто кровь не определяет, какой выбор кому доступен.
Как будто сын Тар-Майрона может, например, выбрать уехать на Заокраинный Запад со своими детьми, чтобы дать им вечную fairie и зелёные луга под ясным светом. «Если ты можешь пожелать такого выбора, то можешь и сделать его. Кто запретит тебе?» — эльф говорил так, словно Хозяин был пустым местом и не имел власти над своими творениями. Словно Злые Силы не могли его остановить.
— Он не творил тебя, — эльф сердито нахмурил брови, недовольно притопнул ногой. — Он никого не творил!
— А откуда тогда мы все взялись? Орки, волки, драконы? Его твари, созданные жрать друг друга и служить Его воле?
— А откуда у него взялись Сильмариллы? Он вас украл, только и всего, — пожал плечами эльф. — Украл, изуродовал, но власть над вами так и не смог получить, вот и приходится ломать вам волю, чтобы вы его хоть сколько-то слушались. Разве ты не запрещаешь своим детям есть друг друга? — он постоянно перепрыгивал вот так с темы на тему, подлавливал на хитрых вопросах, мелких противоречиях.
Драконий Язык, коварный ум.
Сидишь потом и пытаешься распутать эти плетения, выпутаться из них, понять — как он так заставил признать, что всё живое и мыслящее между собой в родстве?..
— Что вы такое?! — повторил он вопрос.
Голос был несколько неровным.
— Не бойся! — ответил ему самый маленький из троих, протягивая многопалую руку.
(«Добро бывает и грозным, и страшным. Знаешь, с чего начинал Оромэ беседы с нашими предками? Он говорил им: "Не бойтесь!"»)
— Я не боюсь, — солгал Волчонок.
Он боялся, конечно. Его дети на хорошем мясе вполовину не такими вымахали — чем же эти дуры-то питаются?
— Хорошо! А кто ты такой? Я... — он запел.
Песня говорила о кустах можжевельника, о росе на ветвях, тёмно-синих ягодах, солнечном свете, звёздном сиянии, о ночи и холоде, мёртвой пустыне и ростке среди чёрной жёсткой травы.
— Я Волчонок, — ответил он быстро, пресекая песню, пока она не заворожила его.
— Так коротко?
— А надо длиннее?
— Не знаю, — ответил Можжевеловый. — У нас имя — это история того, кто его носит. Но я слышал, другие народы вечно куда торопятся и на бегу оставляют себе только огрызки себя.
— Хочешь сказать, я не Волчонок? — он сердито нахмурился.
— Ну, наверняка ты не только Волчонок? Ты ведь уже взрослый. Совсем как я! Не можешь же ты всю жизнь оставаться только сыном волка, верно?
— Ещё я отец волков! И Хозяин этой земли!
— А что это значит?
— Что она мне принадлежит!
— Мне принадлежит дудочка, и я на ней играю, — задумчиво сказал странный чужак, показывая толстую трубу с дырками. — Матери принадлежат семена, она сажает их. Отцу принадлежит родник, и он черпает из него воду. Нам принадлежит дом, и мы встаём в нём ночевать. А что ты делаешь с этой землёй?
«Хожу по ней без дома и цели».
— Я хочу отнять её у отца, — ответил он, выбрав менее обидную правду. — Смотри, что он натворил! — широким жестом он обвёл чёрный лес, мёртвую землю, пустой дом и издевательски спелые плоды в саду.
— Да, это не добро. Человек, что жил здесь... это был хороший человек. Когда он забирал у нас, он возмещал взятое. Он не трогал матку с детёнышем и никогда не искал больше, чем ему было надо. И никого не обижал — ни словом, ни делом. Мы жалели, что он уйдёт — но его выгнали до срока. Такое нельзя простить.
— И вы не прощаете?
— Сейчас не до того. Надо вылечить землю.
— Зачем?
— Она мучается, — ответил Можжевеловый. — Ей больно. Разве можно терпеть, когда земле больно? Она породила нас, водой напоила нас — разве мы бросим её в час ненастья?
— Отец дал мне жизнь и кормил меня мясом, но я отвернулся от него, когда он потерпел поражение, — пожал плечами Волчонок.
Можжевеловый словно споткнулся, замер, недоумённо хлопая своими гигантскими зелёными зенками. Потом спросил — осторожно, медленно:
— А ты любил его? И он, любил ли он тебя? Эта земля любила нас. Она поила нас, она растила нас, на ладонях к свету поднимала нас, ничего взамен не просила у нас, — он снова начал сбиваться на песню.
Песню о матери, которая не хочет ничего для себя, которая всё отдаёт своим детям. О весне с её ливнями, об осени с её холодами, о зимнем сне и летней роскоши. О надёжной руке, которая всегда направит на верный путь, о добром слове, о дыхании за спиной. О тех, кто никогда не бросит, на кого можно опереться в беде, кто поможет расти и тянуться ввысь и становиться собой....
Отвечая на песню, ожила вода в чёрном пруде, заиграла — и рассыпалась множеством брызг, повиснув удивительной семицветной лентой. Словно для одного Волчонка повиснув, словно что-то пытаясь ему сказать.
По странной шутке судьбы, самым каменным из валар был вовсе не Аулэ. Этот весёлый живчик от Махтана отличался только ростом да хромотой, которую оставил себе на память о том самом случае с гномами и уроненным молотом.
Нет, самым каменным из валар был Намо. Высокий — на голову выше самого Тингола — широкоплечий, со всегда прямой спиной и золотом волос, которое подчас казалось и правда золотом, так гладко они лежали и так сияли на солнце. Коронованный чёрным хрусталём, невозмутимый до равнодушия, с глазами, синими, как сама смерть или звездчатые сапфиры. Каменный, неживой.
Не таким он был в замысле Творца — в замысле, где не было ни времени, ни смерти. Брат мечты и грёзы, он воплощал реальность и её красоту — красоту, которая была превыше воображения, которая заворожила саму Мудрость — так, что она оставила Чертоги Творца и ушла за Намо, даже когда он стал Смертью, а ей пришлось стать Памятью.
Он странно смотрелся рядом с Манвэ — такой похожий и всё же такой другой. Из них двоих именно он казался настоящим королём — никак не этот худой мужчина, придерживающий на плечах алую накидку одной рукой, а другой гладящий разложенный на коленях серебристый шарф. Пусть сегодня его волосы были заколоты костяным гребнем, из причёски всё равно выбивались пряди, чтобы их мог растрепать ветер — совсем не по-королевски, и даже медная птица-диадема, распахнувшая крылья над его лбом, ничем не помогала.
Накидку, по которой летели все птицы мира, соткала для него Вайре, и Намо помнил, как она набросила её на плечи совсем юному Старшему — смущённому, неловко переминающемуся в новом для него плотском облике. Была весна, птиц было ещё совсем немного, а валар праздновали свадьбы и дарили друг другу подарки...
Весна давно сменилась осенью, и алого стало почти не видно под золотым шитьём, под трепетом невесомых крыльев, и иные дары заняли место прежних. Намо знал и о них: о гребне, сделанном мальчишкой Атаринке, о шарфе, сотканном не слишком умелыми руками Индис Ясной. Не знал только, почему именно их сегодня выбрал Старший, что за мысли он думает, водя костлявыми пальцами по тонкой ткани.
— Ты помнишь, братец? — спросил Старший, и Намо знал, о чём он спрашивает.
О недавнем совете, на котором было принято решение позволить Индис и Финвэ заключить брак. Решение, за которое глупая девочка отблагодарила любимого валара неуклюжей поделкой.
— Почему ты об этом вспомнил? Сегодня я хотел говорить о другом, — сказал он несколько недовольно.
— Она была так рада быть с любимым! — Манвэ, казалось, пропустил его слова мимо ушей, погружённый в воспоминания. — Так рада, что ей хотелось обрадовать всех вокруг. Она остригла своих любимых овец, выпросила у Эсте краски для шерсти. Вспомнила, как Варда обмолвилась, что на вершине гор всегда холодно... — он снова разгладил ткань. — Она подарила мне хороший шарф, Намо, тёплый и красивый, а что я дал ей взамен? Мы ведь знали, чем всё закончится. С самого начала мы с тобой знали, — он покачал головой.
— И знали, что нас ждёт за ошибку, — согласился Намо. — Отец направил нас сюда, чтобы испытать, Старший. Не чтобы наградить, не чтобы мир не развалился — мир он удержал бы и без нас, как без нас создал бы. Он хотел увидеть, способны ли мы понести ту ношу, которую просили у него.
— Ношу... можно ли вообще её вынести, братец, эту ношу? Может ли сотворённый быть в ответе за целый мир и ни разу не ошибиться?
— Осторожно, Манвэ! Не перекладывай на Отца свою вину! Если он решил испытать нас, конечно, он считал, что испытание можно пройти. Просто мы не справились.
— Не справились! Ошиблись! — эхом ответил тот. — Легко сказать! «Не справился» мальчишка со школьным заданием, «ошиблась» девчонка, решая задачу. А мы обрекли сотни и тысячи эльфов на муки и гибель, и ещё больше направили по неверному пути. И теперь сидим сложа руки, и позволяем им убиваться о нашего брата, которого сами не сумели вовремя остановить!
— Архитектор, чьи расчёты привели к падению здания — тоже ошибся и не справился. Это не снимает с него вины за погибших под развалинами. Нам не следует вмешиваться, Старший — теперь мы можем только навредить, себе и миру в целом. Пока мы ещё осознаём себя, мы должны исполнять свои обязанности и не искать большего.
— Такова воля Отца?
— Таково моё мнение.
Манвэ прикрыл глаза. Под пальцами мягкая шерсть казалась снегами Таникветиль, так она была холодна. Сколько ещё им осталось — жить, быть, чувствовать?
Он не сомневался, что наказание справедливо. Он видел плоды своих ошибок своими глазами.
В Лориэне, где вечно будет спать Фионвэ. В Валмаре, где в каменной башне плакала Индис, милая девочка, которую он когда-то качал на руках и которую нарёк «сильной духом». Дома, где его драгоценная, его прекрасная супруга смотрела вперёд, не отводя взгляда: высокая, исхудалая, с неукротимым огнём в глазах.
В Белерианде, где он воплощал свои мысли — лёгкие облака в образе эльфов, одинаковых печальных синдар с синими глазами и серыми волосами, с ручными птицами и с именем «Гваэвен(1)». Не более, чем тени, они ходили среди изгнанников и местных жителей, говорили с ними, смотрели на них.
— Ты не можешь умереть с ними вместе, Старший, — укорил его Намо.
— Я знаю. Но я могу быть рядом.
— Они даже не знали, что это ты. Ты ничем им не помог. Разве что оставил волка без сытного ужина.
— Я знаю.
— Тогда зачем? Мой приговор не изменится: они подвергли себя смерти и виновны. Твой приговор не изменится: ты не справился и виновен. Они останутся в моих чертогах, а ты станешь бессмысленным ветром. Зачем пытаться играть в одного из них, Старший?
— Я хочу знать меру моей вины. Может быть, тогда мне откроется, как её искупить.
— Чушь. Вину невозможно искупить, она или есть — или нет. Разбитое нельзя сделать неразбитым.
— Но можно починить! — Манвэ вскочил, накидка слетела с его плеч и понеслась по ветру. Забились на ветру концы серебристого шарфа. — Намо, Отец создал не только тебя, он создал и Ниэнну! Он не может...
— Кто ты такой, чтобы решать, что он может и что не может? Ты лишь его наместник, не справившийся со своей работой.
Накидка, подхваченная ветром, полетела выше, выше, выше — пока не поднялась до самой вершины Таникветиль, где Варда стояла на краю арки, прямая и стройная, вперив взгляд в темноту Белерианда внизу. Протянув руку, она поймала алую ткань, продела руки в рукава и впервые за много лет ощутила тень тепла.
— Знаешь, почему Гваэвен называет себя Лордом Одуванчиков? — спросил Манвэ.
Намо, разумеется, не ответил.
— Одуванчики не сдаются. Даже когда им приходит время отцвести, они не опадают, а превращаются в прекрасные белоснежные шары. А потом — не гибнут, но улетают, лёгкие и свободные.
1) Звезда и ветер
— И мы пойдём за этими тварями?
— За Пастухами, — поправил его Ном.
Костиан протирал швы винным духом. Они уже почти перестали гноиться, и скоро можно было убирать нитки — на эльфах всё заживало быстрее. Но шрамы, конечно, останутся, и лицо больше не будет ровным, как прежде — израненную сторону изрядно скосило вверх и вбок.
Хорошо, что Ном носил волосы стрижеными, словно в трауре — хотя, конечно, носил он их так всю жизнь, да и Беорингом не был. И по кому бы ему траур носить?.. Так вот, хорошо, что Ном стригся, потому что иначе был бы у него на голове сплошной гнойно-кровавый войлок. А так ничего, даже красиво, хоть и коротко.
Он усмехнулся.
Сам вот Костиан Беорингом был, и скорбеть ему было по кому — но свои княжеские косы он берёг, несмотря ни на что. Слишком уж большим трудом они ему дались.
Пастухи...
Они шли неторопливо, но быстро — мерные, ровные широкие шаги гигантов зараз покрывали больше, чем бег обычного человека или даже волка. Напевали на ходу — не словами, музыкой: воем ветра или волынки, звоном медной трубы, низким рокотом водопада. Удивительные существа.
Видеть их — проваливаться назад, в прошлое, где мама сидит за прялкой, с лучины падают в бадью мелкие искры, шипят и гаснут, а мама поёт:
Ещё не выкован был топор,
И юны были вершины гор.
Дремало злато в глухой руде,
И зла не знали ещё нигде,
И безмятежными были дни...(1)
Костан любил песни про Пастухов. Отвлекался от своей работы, переставал ковырять стамеской дерево, весь превращался в слух ради очередной сказки о том, как очередной предок встретил Пастуха, оказал ему услугу и потом получил услугу взамен, или наоборот — обидел деревья и был наказан. Костиан больше любил другие песни, о войне или колдовстве.
И теперь что? Костиан стал колдуном, а Костан мирно спал под курганом, насыпанным руками его древесных друзей. И кто из них бы выиграл, а кто проиграл?
Нома спрашивать не хотелось.
Опять ответит что-нибудь наподобие: «Почему ты считаешь, что кто-то непременно проигрывает?».
Идти с пастухами — словно идти во времени. Из детства — в молодость и расцвет.
В долине, куда они спустились, Беоринги хоронили своих мёртвых с тех пор, как поселились в Дортонионе. Поэтому Костиан, постигший тайны смерти, счёл её некогда подходящим местом для своего княжеского дома. В ту пору он был опьянён — знанием, которое было у него одного, могуществом, которым распоряжался он один. Любовью, которая пришла в его жизнь вместе с Данар. В ту пору он был молод и силён, и впереди у него было только больше знаний и больше могущества.
Он был готов сражаться и завоёвывать, и новое имя казалось ему отличным дополнением к новому дому.
Ко Бессмертный.
Разве не гордо это звучало?
Разве не подходящее имя для хозяина двухэтажного дворца, украшенного резьбой и росписью?
Тут он понял, куда они идут, и ему стало страшно. Долина курганов? Пустяки: он поднимал её обитателей себе на службу слишком часто, чтобы бояться их или уважать. Но дом... это был ещё один шаг во времени. Шаг, который так не хотелось делать.
Шаг навстречу ночи, чадящим факелам, волчьему вою и бледному лику Вражьего Прихвостня.
«Боишься ли ты смерти, Бессмертный? Спустись ко мне по доброй воле, уйди со мной, научи меня своему искусству — и клянусь, я не трону твою семью».
Данар молила не верить, требовала стоять до последнего и умереть в бою, как подобает Беорингу.
Но Костиан боялся. Боялся смерти, боялся увидеть их смерть — не узнать издалека, как о старшем сыне, не догадаться, как о брате и его семье. Странный страх для самозваного владыки-некроманта, но уж какой был. И этот страх согнал его вниз, бросил в ноги Прихвостню.
— Я клялся, — рассмеялся тот, и звука страшнее не было на свете. — Я не трону их. Идём, Некромант. Оставим воинам их грязную работу: нас ждут беседы о высоком.
— Наверх мы подняться не смогли, там лестница узенькая совсем, — извиняющимся тоном сказал Пастушонок. — И имён мы их не знали. Они не друзья нам, эти люди. Не как Костан Дровосек.
Дворец остался стоять. Его не сожгли, только запятнали смолой весёлые росписи и вырезали поперёк цветов и птиц нечистые знаки вражьего языка.
А перед крыльцом, всё таким же резным и высоким, оплетённым невесть откуда выросшим плющом — могилы. Не такие высокие, как у брата, но зелёные и ровные, старательно насыпанные, увенчанные крупными камнями. Семеро человек было на первом этаже, когда Костиан спустился к Прихвостню — и семь могил было во дворе.
Он не слушал, о чём говорили пастухи, Ном и Волчонок.
Он раздвинул зелёную завесу и зашёл в свой дом. Поднялся по лестнице — и правда узковатой для пастухов — на второй этаж. Последовал за пятнами грязи и крови в горницу с тремя окнами в частом переплёте — его гордость, три настоящих окна, стеклянных, как у эльфов!..
Всё здесь было разорено, и Данар лежала на полу ничком. Он читал следы, как раскрытую книгу: её тело сбросили с дивана, чтобы схватить богато изукрашенные подушки. Она была уже мертва. Лодыжки жены связывал узорчатый ремешок, а шея была распахана каменным ножом. Старый обычай времён Похода: каждая женщина носит с собой такой ремешок и такой нож. Связать ноги, чтобы и в смерти сохранить достоинство. Перехватить горло, чтобы не достаться Врагу живой.
Он подхватил её — тяжёлую, страшно тяжёлую, не как в жизни — взвалил обратно на деревянный диван, облокотил на резную спинку.
Голова жены запрокинулась, открывая рану на шее.
И Костиан завыл — тихо, по-бабьи:
— Жена-голубка, моя орлица... совсем высоко теперь летаешь, в предвечной выси валарьих вёсен... златая горлица сердца князя, не зная горя, воркуешь вольно, забыв нас, бросив в юдоли смертной, страдать, скитаться средь зимней вьюги... Ном, Ном, что мне делать теперь?!
Он был рядом, их бог. Конечно, был рядом.
— Моя наставница, Элеммирэ... — сказал Ном и сглотнул, словно и самого задело этим горем. — Однажды я спросил её, почему она носит косы вот так, заколов наверх. Она сказала — так носят те, кто потерял супруга. Нет, послушай, это важно! «Когда-то давно, — сказала она, — ещё до Похода, наши предки закалывали косы наверх перед работой. Чтобы не мешались, не пачкались, не лезли под руку. Так и мы, вдовы. Потому что ни одна разлука, как ни одна работа — не вечна». Слышишь?
— Не вечна! — он хрипло рассмеялся. — А что, если я и впрямь бессмертен, Ном? Если я сумел одолеть проклятье и не помру до скончания века?!
— Значит, всего-то и надо, что подождать скончания века, мой добрый Ко.
Взгляд бога уплыл куда-то далеко, за окна, за горизонт, за грань мира, словно он знал, о чём говорил.
— Всего-то и надо, что подождать, мой добрый Ко. Долго ли умеючи...
1) Толкин, перевод Каменкович с мелкими правками
В камне герб Балана выглядел совсем иначе, чем в витражной эмали, для которой был когда-то придуман. Строже, грубее. Человечнее. Инголдо провёл рукой по надгробию, улыбнулся:
— Вот и встретились снова, nadilar. А я уж думал, никогда к вам не вернусь...
Курган молчал, и молчали его соседи. Чары Пастырей сделали их снова зелёными — только местами виднелись чёрные пятна травы-проволоки, словно ожоги или проплешины. Тянулись к бледному солнцу бледные нифредили — syneganna, «всегда-помни». Их клали в колыбель первенцу, из них плели венки невестам, их сажали на могилах: смерть как вечная спутница жизни. Удивительно поэтично и глубоко, как все обычаи людей — и удивительно печально.
Там, внизу, под травой, дёрном и землёй, прятался деревянный сруб и в нём — белые кости Балана, завёрнутые в княжескую одежду. Череп увенчан замечательной шапкой с меховой опушкой, какую Инголдо сам не отказался бы носить. Стопы положены в сапоги с вышитой бисером подмёткой, берцовые кости продеты в штанины из мягкой кожи. Пальцы перемешаны с кольцами из золота и серебра, принесёнными из-за гор.
Инголдо, помнится, недоумевал: неужто не жалко, отдавать такие сокровища трупу? Зачем ему всё это? Он ушёл, он где-то далеко, с Единым, осталась только оболочка, вываренные кости — потому что Балан просил отвезти его тело в дом его племени и захоронить там, а как иначе везти?
— Тело есть дом души, — сказала ему Мерит, мудрая женщина племени. — Мы не можем собрать в дорогу душу и позаботиться, чтобы она предстала перед Творцом как подобает великому вождю, но можем собрать тело и надеяться, что всё передастся душе. Понимаешь, Ном?
Поэтому тело клали стоя: перед Единым сидеть не полагалось. Но поставить стоймя скелет, груду костей — не такая простая задача. Решили разложить, будто он идёт куда-то. Так с тех пор и повелось — уже саму Мерит хоронили на боку, не стоя. Так она и лежала здесь, рядом с Баланом, под камнем с удивительной, кружевной почти, резьбой, где чешуйчатые змеи сплелись с пугливыми оленями, напоминая об имени покойной и о её мудрости.
— Люди странные, — решительно сказал Волчонок.
Его голос разрушил печальное созерцание, заставил Инголдо вернуться в здесь-и-сейчас из того далёкого времени, в грубые звуки северной речи — из мягкой талиски.
— Потому что хоронят мертвецов, а не едят их?
— Ладно бы просто закапывали! Ты видел, что Шарки творил с трупом своей жены?
— Нет, но догадываюсь. Он обрезал косы под корень, положил их ей в руку, одел её в лучшее платье и украсил всеми драгоценностями, какие у него не украли?
— А ещё он обнимал труп и целовал его в губы. Это же труп! Нахрена его целовать?
— Люди видят вещи иначе, чем мы. Для нас труп — пустая оболочка, о которой нет смысла заботиться. Для них — память о дорогой душе, её слепок. Целуя труп, они пытаются последний раз поцеловать ушедших любимых, так же, как они собирают трупы в дорогу, в которую отправляются души... это странно, но логично.
— Опять память!
— Эльфы помешаны на памяти, разве ты не знал, сын Жестокого?
Волчонок сердито топнул ногой, но спорить не стал.
Сел в траву, сорвал нифредиль, втянул носом слабый сухой аромат, задумался о чём-то своём. Потом сказал рассудительно:
— А может, так и правильно. Не вот этот бардак с наряжанием и украшанием, нет, но сама идея. Что вот, есть место, куда можно ходить горевать. Как думаешь, они слышат живых — те, кто лежит под землёй?
— Люди верят, что да.
— А ты?
— А я не знаю, — честно ответил Инголдо. — Иногда мне тоже хочется верить. Но тогда они должны слышать нас везде, не только на могиле, разве нет?
Волчонок пожал плечами. Думал о ком-то — может быть, о своём друге Рауко?
— Здесь твои mellin(1) лежат, да? — спросил он.
— Большинство, — кивнул Инголдо. — Вон там, у голубой ели, там могила Мудрой Атьи, так она меня на дух не переносила. Звала огнеглазой тварью и как-то раз выплеснула на меня ведро помоев, а я был весь в раздумьях и не увернулся, — он фыркнул.
— Но ты и её любил, верно? Это как дети. Они разные, и могут хотеть тебя сожрать, но ты их любишь всё равно. Хотел бы я такое место, чтоб говорить с моими мёртвыми детьми!
В такие моменты Волчонок казался взрослым. Отступали капризность, неуступчивость, любопытство, водопад вопросов обо всём и ни о чём. Оставалась тоска, которую могли взрастить только века одиночества и потерь. Перед каждой ордой орков шли полчища волков — но только сейчас Инголдо задумался: скольких из них этот мальчик видел совсем малышами? Держал на руках, учил чему-нибудь... говорить, наверное, учил? Провожал, зная, что провожает на верную гибель.
— Одна мудрая женщина мне говорила, что любое кладбище — место для разговора с мертвецами, неважно, кто там похоронен, — осторожно сказал он.
— Да? Но толку-то. Волки не уходят за людьми, нет?
— Эльфы тоже. Но я пришёл сюда говорить с теми, кто умер — и знаю, что меня услышали. Попробовать стоит, я считаю.
— Горе делает слабым.
— Если его не выплеснуть — да. Но если позволить себе печалиться, печаль станет твоей силой. Те, кого ты потерял, поддержат тебя.
— А тебя поддерживают?
Финэллах, Камандир, Эдрахиль, Нэтьяро... казалось ему — или он правда слышал их далёкие голоса, чувствовал их руки на своём плече?
Чувствовал, что он прощён за страшную ошибку и они не сердятся, что он возится с отцом их убийцы?
— Да, — ответил он.
Он поднялся, из вежливости решив оставить Волчонка одного, пошёл назад к деревянному «дворцу» — большому дому в лучшем случае, даже по меркам Беорингов.
И уже на краю долины — услышал вой, леденящий душу, тоскливый волчий вой.
Любовь и боль, отчаяние и надежда, усталость и упрямство...
Волчонок сложил свою первую настоящую песню.
1) Друзья. В северном наречии с этим словом запара, как мы помним.
— И чего ты тоскуешь? — недоумевала волчица. — Это ж искони так заведено: дети помирают, родители остаются делать новых детей.
Костиан трясся у неё на спине. Рядом с обычной неторопливостью вышагивал Пастух — показывал дорогу к соседнему селу, где оставалось много недоступных деревянным гигантам покойников. Такая вот генеральная уборка: объезжай округу да выволакивай трупы, чтобы волки с Пастухами могли их закопать.
— Я не тоскую, — сухо ответил он.
Шея сзади противно мёрзла, намекая, что всё-таки не стоило так вот в порыве горя резать княжеские косы, от которых столько пользы и никакого вреда. Данар от этого не горячее, а ему вот холодно теперь, придётся шарф искать. Только где ж его найдёшь, когда всё перебуробили вражьи оглоеды! И почему в тайниках он попрятал золото да камушки, а не хорошую тёплую одежду и вина бочонок-другой?..
— Ну, хорошо тогда.
— И с чего ты вообще взяла, что дети должны помирать прежде? Зачем их делать, если они помрут? Дети должны о родителях в старости заботиться и род продолжать! — Костиану очень хотелось с кем-нибудь поругаться.
— Зачем заботиться? Родители сами сильные. А если слабые, так их Хозяин прибьёт.
— Ваш Хозяин...
— Твой тоже. Сам ему клялся, я слышала.
— Как клялся, так и отрёкся! — быстро сказал он, скосив глаза: не услышал ли Пастух? Не понял ли? — А Хозяин ваш всё равно найдёт повод. И чего вы ему служите...
— А кому ещё?
Ругаться с ней было положительно неинтересно: очень уж она сухо на всё отвечала. Это злило, и тряска тоже злила, и холодный ветер на загривке. Вот бы вместо волчицы ему любимое кресло на сорока руках, сиди себе спокойно, пока оно с места на место перебирается, стуча костяшками...
Он выволок труп с чердака — молодую девку, в самом, что называется, соку. Она пряталась за тюками с зимней одеждой — которые Костиан охотно распотрошил, выпустив на волю аромат лаванды и лаврового листа. От моли, которой, как и всего остального живого, в Дортонионе больше не было. Кроме как в пастушьих владениях — там он и медведя замечал, не то, что моль.
Распотрошил тюки, а шарфов там не было — только бабьи платки. С узорами, с выдумкой, — видно, настоящая мастерица в доме жила. Подумал, обмотал один из платков вокруг шеи. Подумаешь, нелепо — главное, что тепло.
Осталось только стащить труп вниз по лестнице и сдать гробокопателям, сокрушаясь про себя, что служанка из девки вышла бы просто загляденье, а Ном — бог, конечно, божественный, но злой и вредный, не дающий учёному человеку поставить науку на службу товарищам по несчастью.
Внизу, рядом с волчицей, ждал Волчонок, и вид у него был — ну явно не одному Костиану сегодня хотелось с кем-нибудь поругаться. «Вот же, не было печали...»
На голове у Волчонка сидела маленькая серая птичка — Костиан только сейчас её заметил. Было в ней что-то, что ему не нравилось — но сегодня ему весь мир был какой-то не тот, и он решил не задумываться.
— Молодой господин! — изобразил он на лице верноподданную радость.
— И что ты мне всё зад лизать пытаешься, будто там сладкие сливки? По имени зови!
Ну точно ссоры ищет.
— Отец, давай мы его уже загрызём? — встряла волчица. Она как раз оттягала девку до ямы и забрасывала землёй.
— Кого?
— Да эльфа твоего! Ты как с ним поговоришь за эту вашу философию, так всякий раз бесишься.
— А вам что за дело, бешусь я или нет?
— Так жалко же смотреть, отец! Давай загрызём?
Костиан тронул заветный свёрток в кармане. Страха он не чувствовал: знал, что сумеет уговорить тупых зверей отложить задуманное, а там уж как-нибудь с помощью Пастухов можно и до лорда Майдроса.
— Себя загрызи, если зубы чешутся, а эльфа моего не трожь! — рявкнул Волчонок. — Жалко им меня... я тут думу важную думаю, а вы меня жалеть вздумали, дурачьё! Эй, Шарки! Скажи-ка, что ты знаешь про Злые Силы?
Это северные дикари так добрых богов звали. Потому что если Враг — добро, то боги — ясное дело, добром быть не могут.
— Они там живут, — он махнул рукой куда-то в сторону запада. — В бессмертной земле, и сами бессмертные. Ном говорит, что добрые и о нас заботятся, только их заботы никто не видел. Как по мне... — но продолжать мысль он не стал, вспомнив, что Ном, наверное, был бы недоволен такой его ересью.
— Ном — это мой эльф? Его так зовут?
— Мы зовём, да. Он наш добрый бог, — пояснил Костиан.
— Как Злые Силы?
— Лучше. Они там сидят, а он здесь. Помогает, чудеса творит. Позовёшь — приходит.
— Полезный, — кивнул Волчонок. — Ладно, бывай. Пойду в лесу поохочусь.
Он махнул рукой, указывая — и Костиан нахмурился. Там, где раньше была пахотная земля, теперь стояла роща — высокие, не вчера посаженные деревья с крепкими стволами и широко раскинувшимися ветвями. И от рощи этой несло — здесь он ошибиться не мог — смертью.
Вражьи дела...
Малявка прилетела к нему, когда он закончил петь.
Нет, не так.
Он закончил петь, обнаружил себя на своих четверых — и побежал, потому что оставаться стоять и обдумывать песню и голоса детей, которые подпевали, поддакивали, спорили — оставаться стоять и обдумывать всё это просто не было никаких сил. Побежал — не разбирая дороги, быстрее, быстрее, пока лапы не подкосились, и он не свалился в чёрную траву.
И вот когда он лежал, высунув язык и тяжело дыша, он увидел малявку. Серую птичку с глазами-бусинками и рыжим клювом, такую же усталую и измотанную. Он протянул руку и посадил её себе на голову — и удивился, как легко лапа стала рукой.
Теперь она восседала у него на голове и вертелась туда-сюда. Подцепляла пряди волос, пытаясь устроить себе гнездо. Волчонок не возражал, малявка его забавляла.
Так, вдвоём они навестили Шарки. Повеселились, глядя, как тот пытается тягать тушу откормленной покойницы. Охренели, что Карнаухая вздумала убивать его эльфа, послушали про Злые Силы...
— Раньше этого леса тут не было, молодой го... Волчонок! — с низкопоклонством Шарки прощаться явно не собирался.
— А что было?
— Ничего, земля под пахоту. А теперь вот лес. Неправильный он!
Правильный или нет, это был лес, а в лесу водилась дичь, а дичь можно потом сожрать. Опять же, хорошая погоня ему сейчас была очень нужна. Сбросить налипшую, как паутина, тоску, выбросить мысли, которые бродят и бродят в голове, не давая покоя. Плохие мысли, негодные: сплошное «а что, если».
Если отец был не прав, если вообще всё не так, если злое — не злое, а детям было вовсе не обязательно заканчиваться, если идея стать Хозяином и править, не так и хороша, потому что быть Хозяином вообще не хорошо, никак не выходит, чтобы хорошо...
Лес и правда был какой-то неправильный: душный, будто не зима на дворе, а жаркое лето. Воздух еле-еле цедился и был тяжёлым, таким тяжёлым, что малявку прямо вжимало ему в макушку. И деревья эти, тронутые серой гнилью... вдруг одно дерево зашевелилось, и он отскочил, ощерился.
— Не бойся, — сказало дерево и он узнал голос Можжевелового. — Я тебя не обижу, добрый волк.
Ну вот. Раньше тосковал, что не может вернуться в четвероногое обличье и бежать вместе с детьми — а теперь возвращается в него, чуть что не так.
— Я не добрый волк, я Волчонок! — немного сердито сказал он. — Ты что тут делаешь, дерево?
— Грущу, — ответил Можжевеловый.
— Нашёл занятие! Хотя я вот тоже грустил недавно, — укорил он сам себя за непоследовательность. — Мне мой эльф показал, как услышать тех, кто закончился.
— Закончился? — пастушонок помычал немного по-своему, потом снова заговорил словами: — Да, я тоже говорю с теми, кто... закончился.
— Здесь? Это потому что здесь паршиво и дышать нечем?
— Потому что это они, — тихо ответил Можжевеловый. — Они жили, они ходили, но больше не могут. Они... закончились. Потому что по замыслу Врага никто не должен здесь ни жить, ни ходить. Тем более, не должен мешать его замыслам.
Волчонок вздрогнул всем телом. Малявка у него на макушке пискнула сердито: едва не свалилась.
— То есть, это вообще не лес? Это трупы деревьев?
— Трупы onodrim, — согласился Можжевеловый. — Трупы моих сородичей. Поэтому мы растим траву среди зимы и нарушаем сон вещей. Мы торопимся, — он печально поник ветвями. — Торопимся. Можем и не успеть.
С ним было странно разговаривать. Можжевеловый не был из его детей. Не был из его хозяев. Не принадлежал ему, как эльф или Шарки. Но он говорил легко и искренне, и Волчонку тоже хотелось отвечать так же легко.
— А я слышал голоса своих детей. Они не хотели умирать, — он не любил это слово, но другого здесь никак не вставало. — Они хотели играть со мной, бежать, пока лапы несут. Переругиваться с Луной и рожать детей, которые тоже не будут... умирать.
— Никто не хочет умирать, нет? — спросил Можжевеловый.
— Наверное. Но мы-то существуем для этого. Кроме тех, кто на развод — делать новых детей.
— Так нехорошо. Детей нельзя делать для смерти, это... — глухой рокот, сердитый грохот, звук, как от порванной струны. — Это вражеское.
— Ну так нас кто создал!
— Он никого не создал, — совсем как эльф, возразил Можжевеловый. — Он не умеет. Он только ворует чужое. У тебя был отец — значит, ты родился, верно?
— У меня и мать была. Волчица. Добрая уж там или злая, не знаю. И детей волчицы рожали, уже от меня. Но мой отец — Тар-Майрон, слуга Хозяина. Кому ещё я могу служить?
— Никому? — предложил Можжевеловый. — Зачем надо служить кому-то? Можно просто жить.
Fairie. Это опять она: непонятная, неправильная свобода, которая просто есть.
Не свобода творить, что захочется и с кем захочется, а какая-то такая, другая. Которая внутри и ты просто живёшь без хозяев, слушая своё сердце.
Как серая малявка, например.
— Скажи, а птицы, они служат Душителю? Ну, как его там... Сулимо, Faire Thuaron и всё такое?
Можжевеловый задумался. Потом помотал головой и запел — видно, словами ответить не выходило. Чистое небо, холодный воздух, протянутая рука, женщина-дерево с водой в горстях, искалеченная земля, снова воздух, ветер, крылья, слёзы...
— Ничего не ясно, давай словами!
— Я не знаю, как словами! — сердито громыхнул Можжевеловый. — У нас есть дело, и у птиц есть дело. И это дело тех, кто нас сотворил. Но никто не приказывал нам оставаться здесь и пытаться исправить злое, никто не заставляет птиц... не знаю, если честно, чем они заняты, они птицы. Летают, наверное? Это наше решение, наша воля, так у нас сердце лежит, понимаешь?
Малявка снова пискнула, и на Волчонка обрушилось понимание.
Всё, что было — и случки, и клетки, и отбраковка — всё это было для того, чтобы у волков тоже лежало сердце так, как этого хочет Хозяин. Чтобы они не хотели ругаться с Луной или охотиться в полях и лесах, а хотели только жрать, рвать и умирать. Потому что если птица может хотеть летать, а дерево — пасти деревья, то почему волк не хочет жрать и рвать кого скажут и заканчиваться по приказу, а хочет жить, вылизывать детёнышей и бежать вперёд, пока лапы не устанут.
Вот только что делать с этим пониманием, он пока не знал.
Зато знал другое.
— Можжевеловый, ты же мне друг, верно?
Если с кем-то говоришь, и он не раб, не дитя и не родитель — то это и есть друг, разве нет?
Когда-то — совсем недавно — прислужницей Варды была Ильмарэ. Тогда чертоги на Таникветиль полнились гулом голосов и звоном кубков, и всем хватало что мирувора, что внимания хозяев.
Теперь здесь было тихо. Изредка пролетала птица, или торопливо проходил эльф-посыльный — но редко, редко, и эхо под высокими потолками спало непотревоженным.
Хозяйка Таникветиль проводила дни на самой вершине. Стройная и недвижимая, она стояла на краю последнего обрыва и смотрела на восток. Навстречу ей поднимались ладьи Луны и Солнца, навстречу ей летел яростный ветер смертных земель, неся вести о смертях и сражениях — а она стояла и смотрела.
Слушала.
Когда-то — совсем недавно — её часто звали. Звали на пир и звали просто так, звали, испугавшись теней и того, что таилось в тенях. И она приходила. Садилась за стол, шла рядом, посылала свой свет рассеять темноту и своих слуг — уничтожить зло.
Теперь её не звал почти никто. Сколько она ни вслушивалась — там, в смертных землях, почти никто не хотел её помощи. Почти никто не просил её помочь. Её народ, для которого она создала свои звёзды, для которого отдавала свой свет снова и снова, забыл её.
Но она всё равно стояла на последнем обрыве, слушая восточный ветер и надеясь услышать зов, услышать A Varda Tintalle и откликнуться на него всем существом...
— И она танцевала, помнишь, брат?
Намо был столь же равнодушен, сколь и прежде. Он и стоял-то здесь всё ещё только потому, что ему было нужно подтверждение Старшего, его печать на приговоре. Приговоре, который Старший выносить не желал, и тянул время пустой болтовнёй.
— Я помню, мы бродили по лесу — молодому, только выросшему из следов Йаванны, и набрели на поляну, полную цветущих одуванчиков. Золото, от края до края — и тёмно-красная рамка из еловых стволов, и зелёная синева ветвей. Я замер, любуясь — а она прыгнула в самый центр и закружилась, одетая только телом, и её белая кожа сверкала из-под покрывала волос, и звёзды перемигивались в её волосах... мы все были так молоды в те дни, брат, молоды и полны надежд, ты помнишь?
Намо пожал плечами.
Ему казалось, что он не был молод никогда. Что он был сотворён уставшим и старым, и таким же уставшим и старым уйдёт в ничто, оставив свою усталость миру.
— Надежду изобрёл Мэлько, чтобы измучить души недостижимым, — твёрдо сказал он.
— Не может такого быть! — Манвэ сердито нахмурился, и в небе собрались тучи.
— Разве надежда не приносит одну лишь боль? Разве она не обречена разбиться о суровую реальность? Разве ты сейчас не питаешь надежду, что наша участь не решена и где-то есть прощение за наши ошибки? Что на твои вопросы будут даны ответы и всё будет однажды хорошо?
Последний раз Отец ответил Манвэ не так давно — и это было по делу, по Статуту Тургона. Всё остальное?
«Жди, и увидишь». «Вы сами решите, как всё будет». «Подожди, всему свой срок».
— Я доверяю Отцу, — ответил он сквозь зубы, через силу.
Доверие было изрядно расшатано — ответами без ответа, собственной виной, беспомощностью перед мятежным братом и перед Судьбой, которая сейчас пыталась заставить его вынести приговор тем, в ком он не видел вины, а Намо — видел только её. Мир Намо был простым и ясным, только жить в нём Манвэ совсем не хотелось. Он верил, что оступившегося нужно подхватить и помочь встать на ноги, а не подтолкнуть и позволить разбиться насмерть. Намо считал, что помощь только мешает воздаянию и каждый должен вкусить плоды своих ошибок в полной мере, без снисхождения.
— Ты доверяешь своим мечтам об Отце, — холодно сказал Намо. — Своим идеям, своим надеждам. Ты забыл его законы.
— Я следую закону.
— Но при этом мешаешь мне карать преступников? Не слишком похоже на правду, Старший. Ты начинаешь забывать, что только наместник Того, Кто больше тебя. Сам поглощённый грехами и ошибками, пытаешься защитить таких же грешников. В надежде, что кто-то защитит тебя?
— Закон не может быть всем, Намо.
— А что же может?
— Эльфы и люди могут прощать друг друга, могут переступить через обиды, даже самые страшные. Почему не мы? Почему не Отец?
— Теперь ты пытаешься натянуть на Него слабости Его детей? И всё ради того, чтобы освободить нескольких проклятых от заслуженной ими участи?
— В твоих глазах все, кто ушёл за Феанаро — сами навлекли на себя смерть и заслуживают вечного заточения.
— Ты это говоришь так, как будто бы я не прав.
Нити цеплялись за нити, сновал челнок — вперёд, назад, вперёд, назад.
Вайре отпустила его, уронила руки вдоль тела.
Челнок продолжил сновать, уже без её помощи. История ткалась, расплываясь перед глазами — Вайре плакала.
Она устала.
Она спустилась в мир за прекраснейшим из айнур, даже когда он изменился, исказился от песни Мэлько. Она осталась с ним, даже когда он построил себе чертоги, больше похожие на темницу. Даже когда он стал похож на камень своих чертогов. Даже несмотря на то, что он никогда не любил её, она оставалась рядом, верная памяти о том прекрасном юноше её весны.
Но она устала.
— Отец, забери меня! — сквозь слёзы взмолилась Вайре. — Забери меня отсюда или дай Намо сердце, которое у него отнял проклятый Моргот! Дай Намо сердце, Отец!
И словно в ответ на её отчаянную мольбу тишину и мрак чертогов пронзила песня, острая и невыносимая, как свет.
Конечно, враги не могли оставить дом Андрет неизгаженным. Это было бы против их природы — такой аккуратный домик, такой крепкий засов на двери, как пройти мимо и не сорвать, не изукрасить пол бранью и непристойными рисунками, не осквернить священные сосуды. Инголдо не был ни удивлён, ни даже разгневан. Он нашёл метлу и смёл глиняные осколки в совок, выкинул их в компостную яму во дворе. Поставил на место чудом уцелевшую посуду. Нашёл мыло и щётку, набрал воды и принялся оттирать пол.
Зачем?
Наверное, чтобы не оставить Врагу даже такой маленькой победы, как грязь и погань на месте хорошего дома. Если Пастыри справятся, если он справится, в Дортонион ещё вернутся жители. Люди или эльфы — не так важно, дома нужны всем. Приветливые дома, помнящие прошлых хозяев, но готовые принять новых. Чисто прибранные и полные добра: зерна в хранилище, вина в подвале, одежды в сундуках, посуды в кухонном шкафу.
С могилами во дворе — а куда без них? Белерианд весь полон могил, именных и безымянных, отмеченных и нет, человеческих и эльфийских. В каждой семье — по убитому, даже в тихом Нарготронде или мирном Дориате.
Ох, Андрет, Андрет!..
Она лежала в Бретиле, спала мирным сном праведницы под высоким курганом. Пережила долгую дорогу, помогла освоиться на новом месте — и ушла, спокойная и гордая, как всегда. Красивая в своей старости, как была красива в юности. Её одели в свадебный наряд — красное платье, блестящие височные кольца, вышитый белый платок. Незамужних женщин принято было так хоронить, он знал — но не мог не думать о брате, с которым Андрет теперь свидится только после конца времён.
Были бы они счастливы вместе? Порывистый, переменчивый Аэгнор и несгибаемая властная Андрет? Но ведь такой — женщиной-лезвием, женщиной-кремнем — она стала, когда он покинул её. Одиночество и обида сковали из неё горький клинок, закалили его болью и усталостью, омыли слезами и потом. Не уйди тогда брат — кем бы она стала?
И невольно Инголдо начал привычно бранить самого себя. Что не подобрал верных слов, что слишком был занят собственным свежим ещё горем и попытками оправдать брата, что не заметил ничего вовремя и не смог вмешаться потом... Сейчас он стал мудрее. Он бы не пересказывал ей завиральные идеи брата, нет. Он бы вспомнил Балана и говорил его словами. О том, что эльфы вечно смотрят даже не в завтрашний — в послезавтрашний день, и не умеют жить сегодня. Балан частенько бранил за это самого Инголдо — «Хватит среди сегодняшней радости плакать о завтрашней беде, как премудрая дева».
Ох уж эта дева! Сколько раз Балан поминал её, и всё к месту, как ни стыдно вспомнить.
Он рассказал её Аэгнору, вернувшись на Севера — добрую сказку Беорингов о премудрой деве и её не менее премудром семействе, и о том, какая печальная оказия случилась в нём накануне свадьбы.
Только было уже поздно.
Андрет носила своё горе, как царский венец, и не пожелала его снять. А брат не смог её убедить, что любит не девочку у вод Аэлуин, а женщину, в которую та выросла — со всей горечью, гордостью и сединой.
И даже Врага не обвинить — всё сами, всё сами...
Может, поэтому и придётся Единому лично спускаться в созданный им мир и говорить со своими детьми. Без его помощи попытки исправить мироздание оборачивались другой сказочкой Беорингов — о том, как звери чинили хижину. Крышу залатали — стена обрушилась, стену поставили — пол провалился. И ведь старались же, от всей души старались. Но видно, самим справиться не судьба.
«И то, наверняка, не поймём половину и ещё половину переврём потом».
Инголдо вышел во двор, потянул за цепь, наклоняя над колодцем журавль. Ворот, который использовали люди Мараха, здесь встречался редко — больше огромные деревянные «журавли», птицы на одной ноге, что склоняются испить воды и снова поднимают головы к небу. Удобная конструкция, и образ красивый.
— Ты печален.
Он вздрогнул. У колодца, откуда ни возьмись, стояла яблоня. Нет, не яблоня — женщина Пастырей с зелёными глазами и мягкой улыбкой. Удивительные всё же создания! Такие неторопливые — и такие быстрые, такие громкие — и такие бесшумные. Дети Йаванны, плоть от плоти её лесов...
— Печален, — согласился он.
— Это печаль той, что здесь жила. Я помню её. Я часто приходила стоять в её огороде, и она даже не замечала, что раньше меня там не было.
— Для тебя, наверное, вся её жизнь была одним кратким мигом, Древесная.
— Для моего мужа, — поправила та. — Он сродни дикому лесу, что никуда не торопится и ни о чём не задумывается. Что ему люди, что ему эльфы? Они приходят и уходят, а деревья остаются. Я же больше сродни садам. Садовые деревья живут не меньше лесных, но они помнят руки людей, которые их сажали, прививали, заботились о них.
— Беоринги любили свои сады, — печально улыбнулся Инголдо. — Яблони и вишни, и рябина с чёрными ягодами. Весной всё тонуло в белой пене цветов.
— Мне было одиноко, пока они не пришли. Эльфы не сажают деревья, только разговаривают с ними.
«Ваниар сажают», — хотел он сказать, но ваниар остались за морем.
— К югу от Химлада жили синдар, которые разводили сады и сажали пшеницу, — припомнил он.
— Жили, — эхом ответила та. — Мои люди тоже... жили.
Он вернулся в дом — протирать отчищенный пол свежей водой. Женщина-яблоня осталась снаружи.
— Люди упрямы, они не уходят навсегда, — с надеждой сказал он.
— Если мы очистим эту землю, они придут снова? Хорошо бы. Хорошо, что вы будете здесь до весны.
— С нами не так одиноко?
— Вы живые, — то ли согласилась, то ли дополнила она.
От неспешной печальной беседы их отвлёк радостный топот лап. Волчонок научился бегать на четырёх ногах и теперь пользовался этим при любой возможности. Хотя какой волчонок — здоровенный волчара, вдвое крупнее того... Инголдо поёжился. Того, которого не хотелось вспоминать.
— Эй, эльф! Смотри, что у меня есть, — похвастался он, уже в людском облике.
На макушке у него сидела серая птичка. Знакомая — такие вечно окружали того синда, как же его... имя всё время ускользало, а ведь бедняга пошёл за ним на смерть, нехорошо... Гваэвен, лорд Одуванчиков! Да, это точно была одна из его птиц.
— Я хотел спросить тебя, эльф. У тебя имя-то есть?
Эльф перечислял и перечислял свои имена — это от мамы, это от папы, это от гномов под землёй, это от кузенов в Аглоне — и они никак не заканчивались, и Волчонок уже пожалел, что спросил. Он просто подумал, что даже у Шарки есть имя — «Шарки» — а эльф просто эльф и это немного неправильно.
— А сам-то ты как себя зовёшь? — не выдержал он. — Должно же быть у тебя твоё собственное имя, а не чьё-то там!
Растерялся, задумался. Как будто не очевидный вопрос задали, а что-то философское из области жизни и смерти.
— Я люблю материнское имя больше других, — ответил он. — И мне нравится имя «Ном». Оно короткое и удобное, и его подарил мне дорогой сердцу человек.
— Ном... ом-ном-ном... нет, так я тебя звать не стану. Будешь Нолдо, хотя на нолдора ты похож, как собака на кошку.
— Моё материнское имя значит «Один из нолдор, нолдо», — тихо фыркнул эльф. — В честь отца. Я подозреваю, смысл в том, что хотя мы и не похожи на них внешне, но всё равно одни из них. По характеру, по крови. По судьбе.
— А ты веришь в судьбу?
— В неё сложно не верить, если её встречал. Его, — поправился эльф и поёжился, хотя в доме было тепло, а на нём была хорошая шуба.
— Страшный, что ли?
— Страшный, — кивнул эльф и продолжил в своём обычном духе: — Но не в этом дело, страшного на свете много. Ты тоже кому-нибудь страшный, да и я, если на то пошло. Но мы с тобой не можем делать слова реальностью. А он — может. И никто, даже сами валар, не могут ничего ему противопоставить. Потому что он — судьба.
— А как же бороться с судьбой?
— Это всё равно, что бороться с течением времени. Или с силой тяжести, что влечёт предметы вниз, — эльф развёл руками. — Можно выпрыгнуть из окна с криком «Пропади ты пропадом!», но она всё равно выиграет. Так и судьба.
— А кто-нибудь пробовал вообще? Или вы все решили, что бесполезно, и покорно сложили лапы, подставив глотку?
— Мы пробуем, хотя и бесполезно, — ответил эльф. — То, что я здесь, с тобой, пытаюсь что-то делать... судьба гласит: «Во зло обратится всё, что начиналось добром, через предательство и страх перед ним». Так погибнет мой Нарготронд — но я хочу верить, что Дортонион всё равно оживёт. Что мы сможем преодолеть злое и посеять доброе!
— Так погибнет твой город — и ты не пытаешься бежать, чтобы его спасти? — изумился Волчонок.
— Посмотри на меня и скажи, далеко ли я убегу.
— Положим. Но скоро твои раны затянутся, и ты станешь здоров. Тогда что?
— Тогда меня удержит дело, которое ты начал. Освобождение Дортониона.
— А если он будет свободен?
Эльф опустил глаза. Вздохнул, глубоко и тяжело.
— Я знаю, что Нарготронд погибнет, но я люблю его, — сказал он тихо. — Когда я буду здоров, когда Дортонион будет здоров... следи за мной в сотню глаз, Волчонок, и всё равно не уследишь, потому что я должен вернуться к своему народу.
— Который предал тебя, купившись на речи твоих сумасбродных родичей? Отец так говорил.
— Твоему отцу лучше бы молчать, за умного сойдёт, — огрызнулся эльф.
Волчонок захохотал. Таким Нолдо нравился ему больше — сердитым, дерзким и колючим, не смиренным и покорным судьбе. Он не помнил, чтобы эта Злая Сила приходила тогда на войну, но был уверен: и она не всесильна. Никто не всесилен, кроме Хозяина — и даже про него Можжевеловый утверждает иначе.
А если никто не всесилен, то всякого можно победить.
Из этого прямо получалось — эльф называл такое логикой — что можно победить отца. Не отпихнуть его заклятье чуть-чуть, на несколько шагов, на пару домов — а снять раз и навсегда. Он даже в общем-то видел, как это можно было бы сделать.
Но ему не хватало мастерства.
Малявка шевельнулась, переступила лапками по голове. Что-то её тревожило. Должно быть, мертвяки — отец их развёл огромные стаи. Птицы, звери, летучие мыши, все улучшенные в новом северном духе — железные клыки, когти из золота, крылья из фольги и прочие излишества.
Волчонок такое не одобрял: зачем, если обычный хорошо откормленный и тренированный волк легко заборет всю эту металлическую роскошь?
И останется живым — а излишества прикручивали только мёртвым.
— Отец, ты опять задумался и чуть в дерево не вписался. Тебе надо меньше думать!
Быстрый всегда был редкостным хамлом.
— О вас думаю, дураках. О том, как нам жить дальше.
— И как?
— Думаю: освобожу эту землю от отца — и отдам вам.
— Нам троим? Великовата будет.
— Не троим. Всем вам. Будет земля для faire волков, для моих детей. Научимся жить в домах, топить печи, копать землю. Станем настоящим народом.
— А копать и топить зачем? Не лучше просто охотиться?
Волчонок и об этом думал.
— Охотиться хорошо, но ни один народ не живёт только охотой. Они все строят, копают... делают что-то, понимаешь? Не только берут, они отдают. Как тот дровосек, который рубил одни деревья, но сажал другие. Это как-то помогает им сохранять fairie, понимаешь?
— Не-а.
— На то и дитя, вырастешь — поймёшь.
Сам Волчонок тоже не понимал природу этого механизма, но признаваться в таком детям не собирался.
За время, оставшееся до весны, Волчонок намеревался научиться петь по-настоящему. Тогда можно будет попробовать схлестнуться с отцовым колдовством — и посмотреть, как эльф будет сбегать.
Обещало быть интересным.
Зима без снега — что девица без сисек: вроде и существует, но непонятно, зачем.
Так Костиан считал в юности, так продолжал считать теперь. И за последние месяцы снега в Дортонионе не выпало и на половину пальца. Пастухи заставляли землю родить не в сезон, а где власти Пастухов не было — там царил Вражий Прихвостень, его мёртвое войско и мёртвый мир.
— У нас на Северах снега тоже не было. Хозяин его не любит, — вздохнул Быстрый.
— А чего его любить, Хозяину-то. Падает с неба, а сам — вода, — хмыкнула волчица.
— Хозяин не любит, а я люблю. В нём бегать весело, — гнул волк свою линию. — Когда он по самую грудь, и идёшь сквозь него, а он рыхлый такой, эх-х-х...
— Не трави душу, — волчица встала, потянулась. — Пошли лучше, там могилы не копаны.
Стоял месяц ветров, суран. Хороший месяц, ворота зимы: она уходит, весна приходит. Девчонки начинают рядиться в пёстрые юбки, мамки пекут птиц из теста, с глазами-орешками. Все бегают, поют заклички, чтобы птицы вернулись и солнце стало ярче. Чучело Врага на костёр сажают, чтобы сгорел совсем и забрал с собой холод и голод...
— Сулимэ(1), — задумчиво сказал Ном. — Знаешь, Бессмертный, на Югах если зима тянется до этого месяца — её зовут злой и ужасной. Там холода проходят уже в середине ненимэ(2), и всё начинает цвести. А я полюбил зиму здесь, в Белерианде.
— Вот как, — любезно кивнул Костиан.
— Да. За морем её совсем не бывает. А жаль! Снег такой белый, такой холодный! Красивый и вкусный, как мороженое. И тёплый, как мягкое покрывало. Он бережёт поля, и земля отдыхает — это так правильно. И сосульки! Я такую красоту видал только в пещерах, но там они каменные, не прозрачные.
Вот хоть и бог он, а эльф. Как есть эльф.
Верно сказано: эти бессмертные — что малые дети. Всему дивятся, всему радуются. Палец покажи — и в нём найдут высокий смысл и потаённую эстетику.
— В суран снега хорошая примета, — подумав, ответил он. — Значит, лето тёплое будет, плодородное. Хотя у нас тут весь год навыворот, и снегов ждать неоткуда.
— А я бы ждал.
— Зачем, Ном?
— Даже не знаю, как тебе объяснить, Бессмертный. Свойство такое у меня есть, ждать знаков. Вот если пойдёт снег — значит, не бесполезны наши труды, значит, не зря Волчонок надрывается, пытаясь научиться всему за считаные месяцы. Значит, отстоим Дортонион у Врага. Понимаешь?
— Снег как благословение богов, что ли? Но ты сам бог, Ном.
— Прекращай это, Бессмертный. Боги... бог один, он этот мир создал. Валар — за морем. А я — просто эльф, которого научили петь и не научили, как жить, когда песни не помогают. Давай лучше испечём птичек? Мы, конечно, с тобой не женщины, но у нас из женщин — одна Карнаухая... а впрочем, это идея.
Только Ном, в его божественной простоте, мог додуматься пристроить волчицу месить тесто. Лапами. Большими мохнатыми лапами.
Данар, которая даже став княгиней, считала кухню своей вотчиной и не доверяла готовку служанкам, была бы в ярости.
Но что поделать, таков божий закон: тесто должны месить женщины. Это ещё с тех времён — рассказывала бабка, а она была Мудрая — когда мужчины только охотились, а женщины только искали всякое съестное. И каждый готовил то, что принёс: мужчины — мясо, женщины — зерно и фрукты. Так и повелось, что мужчинам не положено прикасаться к хлебным делам, а женщинам — к мясным.
Потом уже оказалось, у эльфов такие же законы. Должно быть, и они когда-то жили просто и дико, не зная ни сохи, ни коровы.
Думать такое было немного странно — всё же эльфы, высшие существа, собеседники богов... но Костиан с детства не доверял низкопоклонству перед чужими народами. Ном есть Ном, он приходит и помогает, его есть смысл почитать, если не слушать — несёт он иногда редкую чушь. А остальные? Пришли на всё готовое из Блаженной Земли, заявили себя царями и радуются. Ничем не лучше простого человека, только что живут дольше. Такое было его мнение, и он его твёрдо держался.
Лепила волчица ещё забавнее, чем месила. Бранилась по-северному, но старалась.
— Если это ради снегопада и птиц, то я даже хвост отморозить готова, — сказала она. — Муж и малой, оба снега хотят. Да и я тоже не прочь, он хороший, добрый. Кружится, ловишь его пастью — весело!
Птички получались так себе, на жаворонков категорически не похожими. Скорее, на особо кривых уродливых ворон. Но и ворона, как известно — дочка Хозяина Ветров, Птичьего Бога. Он вообще не сильно заморачивался вопросами красоты, этот бог — видал Костиан китоглава, и большого козодоя видал. Так сразу не решишь, не то Птичий Бог был пьян, не то у него какие-то совсем нелюдские идеи, что этому миру нужно, а что — нет.
А уж как козодой орёт...
Странно, что Мудрые не выдумали сказочку, что козодоем Птичий Бог своего мятежного брата пугал. Костиан бы поверил.
Румяные, свежие стояли сдобные птички на окне. Стыли — горячее тесто есть вредно, так говорила бабка.
А за окном... за окном, одна за другой, лёгкие, невесомые — падали снежинки.
Запрокинув голову, распахнув глаза, подставив ладони стоял Волчонок, заворожённый новым чудом.
Волки замерли, ожидая, когда повалит как следует, чтобы бегать и беситься — в этом волки от собак не отличались.
— Твоя взяла, Ном, — признал Костиан.
Тот только склонил стриженую голову, принимая капитуляцию.
1) март
2) февраль
— Снег идёт, — сказал Волчонок тихо. — Я слышал о нём. Никогда не видел.
— Он молод, совсем как мы, — так же тихо ответил ему Можжевеловый. — Ещё недавно его не было. Ни весны, ни лета, ни зимы и ни осени. Ничего, сплошное межсезонье. А теперь он есть, и посмотри — как он красив!
— Нолдо говорит, это знак, что пришло время действовать.
— С тех пор, как взошло Солнце, у всего есть своё время: у роста и цветения, у сна и отдыха. Почему не быть времени действовать?
— Почему на Северах не бывает снега, друг? Там всегда холодно.
— Он слишком хороший для Хозяина Севера, я думаю. Его свили Ненимо и Сулимо(1), соткали из нитей своих песен, пустили по вольному ветру. Это как узоры на окнах. Ты видел их? Уверен, там их не бывало.
— Не бывало. Шарки рассказывал мне, что их рисует Амилло, — припомнил он. — Зимний близнец Лирилло, поющего песню воды. Амилло нем и не может петь, как его брат, поэтому он рисует. Я не верил.
— Я такого не слышал и не видал, но всё может быть. В людских историях часто прячется старая правда, которую даже мы, стражи леса, давно забыли.
— Мне нравилась эта сказка. Амилло был больной, но брат не бросил его умирать. Немых волчат положено было кончать, пока они маленькие и не слишком много едят.
Волчонок посмотрел в серое небо — по-другому, не гнетуще серое, а словно облитое серебристым светом. Снежинки танцевали на ветру, собираясь в пушистые хлопья, ложились на землю, на траву, на крышу дурацкого дворца Шарки. Путались в шерсти детей, медленно тая и превращаясь в мелкие капли воды. Можжевеловый терпеливо ждал, продолжит он или нет — терпения древесным было не занимать.
— Я больше не хочу быть хозяином, друг.
— А кем хочешь?
— Пока не знаю! Но не хозяином. Хозяин должен подходить ко всему по-хозяйски, а значит — не давать никому никакой fairie. А я хочу её для своих детей, понимаешь?
— Хозяин забивает больную скотину, пока та не испортила здоровую и не подъела его запасы, — согласился Можжевеловый.
Он умел понимать. Волчонку это нравилось.
— Знаешь, что у меня будет? У меня будет земля, где fairie будет для всех. Не только для детей. Эльфы, люди, хоть подгорные гномы — кто угодно, пусть приходят и живут, если они готовы принять мои правила и не мешать другим быть faire. Не отнимать ни у кого ничего.
— А мы?
— И вы тоже! Я же говорю — все! Если... если даже Злые Силы вздумают явиться на мою землю, я им скажу: «Хорошо, вы пришли. Вы можете остаться, но должны быть faire и не искать ни над кем власти». Так я хочу.
— Но земля будет твоя?
— Конечно. Кто-то должен быть за неё в ответе. Кто-то должен встать на защиту, если придётся.
— Если они будут свободны, они все встанут, — убеждённо сказал Можжевеловый.
Малявка закопошилась, царапая лапками кожу головы. Волчонок протянул руку, погладил её по спинке, как новорождённого щенка. Под рукой часто-часто билось птичье сердце. Душитель создал это сердце, ветер и снег — почему он Душитель? Почему не Хозяин, который хочет остановить всё, что ещё бьётся, заморозить весь мир и растоптать его в пыль под ногами? «Почему не отец, который забрал воздух и жизнь у целого края, задушил самое время, сделал воду стоячей и свет — тусклым?»
— Нолдо говорит, любой может сделать любой выбор, надо только захотеть, — медленно начал он, сжимая руку в кулак. — Отец говорит, что выбор лежит в крови, что я всегда буду сыном Тар-Майрона. Но отец говорит, что прав тот, кто силён. Знаешь что, друг?
— Что?
— Если я справлюсь, если я смогу освободить этот край... я не буду больше его сыном. Не буду Волчонком. Буду... кем-то другим. Ещё не знаю кем, кем-то новым, тем, кого я и сам плохо представляю. Потому что я — только сын Тар-Майрона. Но это как цепь, которую надо порвать, даже если это невозможно. Нолдо порвал такую, чем я хуже?
Можжевеловый посмотрел на Волчонка своими серьёзными, невозможно зелёными глазами и ответил:
— Я буду рядом.
Ничего больше ему и не было нужно. Друг рядом, Малявка в волосах — и белый снег. Белый, как чистый лист.
Он распахнул руки, широко-широко, и запел.
Отец стоял напротив него, свитый из своих мелодий — высокий и страшный, как чёрная башня, с крыльями от горизонта до горизонта, и в тени этих крыльев было нечем дышать. Всё выше и выше он вырастал, всё шире и шире распахивал крылья, всё больше и больше они поглощали — куда там маленькой песне глупого Волчонка!
Но если Нолдо мог не испугаться петь против отца — то и Волчонок не должен отступать.
Не должен умолкать.
На горле смыкались стальные когти тысяч летучих мышей, шум их крыльев заглушал неверную мелодию.
Волчонок подался назад — и почувствовал твёрдую руку Можжевелового. Малявка негодующе пищала у него на голове. Где-то звучали голоса детей, вплетаясь в мелодию. Хрипел Шарки, и даже Нолдо что-то пел — или говорил?
И за этой всей сумятицей звуков он вдруг услышал совсем другую песню. Такой он не слышал никогда в жизни — она была больше песен Нолдо, больше самого Волчонка, больше, кажется, целого мира. Голоса пели не о чём-то — они пели деревья и воду, траву и цветы, небо и землю. Множились, перекликались, сталкивались и отдавались, и Волчонок на целый миг стал частью этого хора, на целый миг смог спеть с ними в лад, добавить свой маленький голос к их великим.
Дыхание закончилось, и навалилась темнота.
И только голоса пели, пели, пели — могучие, как зимняя буря, сметая чёрную башню и её хозяина.
— Спи, дитя без отца, onwe ben-adar, — произнёс ласковый голос, и он уснул, шепча своё новое имя.
1) Ульмо и Манвэ
Хозяин грёз и блаженного Лориэна, Ирмо, нечасто облачался в плоть. Он предпочитал являться серебристым туманом, стаей ночных бабочек, причудливым цветком... может, и к лучшему: плотские его облики были далеки от сходства с детьми Эру, и некоторые эльфы постарше до сих пор в кошмарах видели то нечто с бабочкой вместо лица и лианами вместо рук, что Ирмо счёл отличным вариантом для появления на празднике середины лета.
Но сейчас облик его был непривычно прост. Обычный юноша, с лёгкими серебристыми кудряшками, острым носиком и большими серыми глазами. Главное — не вглядываться, тогда не будет заметно, что глаза эти будто подёрнуты радужной дымкой и постоянно меняют оттенок.
Он был здесь не ради себя и своих причуд — ради брата.
Намо сидел у его ног, спрятав лицо ему в колени, и плакал. Сброшенная хрустальная корона, разбитая, лежала на траве. Серая ткань одежд давно промокла, но Ирмо это не смущало: он только молча гладил брата по голове, дожидаясь, когда слёзы схлынут достаточно, чтобы тот мог заговорить. Сколько лет прошло с тех пор, как Намо плакал или смеялся? С тех пор, как братья беседовали по душам? Даже валар сложно сосчитать — последний раз это было и вовсе до того, как время появилось как идея, в далёких теперь Чертогах Единого. Тогда Намо был молод, его сущность ещё не исказилась, и братья часто играли вместе, развлекая сестру, или говорили о своих возлюбленных и трудностях дел сердечных...
— Им плохо, Ирмо, — наконец вытолкнул Намо слова из горла. — Им всем так плохо, так больно, Ирмо! Каждый день, каждый час, каждому из них. Я знал это, но я не знал...
Владыка мёртвых не знал ни жалости, ни сострадания — до тех пор, пока не пришла эльфийская дева и не научила его. Песня Лутиэн ранила бессмертное сердце, застила глаза слезами и теперь Намо не мог остановиться, не мог продышаться от того груза боли, который несли живые и приносили в его чертоги.
— Как жить с этой болью, брат?
— Жить, — эхом ответил брат. — Они ведь живут. И мы должны.
— Как они с этим живут?! Как ты с этим живёшь?
— Они — по-разному. А я... если пытаться облегчить эту боль, хоть немного — самому становится легче.
— Облегчить! Я должен их судить, Ирмо! Судить за то, что они творят, за тех, кого они обрекли на гибель, на страдания. Судить беспристрастно, без снисхождения.
— Кому должен? — ласково спросил тот, осторожно гладя брата по голове.
— Отцу?
— Разве он судит? Разве ему это нужно? Мне всегда казалось, нет. Он учит нас, и порой мы огорчаем его, и подчас наши ошибки приводят к дурным последствиям, которые нам приходится принять, но он не карает нас. Как можно судить того, кого любишь?
— А как можно обречь любимого на гибель? А мы обречены, Ирмо!
— Не может он позволить нам вот так исчезнуть. Мы его дети, не меньше, чем младшие народы.
— Ирмо, это не справедливо. Справедливость требует кары. Подумай, сколько горя принесли наши ошибки — разве мы не заслужили самое суровое наказание?
— Разве? Это очень уж похоже на месть. Ты поступил плохо — на тебе, мерзавец, ещё больше плохого! Нет, мне кажется, судья должен стараться исправить зло, а не натворить ещё больше. Иногда исправить зло можно, только устранив его источник. Но это ведь редко. Чаще достаточно времени и правильных слов. Младшие не совсем дураки, просто они менее зоркие, чем мы. Не так хорошо видят, где добро и где худо.
В кругу Маханаксар братьев ждать не стали. Не потому, что не уважали, нет. Просто творившийся фарс не нравился никому из собравшихся, и дожидаться ещё двоих ради полного состава участников дурной комедии никто не желал. Комедии — потому что по уму надо признать весьма смешным то, как владыки стихий вынуждены чинно сидеть и притворяться, что разбирают дело, над которым не властны. Дурной — потому что дело было в самом деле важным и страшным, и никто не остался к нему равнодушен — и то, что никто из собравшихся ничем не мог ему помочь, грызло им душу.
— Чего ты желаешь, Берен? — скороговоркой сквозь зубы выговорил Манвэ.
На лбу у него раскинул медные крылья орёл-корона, одежда сияла драгоценностями, в руке был сапфировый жезл. Король Арды, последний судия. Ветер от края до края небес, собранный в точке, посаженный на трон, чтобы менять судьбы мира. Но двое в центре круга видели только усталого человека, давно оставившего юность позади и замершего на пороге старости.
— Быть с Лутиэн, — ответил человек, как отвечал сотни раз до того.
Тулкас горько хохотнул: мол, а вы чего ждали? Гром откликнулся недобрым предзнаменованием.
— А я желаю быть с Береном, — добавила стоявшая рядом эльфийка.
Занятная, забавная они были пара. Невзрачный, коренастый мужчина, без одной руки, зрелых по счёту людей лет — и вечно юная дева, прекрасная, как Варда на заре времён. Такое же белое лицо, такие же чёрные волосы... только обрезанные почти под корень, и белые ноженьки Варды никогда не бывали исколоты и изранены долгой ходьбой по мёртвым дорогам. Стояли рядом, прямые и непреклонные — она за его спиной, положив подбородок ему на макушку, обняв, словно боится отпустить. И в глазах у обоих — любовь и ярость боя: все им враги, все готовы разорвать их невозможную близость, всякому нужно быть готовым ответить ударом на удар. Ни капли страха — до страха ли, когда решается судьба?
— Это невозможно, мы вам уже объясняли, — мягко сказала Варда. — Вы созданы разными, это не в нашей власти.
— Значит, зовите того, кто выше вас, — спокойно сказал Берен. — Мы попросим его.
Он видел их, стихии мира, кости и кровь земли. Как до того видел Врага — и боялся, ох как он боялся Врага. А сейчас страха не осталось, ушёл, закопали его в дориатском лесу вместе с подранным волчьими клыками телом. Только упрямство — и Лутиэн за спиной, от которой нельзя отказаться. И если ради этого надо позвать самого Творца — он позовёт.
— Ты вообще знаешь, о чём говоришь, смертный? — ужаснулся Аулэ.
— Нет, — охотно признал тот. — Но я знаю, что если вы не можете дать нам быть вместе, то он может.
«Ты ведь мой наместник, сын. Плох тот наместник, что по каждому делу бегает спрашивать короля».
Наместник, который ошибался слишком часто. Наместник, который привёл свой народ к гибели, который ничем не может помочь тем, кому сдуру пообещал защиту и заботу. Хорош наместник!
«И тем не менее, ты всё ещё здесь, и я не лишал тебя твоих обязанностей. Решай, сын мой. Только тебе решать».
— Но он просит тебя!
«А я прошу тебя. Давай же, Манвэ. Вынеси свой приговор — и я приму его, как примет созданный мною мир».
— А может, ну, он просто здесь останется? — тем временем предлагала Вана. — Сделаем ему что-нибудь вроде тела, ну как-нибудь... будут вроде как вместе?
— И жить ей до скончания дней с привидением? Жена, да ты жестока! — Оромэ укоризненно покачал рогатой головой.
— Ну, всё лучше, чем разлука!
— Так это всё равно просто отложит вопрос до скончания века, — рассудительно заметил Аулэ. — А они просят его решить.
Манвэ поднялся с трона. Поднял жезл, указывая, что сейчас изречёт свой приговор. То, что станет аксаном для эльдар и законом для мироздания.
— Берен и Лутиэн, — сказал он. — Вы хотите жить вместе и никогда не разлучаться?
Кивнули.
— Тогда вот мой ответ: вы вернётесь в мир живых, смертными. И по истечении срока — уйдёте путём людей, вместе. Ибо люди остаются вместе и за гранью мира, а об эльфах нам не дано знать. И пусть будет известно, что каждый, кто полюбит дитя другого народа и того пожелает, сможет разделить их удел.
Жезл опустился.
Мир принял новый закон.
Молчали валар, изумлённые дерзостью Старшего. Молчали Берен и Лутиэн, изумлённые, что их невозможная борьба завершилась победой. Молчало само мироздание, порванное на части и срощенное заново волей Создателя по желанию его старшего сына.
И это молчание рассёк возглас:
— Радуйтесь!
Намо стоял у входа в круг, высокий и страшный, и волосы его развевал ветер времени. Лориэнская пыль на его лиловых одеждах серебрилась звёздной дорогой, а в глазах горел синий огонь вечности. Он пришёл не свидетелем и не советником — он пришёл изречь своё слово. Пророчество или приговор — для Намо это всегда было одно и то же.
Но никогда раньше он не просил радоваться.
Никогда раньше на голове у него не красовался венок из одуванчиков вместо короны.
Никогда раньше не было такого, чтобы он улыбался — чуть-чуть, самыми углами губ, слишком захваченный вдохновением, чтобы смеяться в голос.
Вайре вскрикнула, не зная, верить ли своей надежде, и Ниэнна сжала её руку в своей: верить.
— Радуйтесь, — повторил Намо. — Потому что все будут прощены. Всё будет прощено. И рознь в Тирионе, и кровь в Лебяжьей Гавани. И то, чего ещё не совершено, тоже будет прощено, и все пути будут открыты. Дважды Отец испытает изгнанников — но даже если они не справятся и настанет ночь, темнейшая из всех, в этой ночи взойдёт звезда. Она приведёт надежду с запада на восток — и однажды приведёт с востока на запад, к надежде.
Он широко распахнул руки, словно тщась обнять мироздание, дрожавшее под его ладонями.
Замерла Лутиэн, подарившая судьбе сердце. Замер Берен, не позволивший смерти себя забрать. Замерла Вселенная, терзаясь ожиданием. И только Манвэ улыбался спокойно и расслабленно, словно тяжкая ноша упала с его плеч.
— Страшным будет падение Гондолина — но светла будет Звезда Надежды. Братья мои, сёстры, — Намо обернулся к валар и наконец позволил себе улыбнуться, широко и счастливо, — ждите Эарендила!
Сначала был вой, пронзительный и неприятно резавший слух. А потом вдруг — музыка, какой Костиан в жизни не слышал. Будто и флейта, и арфа, и ещё голоса, людские и не очень — всё сразу, одновременно, и невероятно красиво — аж слёзы на глаза навернулись. Музыка вела, гремела, воодушевляла, музыка заставляла подпевать и чувствовать что-то странное, непривычное.
А потом настала тишина и Волчонок пошатнулся и осел на руки своему приятелю-Пастуху.
Волки переглянулись.
Кинулись к своему предводителю, подняли тревожный лай.
Тот остался равнодушен.
«Неужто сдох?»
Пастух принёс беспамятного Волчонка, положил на крыльцо.
Тот был бледен и тих, но сердце билось ровно, глаза были чистые, веки не открывались сами собой, дыхание тоже не сбоило. Печально, конечно — было бы очень удачно, если бы парнишка откинулся. За эту зиму он успел сделать немало хорошего, самое время совершить последний добрый поступок и убраться с дороги Нома и Костиана навсегда.
Но нет, держался пока.
Дышал.
— Шарки, скажи, что с ним! — потребовала волчица.
Почему чуть что — так сразу «Шарки»? Как будто он специалист по непонятным болезням непонятных вражьих детей. Он мог только сказать, что на вид Волчонок был полностью здоров, не ранен и никаких признаков хвори не обнаруживал, как его ни щупай. Просто спал и не просыпался ни на тявканье своих детей, ни на пинки и тычки Костиана, ни на осторожное — по меркам Пастухов — похлопывание по щекам.
— Оставьте его в покое, он просто устал, — раздался голос Нома.
— Просто? — усомнился Куцый.
— Хорошо, не просто. Очень сильно устал. Не телом, душой — вложил её всю в свою песню, а себе хоть немного оставить забыл.
— Глупо, — буркнула волчица. — О себе надо думать.
— Надо, — согласился Ном. — Но он думал о том, как прогнать тень. И прогнал.
Значит, вот что это было, та музыка. И правда ведь, в кои веки пахло вокруг не гнилью, а весной: снегом и талой водой. Костиан и забыл, когда последний раз дышал таким свежим воздухом. Вражий сын — и прогнал вражью тень: странное дело, кто бы подумал.
— Значит, он умрёт? — с надеждой спросил он.
— Если ему не помочь, — ответил Ном и посмотрел на Костиана с мягкой укоризной, словно читая его мысли и не одобряя их.
А может и впрямь читая. Он бог, ему и не такое доступно.
— И кто ему поможет? Ты? — волчица шагнула вперёд, и Костиан с лёгким ужасом осознал, какая же она большая. И как она горбится. И как уши встали торчком. И хвост подёргивается. И слюна в углах пасти собирается.
И какая же она недобрая. Враждебная всякому, кто не готов вот прямо сейчас кинуться на помощь её отцу.
— Нет, — мотнул головой Ном. — Я умею лечить людские болезни и вправлять вывихи, но это... здесь нужен настоящий целитель. Где только его взять...
— Где хочешь, — хмуро сказал второй волк, не Куцый. — Но возьми.
— Может быть, у государя Майдроса? — ловко ввернул Костиан.
Там всех троих волков живо отправят на тот свет, не дожидаясь объяснений, да и отца их с ними.
— Нет, не там, — Ном явно не понял намёка. — Среди подданных моих кузенов... не было принято особенно интересоваться делами души. Если бы Волчонок был ранен, тогда я не думал бы дважды, им подвластны самые страшные ранения, но он-то не ранен. Он просто устал душой, у него нет сил жить дальше — тело живёт, а душа угасает... душу лечить сложно, это целое искусство, — он явно говорил сам с собой, рассуждал вслух, пока искал где-то в глубинах памяти ответ.
— Сложно, искусство, что угодно. Нам нужен наш отец! — рявкнула волчица.
Костиан рванулся вперёд, встал между ней и своим богом. Однажды тот уже умер, хватит с него!
— Пока тело живо, он сможет вернуться, — продолжал рассуждать Ном, словно не ему угрожали эти гигантские жёлтые клыки. — Значит, и времени у нас хватает, вопрос не во времени... — хлопнул в ладоши, улыбнулся радостно. — Мы пойдём в Гондолин!
И оглядел всех, словно это было ответом на все вопросы и что-то им всем говорило.
— Эльф, а что такое Гондолин? — вежливо осведомился Куцый.
И надо сказать, Костиан присоединялся к вопросу всей душой.
— Город, — просто ответил Ном. — Там, — он махнул в сторону Юго-Западных Гор.
— За Анахом? — ужаснулся Пастух. — Какие там города, там даже орки не живут?
— Нет, не за Анахом... долго объяснять.
Он поднялся на ноги, отряхнул полы одежды, решительно поправил пояс.
— Надо придумать, как мы повезём Волчонка. Путь неблизкий, несколько недель по самой меньшей мере, а уж по весенней распутице... так что собираться надо быстро.
— Я его понесу, — тихо сказал Пастух. — Предупрежу родителей и понесу. Мы устаём не быстро, а ходим быстро — от волков не отстану.
Когда Инголдо был маленьким, вопросы лечения людей и эльфов его ничуть не волновали. Он, конечно, часто себе что-нибудь ломал... или растягивал... или вывихивал — словом, он часто падал, и на него тоже часто что-нибудь падало. Без этого при его любви где-нибудь шариться и копать себе норы было никак.
А копать он любил. И ах, какие норы у него выходили! Нэлле(1) аж прозвал его бешеным барсуком. Уважительно так — в конце концов, качественная нора для детских игр совершенно незаменима. В ней можно прятать сокровища, хранить еду для важных экспедиций. Можно, наконец, прятаться и проводить очень тайные собрания трёх друзей.
В ту пору их всегда было трое: он, Таттэ и Нэлле. И немного Турко(2): Нэлле обожал брата, а значит, им тоже приходилось. Но они были не против: Турко был замечательный, всегда с охапкой охотничьих баек, всегда готовый подлечить пораненное или поломанное, красивый, взрослый... взрослый!
Инголдо невольно усмехнулся: вот уж последнее слово, которым он назвал бы кузена сейчас. Тот наоборот словно так и не вырос из того возраста, в котором дитё выучивает заветные слова «моё» и «дай» — а если и вырос, то не дальше возраста «а теперь я буду король, а вы мои верные». А вроде ведь и был же, у себя в Аглоне, должен знать, что это за морока...
Впрочем, с ним был Нэлле, а Нэлле можно было доверить хоть нору, хоть королевство — вернёт в лучшем виде. Инголдо на миг представил, как вернётся в Нарготронд и они вместе будут смеяться над всем случившимся — после того, как хорошенько поспорят или даже подерутся, конечно.
Нэлле обязан понять, что Берен должен найти Сильмарилл, что это нужно и правильно. А когда он поймёт — объяснит брату, как всегда. Так уж сложилось: каждый доносил важные вещи до своих братьев. Только Инголдо — больше некому.
Даже сестра, и та непонятно где.
Они хотели спешить, но спешить не выходило — без колдовства Вонючки ранняя весна решительно изгадила дороги, сделав непроходимыми даже те места, что в прошлый раз они пробежали легче лёгкого. А ведь впереди было ещё болото — вот где придётся завязнуть во всех смыслах слова!
Зато молодой Пастырь радовался каждому росточку. Он назвался Можжевеловым; сказал, это имя дал ему Волчонок и оно ему теперь дорого. Друга своего, завёрнутого в лоскутные одеяла, он нёс с такой нежностью, с какой не всякая мать носит на руках своё дитя — и это заслуживало восхищения, потому что шли они по непролазной грязи, где даже древесное племя могло поломать все корни, пытаясь нащупать твёрдую почву.
Хорошо, что рек, речушек и ручьёв — теперь свободных, живых и говорливых — в Дортонионе хватало. Инголдо и так выглядел не лучшим образом из-за перекошенного, изрытого шрамами лица, быть ещё и в грязи по самые брови ему совсем не хотелось.
На берегу одного из ручьёв он его и увидел — владыку Ульмо. По-весеннему нарядного, во множестве слоёв прозрачного шёлка, в ожерелье из ярких кораллов. Вокруг талии его плавали пёстрые рыбки, ничуть не замечая, что они не в родном море, а на вольном воздухе.
Инголдо склонился в поклоне, но владыка его даже не заметил, весь погружённый в созерцание бегущей воды.
«Он здесь не для меня», — со стыдом осознал Инголдо и вспомнил, что перед ним не просто ручеёк. Здесь брала начало Ривиль — одна из великих рек, питающих Сирион. Сирион, которому отдал своё сердце и свои силы владыка вод — и который теперь стал чище и свободнее.
И всё же...
— Владыка! — окликнул он.
— Анольдо? — обернулся тот по-совиному, одной головой. — Что-то не торопишься ты в Гондолин, я посмотрю, — в голосе владыки была ясно слышна укоризна.
— Прости. Но я наконец-то туда иду! Только... владыка, с нами юноша, сын Воню... Тар-Майрона, — истинное имя Жестокого он произнёс без всякого удовольствия. — Он истощил свои силы, оживляя этот край. Скажи, не мог бы ты исцелить его?
— А почему ты не попросишь об этом Итариль?
— До неё надо ещё дойти, а мы завязли напрочь, — развёл руками Инголдо.
— Завязли? Этому горю легко помочь. Заодно подберёте кой-кого, он тоже вот завяз, бедолага.
Ульмо повёл руками, и сухой тростник по берегам ручья поднялся вверх, сцепляясь друг с другом, собираясь в плотный ковёр, сворачиваясь в лёгкую ладью.
— Но владыка, с нами...
— Анольдо, — и снова ласковый укор в голосе, — это моя лодка. Неужели ты думаешь, что она кого-то не выдержит... или не вместит?
«Нет — но ужасно сложно будет убедить в этом остальных», — подумал Инголдо и, поклонившись, пошёл.
Уговаривать и убеждать — и ни в коем случае не поминать владыку, чтобы не напугать и без того скалящихся на всё божественное волков.
1) напоминаю, прозвище Куруфина
2) Кэлегорм
Сложно расти в Дортонионе и ничего не понимать в лодках. Рек, речек, речушек — всего этого здесь хватало, и все они были для Беорингов удобнее, чем обычные дороги, вечно разбитые тележными колёсами да конскими копытами. Костиан мог не любить лодки — но он в них разбирался.
Впрочем, и разбираться не надо было, чтобы понять: это тростниковое нечто плыть не должно. Особенно без вёсел в уключинах — хорошо хоть руль был. Нет, может быть, если очень постараться, оно бы унесло одного человека. Двух, если это маленькие дети или хрупкие женщины. Но никак не дерево, трёх волков, немаленького Нома и Костиана в придачу!
— Не поплывёт, — решительно сказала волчица, потрогав это нечто лапой.
— Плавает ваш Раугдан в... проруби, — сердито ответил Ном, и Костиан невольно задумался, где же военачальник Моргота должен был плавать на самом деле. — А эта красавица пойдёт, и пойдёт хорошо. Садитесь уже!
И, пожалуй, следовало бы послушать свою годами накопленную мудрость и воздержаться... но тут он кое-что заметил. Даже не он — игла. Эльфийского серебра иголка, воткнутая в воротник, которая была Костиану дороже жизни — или, в некотором роде, дорога как жизнь.
И она нагрелась.
А это значило — рядом что-то, по природе своей противное смерти. И кажется, он даже знал, что — или, вернее, кто. С лодочкой это вязалось, и не зря же недавно Костиану мерещилось, будто у ручья девка стоит, с длинными рыжими волосами?
О водяницах — добрых речных духах — Беоринги рассказывали друг другу веками. Ещё в незапамятные времена, когда о богах знали плохо, а о Творце и вовсе позабыли, и прозябали в ничтожестве по ту сторону гор, люди дружили с водяницами и слышали от них снова и снова: «Всякая река стремится к морю».
И однажды вождь Ферда решил, что его народ должен быть как река и тоже идти к морю. Но его жена, Халда, сказала: «Нет, муж мой. В этой земле у нас есть пища под ногами и кров над головой — а что будет в пути?» — и осталась в родных лесах, а с ней остались многие другие, убоявшиеся долгой дороги. Их назвали по её имени — халадинами.
Теперь, впрочем, и они добрели до моря.
Видно, не такая сытная была там, за горами, пища, да и кров не так надёжен.
Догадка Костиана подтвердилась, стоило им всё-таки забраться в чудо-лодку. Всем хватило места: Ном встал у руля, Пастух со своей ношей — в самой серединке, вокруг легли волки, ну а старый колдун уселся поудобнее на носу. И хоть вместо четырёх весёл был один руль, поплыли они сразу — и быстро, так быстро, как даже княжеские ладьи с парой десятков гребцов не плавали!
Совсем скоро Ривиль перестал быть жалким ручьём и побежал в полную силу, торопясь навстречу отцу-Сириону, чтобы вместе с ним разлиться и затихнуть в топях Сереха. И каким другим был он теперь! Жухлая прошлогодняя трава полнилась жизнью: неуверенно квакали проснувшиеся жабы, зудели первые комары, роилась мелкая мошка. Птицы, прилетевшие с сытой зимовки по Галиону, довольно крякали и покрикивали, заново обживаясь дома. Шустрые, лёгкие скользили под водой рыбы, тянули свои лапы к свету водоросли.
Всё то, что забрал Вражий Прихвостень, вернулось — и вернулось словно бы сторицей.
Потому что мальчишка спел свою песню.
И теперь дрых на руках у деревянного друга, а Костиан, как последняя скотина, продолжал желать ему скорой смерти.
Ном осудил бы его за такие мысли. И осуждал, неоднократно. Но Костиан хотел своему богу — и себе заодно — только блага. Зачем брести в неведомые гондолины, когда есть Дортонион, свободный и живой? Скоро туда вернутся люди, поклонятся Ному и, может быть, примут Костиана собой править — других-то князей у них не осталось. С государыней Эмельдир ушли одни бабы, а княжич Берен... этот ушёл туда, откуда возврата нет никому.
Как ни прекрасен и волен был Ривиль, а зло не дремало. Стоило встать на ночь отдыхать — как из ниоткуда выскочил орочий патруль. С десяток морд и волки в придачу: два здоровенных чёрных зверя.
— Гляньте-ка, ваша родня пришла, папашу навестить, — хмыкнул Костиан.
Пошутил, конечно. Он вечно начинал шутковать, когда беда близко. Но игла была холодна, а костяной посох грел руки. Бояться не стоило.
— Смейся, Шарки, а меру знай, — оскалился Куцый. — А то можешь как я, потерять что нужное... эй, залётные! Что надо?
— Вам что надо, что вы тут бродите? — оскалился Куцему в ответ один из "залётных". — Мы по хозяйскому делу!
— И какие у Хозяина дела, в этих-то краях?
— Да тут видали одного огнеглазого. Гадит по мелочи, как у них водится. То прирежет кого, то в болоте утопит. Непорядок. А вы с чем?
— А мы с отцом. Коли шкура дорога — идите своей дорогой, а на нашу не ступайте.
— Хозяин вашего отца велел прихватить, если попадётся, — заметил самый крупный орк. — Он у вас делов наворотил. Так что это вы валите, а его нам отдайте.
— Не с тобой говорят, шкура лысая, — хмуро ответил Куцый. — Братцы, не нарывайтесь, а? Отец огорчится, что мы глотки друг другу дерём.
Ужас был в том, что Костиан ничего не заметил. Вот вообще ничего.
Только когда стрела упала, подбитая одним из двух топоров Нома, понял: один из орков решил досрочно прекратить переговоры.
Нома рисовали обычно с арфой. Такой из себя благостный — закачаешься. А Костиан, умел бы — нарисовал бы вот таким. Кровавый топор в руке, одежда в беспорядке, лицо в чёрных пятнах от орочьей кровищи — а сам утешает волчицу. Один из этих, чёрных, когда-то был её щенком.
Сам ведь бросился на мать, тварь такая.
И от отца отрёкся, хотел его Врагу сдать.
А она, дура, плачет...
Инголдо зачерпнул воды, умыл лицо. Шрамов ему хватило за глаза, чёрные разводы были совершенно лишними. Мимолётно задумался — почему у орков кровь чёрная, если у эльфов и людей, из которых они вроде бы сделаны, она красная. Не пришёл ни к какому выводу и принялся оттирать топоры.
Большинство его сородичей предпочитало мечи, но Инголдо так и не заинтересовался ими в Валиноре. Оружие ради оружия казалось ему нелепостью, дурацкой модой, которая пройдёт так же, как и пришла — внезапно. Лук или рогатина для охоты, острога для рыбалки — они были полезны, но меч... с мечом можно было только напасть на себе подобного, а зачем такое в мирном Амане? Наивность непростительная, но понятная.
И именно из-за неё первое своё убийство он совершил топором. Защищая свой корабль — свою Лебёдушку, построенную под чутким дедовым руководством, сущую красавицу, способную так легко лететь над водой. Память о том бою до сих пор сидела в нём, как заноза: о неверном свете фонарей, о прерванной работе, о схваченном топоре и свалке на палубе, и крови, на которой поскальзывались ноги...
Он хотел выдернуть эту занозу. Вернуть себе другую Альквалондэ — жемчужный песок, шорох морских волн, выбрасывающих на берег то ракушки, то обкатанные водой драгоценные камни. Золотистые огни фонарей вдали и дед в короне, стоящий на причале, высокий и одинокий, как маяк. Но дед вечно ждал свои корабли и своего брата, а ни корабли, ни брат никогда не вернутся с Того Берега, и заноза никуда не желала деваться.
— Ты невесел, Ном. Поговори с нами, развей тоску.
Его тоска была слишком стара, чтобы просто так развеиваться, но он с усилием улыбнулся:
— Просто задумался, о Бессмертный.
— О чём?
— О себе, о жизни, о жестокости Врага... мало ли о чём может думать эльф, когда чистит оружие? Карнаухая ещё не вернулась?
Волчица сказала, что ей надо кого-нибудь порвать и съесть и ушла охотиться.
— Нет пока. Гуляет. Жалеешь её, Ном?
— Жалею? Пожалуй. Но больше гневаюсь — на Врага и то, каким он сделал наш мир, в котором мать должна убивать своих детей, чтобы выжить.
— А толку-то. Всё равно ни мир не изменить, ни его не одолеть, — мрачно вздохнул старик.
— Можно пытаться. Вдруг что-нибудь получится?
В прошлый раз до топей Сереха они шли почти два месяца. Милостью владыки — справились за три дня. Болото по весне цвело множеством пёстрых цветов, обманывая неискушённый взгляд, маня ступить на воображаемый луг и провалиться в цепкую тьму. Хорошая метафора; думать о ней и развивать её Инголдо совершенно не хотелось — слишком легко мысли возвращались на привычную дорожку вины, усталости и тоски по дому, которого больше нет.
Нет больше деда Финвэ с его уютными семейными застольями, где дяди Феанаро и Нолофинвэ с кислыми лицами обнимались и мирились, чтобы утешить любящего отца — и в самом деле надолго забывали вражду, увлечённые каждый своим важным делом. Опустел Тирион, славный город на холме, и колокола Валмара больше ничему не радуются...
Пение тетивы и свист стрелы вырвали его из раздумий.
«Кое-кого забрать»...
Владыка, как всегда, недоговаривал. Например, забыл упомянуть, что этот кто-то весьма агрессивен и не совсем в своём уме.
И если племянник не узнал Инголдо в компании волков и пастыря деревьев, то Инголдо тоже не сразу узнал племянника. Некогда щеголеватый мастер был одет в потрёпанный бесформенный грязный плащ, кое-как сшитый из разномастных шкурок. Под ним не без труда узнавалось прежде богатое платье, залатанное и выцветшее теперь. Золотая гривна на шее была почти не видна, браслеты куда-то делись, нечёсанные волосы висели грязными патлами... для полноты абсурдной картины недоставало только грязной спутанной бороды. Зато сапоги были хорошие — гномской работы.
— Что ты с собой сделал и зачем?
Почти час племянник ревел ему в плечо, отказываясь отпускать и называя наваждением Врага. Потом отпустил и проводил к своей хижине — надо сказать, весьма неплохо поставленной, рука мастера его не подвела. Они развели костёр и уселись — рядом, конечно, рядом. Поодаль, стараясь лишний раз не попадаться на глаза, крутились волки, Костиан и Можжевеловый.
— Я... — племянник устало смотрел в огонь. — Я что-то с собой сделал? — наконец уточнил он.
— Ты выглядишь почти хуже меня, — прямо сказал Инголдо.
Племянник взъерошил пальцами чёлку, хмыкнул.
— Я... не думал о внешнем виде, если честно. Знаешь... вообще не помню, думал ли о чём-нибудь с тех пор, как покинул Нарготронд.
«Заметно», — подумал Инголдо.
— Хотелось искупить, смыть позор... — скороговоркой начал тот.
— Какой?
— Ну как же! Отец и дядя Турко, они хотели... хотели тебя... — он запнулся, хмыкнул невесело. — Они хотели убить тебя, дядя. Подстеречь в лесу и убить. Они знали, где ты — и не желали тебя спасать. Ты не знал, наверное? Да и откуда тебе узнать. Потом пришли вести о твоей смерти, и король Артаресто словно очнулся. Устроил суд, изгнал их обоих... — племянник снова запустил пальцы в грязную чёлку. — Я хотел исправить всё. Догнать Лутиэн, помочь ей и её человеку. Вернуть Камень. С Камнем... с Камнем отец меня услышал бы, понимаешь?
— А так не слышал?
От нежданных новостей во рту было кисло и солоно, но говорить — даже думать — о них не хотелось совсем. Потом. Всё потом: и Гавань, и Нэлле, и короля Артаресто. Иначе можно утонуть в мыслях. Нужно найти что-то простое. Например вот, семейные нелады. Очень простое и понятное, вечное, как сам дом Финвэ.
— Не слышал. Он слушал дядю Турко, — грустно ответил Тельперинквар. — А дядя Турко хотел корону, чтобы получить Лутиэн. А отцу втемяшилось, что если получить корону Нарготронда и Лутиэн — можно будет собрать под свою руку все свободные народы и победить Врага... я говорил, они не пойдут. Ни народы, ни Лутиэн. Никто не любит захватчиков. Но отец... отец хотел надеяться.
— Зачем Турко Лутиэн? — снова нашёл самое простое, безопасное и понятное Инголдо.
— Он влюбился. Или решил, что влюбился, я так и не понял. Но он, кажется, искренне верил, что если подождать немного, она согласится идти за него замуж, — племянник покачал головой. — Я говорил, что она любит другого! Он не слышал. Они оба совершенно разучились слушать!..
— И в итоге ты...
— Решил помочь Лутиэн и её человеку, да. Я шёл по их следам до самого Анфауглита, и немного дальше, но... — Тельперинквар снова горько усмехнулся, — я струсил, дядя. Мне стало страшно, и я вернулся с полдороги. Эта мёртвая пустыня, пышущая жаром... мне вспомнилась ночь Браголлах и то, как напали на наш Аглон. Битва за битвой, на горизонте багровый огонь и чёрный дым, темно как после гибели Дерев, и никакой надежды — но тогда рядом был отец, а теперь его нет. И не будет, я не вернусь к нему!
— Не можешь простить?
— Нет. Я... просто если я вернусь, то признаю, что он был прав. А он не был. Но и в Нарготронд я вернуться не могу — как-то совестно, так красиво уходил, такие обещания обещал... вот и сижу здесь, на болоте. Хоть какую-то пользу приношу.
— Охотишься на тёмных?
— Ну да.
— Это не польза. Польза — это что-то делать, создавать, ты же мастер, Тельпе! Убить пару орков в ночи — это иллюзия пользы. Мы идём в Гондолин. Идём с нами.
— Мы?
— Я, волки, их отец, один добрый Беоринг и наш друг из рода пастырей деревьев, — перечислил Инголдо. Прозвучало достаточно бредово.
— И вы все идёте в Гондолин.
— Да.
Племянник неожиданно фыркнул, прямо по-детски.
— Я хочу это видеть. Волки, их отец, человек и пастырь деревьев в тайном городе! И мёртвый Финдарато... — он покачал головой. — Да, я хочу это видеть!
Они шли, шли, шли... шли на лодке вниз по Сириону, потом пешком — по высохшему руслу-дороге. Волков пришлось зачаровать под гигантских псов наподобие Хуана и выслушать их недовольство, а они всё шли.
И только когда ноги оторвались от земли, потому что Турукано, дорогой он Таттэ, не любил наклоняться и предпочитал подхватывать того, кого обнимает, на высоту себя — Инголдо, наконец, ощутил, что заноза из мыслей перестала его мучать.
Когда не хотелось думать и чувствовать, Майдрос начинал разбирать слова. Состав, этимология. Морфологические свойства. Постепенно каждое из них распадалось на части — на аффиксы и корни, окончания и соединительные гласные — и теряло смысл, и так же теряли смысл и понятия, терзающие разум.
Предательство. Пере-дательство. Пере-дать, суффикс деятеля тель, суффикс действия ств, окончание среднего рода... передать — кому и что?
«Врагу себя».
Легко, непринуждённо, из лучших побуждений — как же, всеэльфийский союз всех свободных народов, новая Осада, а там может и новая Славная Битва... велика ли цена за великую победу — одна золотая голова?
Усталый, он уронил голову на руки, сгорбился. Отец бы сейчас подошёл, обнял, сказал: «Маленький, опять пытаешься стать ещё меньше?» — он всё звал его Маленьким, даже когда Майдрос стал на голову выше и порядком шире в плечах.
«Маленький, смотри, какой белобрысый у тебя брат! Не хуже папиных ваньяр!». «Маленький, ты глянь — знает, к чему тянуться! Жаль, тяжеловат пока молоток для твоего брата». «Маленький, ты старший, вот и присмотри за ними — мне некогда».
Теперь уже совсем некогда — сложно присматривать за кем-то из Чертогов Мандоса.
Отца они бы послушали. Поныли, конечно — особенно Атаринке — но послушали. Потому что отец. Друзья когда-то упоминали споры и ссоры с родителями, а Майдрос искренне недоумевал: как так можно-то, взять и поспорить, хуже того — не послушаться! Абсурд какой-то, бессмыслица. Родители затем и нужны, чтобы их слушаться.
Но не братья, увы.
Брату можно прямо сказать — «Ты тут сидишь и покрываешься плесенью, пока мы стараемся что-то делать».
— Вы вообще понимаете...
— Нет, Майтимо, я не понимаю, с чего ты так заводишься. Курво всё рассчитал, мы очень обдуманно действовали.
— К сожалению, не всё. Реакция Артаресто оказалась неучтённым аспектом.
Айвенор, оруженосец, молча принёс чашку с квениласом, поставил на стол и собрался молча уйти, но Майдрос остановил его.
— Погоди. Мне поговорить надо.
— Конечно, — кивнул тот.
Замер, склонил голову набок — в самом деле по-птичьи(1). Чудной он был эльф. Пришёл к отцу и сказал, что хочет с ним ради того, чтобы повидаться с братьями — и это в разгар мятежа, когда всё кипело и все отчаянно спорили о законности Исхода. Старики, впрочем, все чудные — хотя у Айвенора бороды, как у деда, не было. Зато он был такой же рыжий — и это Майдросу очень нравилась.
— Ты говорил, у тебя на Том Берегу оставались братья, верно?
— На этом, — поправил тот. Его педантичность Майдросу тоже была по душе.
— А почему ты их не искал?
— Сам не знаю. Просто вдруг осознал, что это ничего не изменит.
— Расскажи про них?
— Их двое. Рингасар — он постарше — и Руско. Рингасар... он всегда хотел справедливости. Ещё он любил числа, цифры, любил всё считать, измерять, составлять сметы. Если надо было узнать, сколько душ вмещает чертог или сколько припасов требуется на поход — он всегда помогал и очень радовался. Но справедливость любил больше, искал её. Не нашёл и разуверился во всём, — Айвенор горько усмехнулся.
— Поэтому и не пошёл в Валинор?
— А?.. А, ну да... так вот, Рингасар — он разуверился во всём, да. Кроме себя. «Я, — говорит, — буду последней справедливостью». А Руско... Руско просто было скучно, мне кажется. Всё хотелось приключений. Оружие ему нравилось. Возможность сражаться и побеждать. В Амане, там не с кем сражаться, видишь ли, мой лорд.
— Он тоже рыжий, Руско(2)?
— Нет, он чёрно-бурый, — улыбнулся Айвенор. — Самый красивый из нас, в любом обличье. И знал это, что характерно — вечно то встанет так, чтобы смотреться повыгоднее, то сядет поизящнее. Он умел лечить...
— Ты тоже умеешь, — почему-то немного ревниво заметил Майдрос.
Оруженосец был одним из тех, кто вытаскивал его — тогда. Вздыхал ещё, что давно без практики, что никогда не видел такого ужаса. Потому, собственно, и пошёл в оруженосцы, несмотря на почтенный возраст: чтобы никого не убивать, но приносить пользу. Убивать целителям нельзя — даже охотиться лишний раз не стоит.
— Не так хорошо. У меня это больше... интерес. А у него талант, целитель — это его сущность. Просто он предпочёл её предать и стать воином.
Опять это слово! Майдрос начинал его ненавидеть. Братья предали Артафиндэ, люди предали Майдроса... или не предали? Или по праву ушли, сочтя его пособником своих обидчиков, пособником неслучившихся убийц их князя? Разуму хотелось считать это предательством, но совесть отказывалась соглашаться.
— И значит, ты понял, что не сможешь на них повлиять? И что?
— И всё, — пожал плечами Айвенор. — Нашёл, чем быть полезным и продолжил жить.
— Звучит так просто...
— Да и вообще не особенно сложно, мой лорд. Ты справишься.
— Как думаешь, они поймут? Когда-нибудь, как-нибудь? Или так и продолжат в том же духе?
— Понять может каждый. А дальше... дальше каждый выбирает сам.
Ну да, понять — не означает принять и поменяться. Можно всё понимать, но делать по-своему.
Закатное солнце било в окно, рисуя за плечами оруженосца два огненных крыла.
— Но ты-то не уйдёшь, Айвенор? — почему-то спросил Майдрос.
Он ожидал формального ответа, но оруженосец всерьёз задумался. Уставился вдаль, словно высматривая что-то.
Наконец, ответил:
— Тебе решать, мой лорд. Смогу остаться — не уйду.
1) Айвэ — птица
2) Лис
Когда Костиан был маленький, он думал, что все эльфы выглядят красиво и прилично, как государь Эгнор. С тех пор он стал старше, жизнь его помотала... но к эльфу-нищему он всё равно готов не был. Тем более не был готов узнать, что это сын кого-то из Аглонских князей. Бывших князей, теперь-то там стоял гарнизон Врага.
Целились в Химринг, поганцы, да государя Майдроса просто так не взять, он однажды у них побывал в гостях и больше не собирался, это все знали.
— Нищие просят подаяния, — несколько занудно заметил Ном. — А племянник просто отшельничает. У вас же были отшельники, нет?
— Они себя так не запускали.
Ном фыркнул, покачал головой:
— Слышал, племянник? Не выходит из тебя приличного отшельника.
— А ещё ты тиной воняешь, — радостно сообщил младший волк.
— Дядя, я больше не считаю Берена самым странным твоим другом, — эльф вздохнул, пытаясь расчесать волосы пятернёй. Получилось скорее взъерошить.
— А что в нём странного? Он Беоринг, Ном — бог Беорингов, — пожал плечами Костиан. — Это ты из Аглона родом, а там все на голову стукнутые, каждая коза знает.
— Это ещё с чего?! — обиделся эльф.
— С рождения, не иначе.
— Ну знаешь! А у нас говорят — Беорингов в детстве с сосны скидывают и прямо на голову, на голову!
Ном покатился со смеху.
Чем ниже по течению они плыли, тем жарче становилось солнце и тем зеленее были берега. Из жухлого прошлогоднего тростника пробивались свежие побеги, в нос бил резкий запах пойменных цветов, орали птицы. Орков, напротив, становилось всё меньше: видно, они пока опасались возвращаться в разрушенный замок, над которым ещё висела тень государыни Лутиэн.
Заночевав в развалинах, они вышли было к берегу — и увидели, что лодки больше нет.
Только на берегу, где недавно ещё было пусто, красовался крепкий зелёный камыш — нежданный гость из Дортониона.
Видать, госпожа водяница решила, что дальше надо пешком.
— Интересно, владыка знал, что мост ещё стоит? — задумчиво хмыкнул Ном. — Тут дальше брод будет, у него свернём к востоку — и через пару дней, думаю, на месте будем. Только сначала надо замаскироваться.
— Так вы же эльфы, от кого вам прятаться? — дёрнула рваным ухом волчица.
— Так и не о нас речь. О вас. Вид у вас, друзья мои... — Ном развёл руками, — не самый подходящий для прогулок по Тайному Пути. Могут сначала выстрелить, а только потом спросить, зачем пришли.
— И кем ты нас хочешь перекинуть, колдун? — ощерился Куцый.
— Псами, конечно.
— А ты не охренел, часом? — спросил младший волк.
— Я полагал, — возможно, наивно, — что жить вам всё-таки хочется и нравится, — развёл Ном руками. — Но на нет, как говорят у людей, и суда нет.
— Хамишь, — уважительно хмыкнула волчица. — Ладно, колдуй. Но чтобы потом эти свои чары снял!
Дорога — русло давным-давно иссохшей реки — то вела ввысь, то резко рушилась вниз, и Костиан успел сбить себе ноги в кровь и устать до боли под ложечкой, когда наконец объявили привал. Волки наотрез отказывались везти кого бы то ни было: мелко мстили за собачье обличье, не иначе.
И вот, стоило развести костёр — а это дело небыстрое на горном-то ветру — и пристроить на костёр прихваченный из поместья котелок — как послышалось... нет, не послышалось, точно было слышно цокот копыт. Причём не так, чтоб мелких козьих, нет — хороших лошадиных копыт. Псы — то есть, волки — навострили уши, заворочались. Должно быть, тоже дивились, какая такая сумасшедшая лошадь забралась туда, где ногу легко сломит сам Враг.
Но вместо лошади к ним вышел, прыгая с камня на камень, высокий черноволосый эльф в чёрной кирасе и ярко-красном плаще.
Каждый его шаг отзывался эхом, а из его слов Костиан, как ни старался, не понял ничего.
Это был точно не синдарин и не та квенья, которую он учил.
— Я Финарато, друг короля Турукано, — а вот Ном отвечал на знакомой, понятной квенье. — А это мои добрые спутники.
Куцый не-волк кашлянул. Ну да, с добротой — это Ном погорячился.
— А меня зовут Можжевеловый, — медленно проговаривая слова, прибавил Пастух. — Моему другу плохо, мне сказали, ему помогут в городе.
Эльф подумал, кивнул, произнёс ещё что-то непонятное и сел у костра, как будто его кто приглашал.
Дальше дорога пошла опять крениться вниз, а потом упёрлась в большую каменюку — которая, как оказалось, отодвигалась в сторонку и открывала проход.
Не диво, что в Браголлах войска государя Тургона никто не видал: по такой дорожке идти можно только гуськом, войско так не выведешь. Ну или будешь выводить чуть не цельный месяц — пока все вышли, битвы давно отгреметь успеют.
За каменюкой обнаружился тоннель, и цокот воображаемых копыт стал совсем уж невыносимым, такое тут было эхо. Тем более, что шли все молча: проводник их пытался было болтать, и преживо, но кроме Нома, никто его не понимал. Костиан всё пытался отгадать, откуда такой звук; вспомнил даже старые байки — про лесных духов, у которых ноги от козы, про духов трав с телом лошади... потом только заметил — по блеску в синеватом свете феанорова фонаря — что сапоги у их проводника не простые, а из чернёного железа. Вот и звякали, значит, как копыта.
Глупо, конечно, зато хоть чем-то разум занял. Тишина давила на душу не хуже темноты.
Тоннель всё тянулся, изредка утыкаясь в ворота — по-эльфийски красивые, но совершенно не радующие глаз. У ворот проводник кричал непонятный пароль, слышал отзыв, нажимал незаметный рычаг, створки распахивались... и так раз за разом, семь раз. Наконец, позади осталась странная изгородь из железных кольев — без ворот, здесь сами колья и расступались по слову проводника, открывая проход — и впереди стало видно далёкий свет.
— Я тоже устал уже, — шепнул Костиану Куцый. — Вольно же им строить, даже у Хозяина проход короче!
— Ну, проход вашего Хозяина я не исследовал, но уж полагаю, покороче будет, — мрачно пошутил Костиан в ответ и поймал укоризненный взгляд Нома.
Как будто солёные шутки — это что-то дурное и здесь им не место!
А потом они наконец вышли, и он понял: не место.
От края до края горизонта расстилалась залитая закатным солнцем долина: бледно-зелёная юная трава вдали переходила в тёмную зелень хвойного леса, отчёркнутую блестящей рыжей полосой реки. А прямо впереди, на высоком холме, стоял и сиял алым, золотым и розовым чудесный город, какие бывают только в сказках и на витражах эльфийских дворцов.
И от самой высокой башне, от шпиля, словно звезда отражался луч солнца.
— Ондолинде, — с гордостью сказал проводник.
Бен-Адар.
Ему нравилось новое имя, такое красивое в своей простоте. Другие пусть зовут себя красивыми титулами, а он будет просто тем, у кого нет отца — потому что ни отца, ни хозяина ему больше не надо.
Ему нравилась темнота вокруг. Она звучала. Стены — а у темноты были стены — переливались оттенками цветов и эхом от музыки, которую он вызвал к жизни. Под ногами постепенно скапливалась серая пыль — нет, не серая. Mith. Цвет эльфийского плаща, цвет пыли под ногами, цвет чешуек на шее у Рауко. Цвет шерсти мамы-волчицы.
Если подумать, в языке эльфов вообще было много удивительных цветов, которые Волчо... Бен-Адар никогда раньше не видел — или видел, но не осознавал. Например, золото-но-не золото laure. Или ezel — цвет залитого солнцем луга. Или...
Он заметил, что стоит подумать о новом слове — как стены менялись, в них прорастали новые цвета, сливаясь в тонкую радужную плёнку. «Как масло на воде, только красиво», — подумал он.
И вглядываясь в переливы цвета, понял ещё другое: что здесь ничего не было, кроме эха его собственной песни.
Это было некстати. Его песня не была безупречна. В ней хватало уродливых мотивов и неверных нот — куда без них, если всю жизнь он пел с отцовского голоса?
— Я не боюсь своих ошибок, — громко сказал он в темноту. — Я просто не хочу оставаться с ними навсегда.
И немедленно понял, как глупо это звучит. Как будто только здесь ошибки будут всегда рядом, а в жизни как-то иначе и они просто исчезают со временем, а не преследуют последствиями.
Чувствовать себя дураком было неприятно, и он решительно ускорил шаг, надеясь, что где-нибудь по дороге найдётся что-нибудь, что отвлечёт от неприятных мыслей.
Иди на огонь, если хочешь куда-то прийти
Это не было его мыслью, не было чьими-то словами. Просто знание, которое пришло вдруг, непрошенным, и от которого было никуда не деться. «Иди на огонь», — как в старой песне, и совсем как в ней, никакого огня было не видно.
Но в таких местах, как здесь, ничего не даётся просто так. Если на огонь надо идти — значит, где-то он есть. Просто Бен-Адар что-то делает не так. Не так смотрит, не так идёт, не так ищет. В сказках Шарки герои разгадывали загадки; чем он хуже?
Он споткнулся, споткнулся снова и полетел куда-то вперёд и вниз, выставив все четыре лапы вперёд, чтобы не расшибиться. Сам не заметил, как из человека стал волком — такая незадача, позорище просто! Облик надо держать, раз уж принял — так говорил отец. Хотя он же теперь Бен-Адар, значит, отцовские слова ему не важны? Сложно!
— Какой ты кроха! — рассмеялись где-то далеко вверху.
Он поднялся на ноги — теперь на ноги — всё по уму, две, не четыре. Вокруг была белая — oyo — равнина, с пятью белыми пиками по краям, с четырьмя глубокими расселинами между пиков, изрезанная оврагами и вздыбившаяся холмами. Над белыми пиками сияли золотые вершины, и золотыми были полосы у их основания — словно кольца.
Кольца!
В ужасе — или в восторге, он сам не был уверен — Бен-Адар поднял голову и увидел лицо того, на чьей ладони он лежал. Он никогда его таким не видел — и всё же узнал мгновенно: и эти многоцветные глаза, и серую дымку покрывала, и волосы-солнечные лучи, и улыбку...
— Рауко!
— Давно меня так не звали, — ответили сверху и снова раздался смех, похожий на грохот лавины. — А ты ничуть не вырос, Волчонок!
— Я теперь Бен-Адар! — крикнул он немного сердито. — И я взрослый! У меня много детей!
— Вот как... а что ты здесь делаешь?
— Я спел песню, устал и голос велел мне спать. Наверное, я сплю? — предположил он.
— Это едва ли, — ответил Рауко. — Здесь никто не спит. Здесь ждут и бодрствуют.
— А чего здесь ждут?
— Сложно сказать, малыш! У каждого своё ожидание. Мне вот недостаёт сил вернуться — и недостаёт решимости идти дальше.
— А почему?
— Потому что если идти дальше, то идти до конца, малыш, и уходить навсегда. А отец каждый день плачет и зовёт меня, — слеза скатилась по его щеке и Бен-Адар еле успел увернуться и не вымокнуть весь целиком. И всё равно брызгами его окатило — словно телега рядом по глубокой луже проехалась.
— Тогда возьми мои, — просто сказал он.
— Но...
— Никаких «но», Рауко! У тебя есть тот, кому не всё равно — он плачет, ты сам сказал. И ты плачешь. А если я уйду навсегда — что плохого в этом будет? Никто не огорчится.
— Зря ты так думаешь, малыш, — Рауко покачал головой.
— Зря или нет, но я хочу отдать тебе свои силы — и отдам, потому что теперь я делаю только то, что хочу. У меня больше нет хозяина! — гордо вскинул голову Бен-Адар.
Рауко хотел протестовать — это было видно по его лицу, по нахмуренным бровям. Но видно, понял, как бесполезно сейчас спорить. А может, услышал отцовские слёзы и, как говорил Шарки, усовестился?..
Но ладони под ногами не стало, и сил тоже не стало, и куда-то ввысь унёсся с радостным кличем ястреб — а Бен-Адар опять полетел вниз, вниз, вниз...
...и снова упал в подставленные ладони.
— Я долго тебя искала, Волчонок, — сказала незнакомая девушка.
Эльф. Только у них бывают такие волосы — laure, то самое laure о котором он недавно думал.
— Кто ты? — спросил он растерянно.
— Искра, — ответила она.
Или это было имя? Itarille. Но нет, все эльфийские имена, какие он знал, были куда более... громкими. Чего-нибудь там вождь, сияющее что-нибудь, на худой конец — какие-нибудь необычные волосы. С другой стороны, Инголдо звали просто Инголдо...
— Я Бен-Адар, а не волчонок, — сказал он. — Зачем ты меня искала, Искра?
— Чтобы проводить, конечно. Идём!
И она стряхнула его с ладони на дорогу — не серую, а золотистую, ведущую к резным воротам из слоновой кости.
Инголдо потянулся и откинул голову на край бассейна. Настоящая ванна — с горячей водой, в которой можно посидеть и расслабиться, над которой поднимается белый пар, от которой пахнет чистотой и уютом... счастье особого рода: то, которое заставляет очень ярко прочувствовать всю усталость, накопившуюся в теле. Как ноют плечи, как закаменело основание шеи, как тяжело спине оставаться прямой.
Коварное такое счастье. Аракано вон когда-то пришлось запретить ходить мыться в одиночку — он как садился в воду, так и засыпал. Слишком уж загонял себя в играх доброго Тулкаса, у Артанис была та же беда. Хорошо, всякий раз кто-нибудь успевал вовремя зайти и не дать потонуть...
«Потому, — где-то в памяти хмыкнул Балан, — что кому суждено погибнуть от меча, тому вода не страшна».
Мысли, мысли, стоит отпустить их на свободу, как они находят что-нибудь печальное и кружат над ним, как вороны над трупом! А на воде, как три лодочки, качались три декоративных фонарика.
И ведь казалось бы — что печального в гибели Аракано?
Боль? Но боль мимолётна, если сильна, и не сильна, если продолжительна. Разлука? Но разве разлука с ним чем-то больше разлуки с оставшимися на Том Берегу? Нет, по логике вещей, смерть эльфа не должна причинять другим эльфам боли.
Но причиняет.
Вопреки знанию о дальнейшей судьбе умершего, вопреки знанию о неизбежной новой встрече. Вопреки тому, что Аракано повезло куда больше, чем многим выжившим. Так ли плохо отправиться в тишину вечного чертога на пике юности, славы и победы, и не узнать огня Браголлах и позора отступления?
Инголдо зачерпнул воды из бассейна и с силой вытер ладонями лицо, стирая эти неправильные мысли. Этак можно было докатиться до логики героев человеческих легенд, которые принимали яд, чтобы не увидеть поражения и скончаться прежде, чем корона скатится с их головы.
Но вопрос, проклятый вопрос, оставался без ответа.
Почему смерть эльфа ранит других эльфов?..
Дело было, конечно, не только в Аракано. Здесь, в Гондолине, жила дочь одного из десяти его покойников — Лаурайвэ. Её мать гостила у родни в Барад-Эйтель, когда случилась Браголлах. Теперь она лишилась отца.
И вот казалось бы, в чём для неё разница? Когда Лаурайвэ отправил её сюда, подальше от опасности, они оба знали, что расстаются очень надолго. Что она едва ли получит дозволение покинуть тайный город, а он совершенно не собирается его посещать.
Но Вильварин не плакала, расставаясь с отцом в тот раз — и плакала, узнав о его смерти.
Некрасиво плакала, по-людски, утирая слёзы и нос толстыми светлыми косами.
Дети этой земли не видели Квартала Покойников в Тирионе, где селились погибшие в Долгом Походе. Они не встречали телери с золотой серьгой в ухе в знак первого попадания к Мандосу, не слышали их хвастливых речей о героической смерти в неравном бою с капризным Оссэ. Для них смерть была смертью — как для людей: близкие уходили навсегда, неведомо куда и против своей воли.
И людское слово wered быстро нашло дорогу в синдарин, превратившись в страшное по своей противоестественности слово «сирота»: эльф без родителей.
Балан говорил — Инголдо тоже, по его мнению, сирота. «На Том Берегу у тебя родители, или на Том Свете — это ведь не так важно, когда ты без них на всю жизнь».
Вильварин плакала — нет, ревела — а вокруг звенели фонтаны памяти Эленвэ, и горел вдали вечный огонь на кургане дяди Ноло, и на могиле Арэдель разворачивали первые листочки её любимые яблони. Город, который шёпотом называли «белым трауром Турукано», словно создан был для обдумывания этого странного парадокса — скорби эльфов по умершим эльфам...
— Миннэ. Прекрати думать немедленно!
Инголдо обернулся, улыбнулся дорогому другу. Тот на улыбку не купился — наоборот, сделал суровое лицо и укоризненно наставил на него палец:
— Я же вижу, что ты опять думаешь! Сколько раз тебе говорили, что это вредное занятие?
— Много, — кротко согласился Инголдо.
Турукано широким шагом подошёл к бассейну, плюхнулся в воду, расселся поудобнее. Места немедленно стало очень мало, пришлось поджать ноги и подвинуться.
— Ты что, под себя одного эту ванную строил?
— А ты как думаешь, Миннэ? Это королевская ванная в моём дворце. С кем я её буду делить?
— С друзьями?
— Друзья и потесниться могут, на то и друзья.
Разговор, который повторялся всякий раз в каждый приезд Инголдо в Гондолин. Почти традиция.
Вода поднялась под самый нос, и один из фонариков подплыл совсем близко. Красивый, с мягким золотистым светом внутри вместо холодного голубого пламени. Уютный.
— Знаешь, Нэлле... я так устал, — тихо сказал он.
— Жить? — просто спросил друг.
Он всегда понимал без лишних слов, даже вообще без слов. Хороший друг, Нэлле. Самый лучший.
Теперь — единственный.
— Ничего, — Нэлле потянулся, хлопнул его по плечу.
По воде пошла волна и злосчастный фонарик всё-таки опрокинулся. Но не перестал светить, даже перевернувшись.
— Ничего, — согласился Инголдо.
Если Нэлле — здесь, в городе своего траура, среди могил и смертей, может улыбаться и жить, то ничего не должно мешать Инголдо держаться и дальше. Ещё бы понять, что именно мешает именно сейчас!
— Когда не стало Ириссэ(1), — задумчиво сказал Нэлле, — я словно... нет, не проснулся, я и до того не спал... просто ушло то, что отделяло меня от мира. Помнишь, ты говорил — прозрачная стена из резинового сока? Её не стало.
Инголдо кивнул, понимая, что друг хочет донести что-то важное.
— Я понял, что терять — придётся. Что потери неизбежны, как от них ни прячься. Надо не закрываться от всего, боясь привязаться ненароком — наоборот, надо любить то, что ещё живо. Пока оно живо. Защищать то, что можно защитить. Потому что мы бессильны перед судьбой, она отнимет всё, что хочет отнять, понимаешь?..
— В этом есть что-то от мужества отчаяния, Нэлле, — осторожно заметил Инголдо.
Совсем, совсем не то, что ему было нужно. Ему и своего хватало.
— Может быть. Но это помогает жить дальше. А я вижу, ты пытаешься строить собственную стену, вот и спешу сказать, что от неё не будет никакого толку. Лучше расскажи, брат — кого ты потерял?
1) Аредэль






|
miledinecromantбета
|
|
|
Ladosавтор
|
|
|
miledinecromant, вообще не должно бы, но я довольно спокойно могу его представить в роли тян, у меня даже был такой персонаж лол.
|
|
|
miledinecromantбета
|
|
|
Lados
miledinecromant, вообще не должно бы, но я довольно спокойно могу его представить в роли тян, у меня даже был такой персонаж лол. С этого места подробнее! Несите историю про героическую тян в студию! )) |
|
|
Ladosавтор
|
|
|
miledinecromant, просто у меня любимая тема - что валар меняются в соответствии с тем, как их представляют люди и эльфы. И если у каких-то людей по части ветра не бог, а богиня - то и Манвэ предстанет тян.
Некрасивая такая тётка, с теми же характерными чертами внешности - с клювоватым носом, скуластая, тощая. |
|
|
miledinecromantбета
|
|
|
Lados
miledinecromant, просто у меня любимая тема - что валар меняются в соответствии с тем, как их представляют люди и эльфы. И если у каких-то людей по части ветра не бог, а богиня - то и Манвэ предстанет тян. Добавьте рыжая и у вас выйдет Пепа Мадригал )))Некрасивая такая тётка, с теми же характерными чертами внешности - с клювоватым носом, скуластая, тощая. А вообще я жду когда Тургон закончит с обнимашками и внимательно изучит кого Финрод подобрал ))) |
|
|
Ladosавтор
|
|
|
miledinecromant, сначала будет глава Костиана и глава про посмертные приключения Волчонка. А потом да, Тургон будет охреневать. Но это друг Миннэ, он знает, что делает.
Добавьте рыжая и у вас выйдет Пепа Мадригал ))) Вообще если Пепу сделать чуть-чуть посветлее, вот будет 10/10 попадание в образ.Видать, благословил её Король Ветров... благо, у него насчёт эмоций те же проблемы. Моя печальная проблема в том, что я Манвэ и Варду плохо воспринимаю как пару в смысле муж/жена, скорее как брата и сестру. Но надо писать их как пару, кек. А я готов Манвэ хоть замуж, хоть женить, лишь бы не на Варде. 1 |
|
|
miledinecromantбета
|
|
|
Lados
miledinecromant, сначала будет глава Костиана и глава про посмертные приключения Волчонка. А потом да, Тургон будет охреневать. Но это друг Миннэ, он знает, что делает. А что именно вам мешает увидеть их вместе и увидеть их динамику как супружеской пары?... В смысле даже если они как брат с сестрой... ну кому это кхм мешало ))))Вообще если Пепу сделать чуть-чуть посветлее, вот будет 10/10 попадание в образ. Видать, благословил её Король Ветров... благо, у него насчёт эмоций те же проблемы. Моя печальная проблема в том, что я Манвэ и Варду плохо воспринимаю как пару в смысле муж/жена, скорее как брата и сестру. Но надо писать их как пару, кек. А я готов Манвэ хоть замуж, хоть женить, лишь бы не на Варде. |
|
|
Ladosавтор
|
|
|
А что именно вам мешает увидеть их вместе и увидеть их динамику как супружеской пары?.. На самом деле то, что Варды в каноне как личности не видно, а мой фанон про неё с опорой на канонные факты плохо матчится с тем, как я вижу Манвэ.Слишком она вечнобелая и ледяная. |
|
|
miledinecromantбета
|
|
|
Lados
На самом деле то, что Варды в каноне как личности не видно, а мой фанон про неё с опорой на канонные факты плохо матчится с тем, как я вижу Манвэ. А расскажите о своём фаноне подробнее может мы под этой вечнобелостью что-то да откопаем?Слишком она вечнобелая и ледяная. |
|
|
Ladosавтор
|
|
|
miledinecromant, да зачем?
Мне проще просто минимально касаться этой темы и фанонить для себя пейринг Манвэ/Ниэнна. |
|
|
miledinecromantбета
|
|
|
Lados
miledinecromant, да зачем? Скандалы! Интриги! Расследования!Мне проще просто минимально касаться этой темы и фанонить для себя пейринг Манвэ/Ниэнна. И они тоже кого-то родили? |
|
|
Ladosавтор
|
|
|
miledinecromant, не исключено.
А может и нет. У меня с Манвэ была даже история, где он в облике эльфийки вышел замуж, хех Я МНОГО его играл 1 |
|
|
miledinecromantбета
|
|
|
Lados
miledinecromant, не исключено. Кто был счастливый жених, боюсь спросить?А может и нет. У меня с Манвэ была даже история, где он в облике эльфийки вышел замуж, хех Я МНОГО его играл |
|
|
Ladosавтор
|
|
|
miledinecromant
Кто был счастливый жених, боюсь спросить? Эльф с выразительным именем Шизарэль, советник одного мелкого королька, НМП одного из соигроков. Как бы его описать... в общем, ближе всего, наверное, Отто Хайтауэр.Но в душе оно было тёплое и уютное, поэтому пейринг сложился. |
|
|
miledinecromantбета
|
|
|
Lados
miledinecromant Что означало его "говорящее" имя? )))Эльф с выразительным именем Шизарэль, советник одного мелкого королька, НМП одного из соигроков. Как бы его описать... в общем, ближе всего, наверное, Отто Хайтауэр. Но в душе оно было тёплое и уютное, поэтому пейринг сложился. И узнал ли эльф, кто его наречённая, и чем потом дело кончилось? Это много, узнать что женился на Манве Сулимо... |
|
|
Ladosавтор
|
|
|
miledinecromant, офигительное чувство йумара у игрока.
Но персонаж был хорош. Правда, узнав, на ком женился, психанул, устроил скандал и бросил моего бедного Манвэ тупеть в одиночестве, отказавшись выходить из Мандоса, пока не дадут развод. |
|
|
miledinecromantбета
|
|
|
Lados
miledinecromant, офигительное чувство йумара у игрока. А как эта ситуация сочетается со статутом Финве?Но персонаж был хорош. Правда, узнав, на ком женился, психанул, устроил скандал и бросил моего бедного Манвэ тупеть в одиночестве, отказавшись выходить из Мандоса, пока не дадут развод. Всмысле Варду же из песни сотрворения не выкинешь? А тут... Там же говорится про двух мужей и двух жен а тут так всё запутано... |
|
|
Ladosавтор
|
|
|
miledinecromant, как я уже говорил, я не воспринимаю её женой - поэтому играл их отношения именно в рамках "брат и сестра совместно правят". Никакого супружества.
Поэтому Манвэ был, увы, свободен. |
|
|
Я запуталса в именах
Кого они встретили? |
|
|
Ladosавтор
|
|
|
Emsa, Келебримбора)
|
|
|
↓ Содержание ↓
↑ Свернуть ↑
|