





|
↓ Содержание ↓
↑ Свернуть ↑
|
Это было одним из самых ярких детских воспоминаний, которые Люциусу удалось сохранить. Весна. Это было весной шестьдесят первого. Ему уже исполнилось семь, и он ощущал себя достаточно взрослым, для того чтобы пытаться колдовать отцовской палочкой и доставать с верхних полок старинные инкунабулы. Тяжеленные, в потёртых кожаных переплётах, окованных позеленевшей от времени бронзой, с вычурными замками в виде грозных звериных голов — они так и норовили цапнуть любого, кто неосторожно покусится на пыльные тайны, дремлющие меж ветхих страниц. Не сразу, но всё-таки Люциусу хватило ума подсунуть бронзовым стражам вместо своих многострадальных пальцев лакричные палочки, чем он безмерно годился, жадно рассматривая гравюры.
Помнится, в самом начале мая они выбрались с матушкой на традиционный пикник к Розье, а отец… отец, как всегда, ещё с утра отправился по каким-то важным делам в Министерство.
Было жарко и солнечно — настолько, что взрослые предпочитали вести свои скучные разговоры в тени зачарованного шатра, наслаждаясь напитками и прохладой. О, Мерлин, тогда это казалось ему ужасно, невероятно нелепым, вот так просидеть на одном месте весь день!
Им же, детям, жара не мешала вовсе: они с восторгом носились, вытаптывая полевые цветы, и валялись в сочной зелёной траве, не замечая пятен на своих чистеньких мантиях. Как же легко было тогда выдумывать на ходу игры. Ещё недавно они охотились в предгорьях Кембрийских гор на валлийских зелёных, а в следующий момент уже высаживались на песчаные берега бухты Певенси(1).
Сёстры Блэк в нормандском завоевании не участвовали. Помнится, Беллу чуть раньше не взяли сражаться с гоблинами, и она, гордо заявив, что уже слишком взрослая для этих глупостей, дулась на них, мальчишек, весь день.
У девчонок же были свои девчоночьи игры — Андромеда и Беллатрикс, смеясь над чем-то ведомым только им, плели венок из белых и розовых маргариток, чтобы торжественно провозгласить свою шестилетнюю, очаровательную на взгляд многочисленных тётушек и кузин, сестру светлой королевой весны и полевых цветов.
Сам Люциус в ратном деле тоже не преуспел, и был оставлен отважными завоевателями «на берегу», ожидать, когда они вернутся с победой. Обидно было ужасно, и, покинув свой одинокий пост, он захотел поучаствовать в коронации в единственной приемлемой для себя, наследника благородного дома и гордого укротителя заколдованных книг, роли. Он даже готов был великодушно смириться с тем фактом, что приторная тихоня Нарцисса, похожая в своём кружевном платьице на кусок лимонной меренги, станет его женой. За что был жестоко осмеян: Беллатрикс, оглядев его сверху донизу презрительным гордым взглядом, заявила, что эта церемония только для девочек. Конечно, если он хочет побыть девчонкой, то из него вполне выйдет фрейлина, а корону достоин носить лишь Блэк.
Они с Андромедой залились хохотом, и это было настолько обидно, что Люциус, позорно не разревелся только благодаря вбитым в него гувернёром урокам светских манер. С гордо поднятой головой и стараясь не шмыгать носом, он обиженно удалился к шатру, решив, что раз так, то вообще сегодня больше не будет ни с кем играть, а с вреднющими сёстрами Блэк и подавно.
— Больно надо! — ворчал он себе под нос. — Да и вообще, эти девчонки слишком много о себе думают — а сами даже нормальную игру придумать не могут! Тоже мне, цветочная королева… — Люциус почувствовал на глазах злые слёзы и совсем неаристократично плюхнулся на траву. Он не помнил, сколько так просидел, может быть, полчаса, а может быть всего четверть часа — он уже прекратил злиться, но всё ещё не мог придумать, чем бы себя занять.
— Скажи-ка, сын, почему ты сидишь здесь один, и, по всей видимости, скучаешь?
Услышать голос отца было настолько невероятно и удивительно, что Люциус поднял голову от перепачканных травяным соком коленок и неверяще посмотрел на высокую, залитую солнцем фигуру.
— Папа! — он радостно вскочил на ноги, но в последний момент сдержался, чтобы не броситься к нему обниматься и не спрятаться от всего мира в полах отцовской мантии. — Ты же говорил, что сегодня ужасно занят до самого вечера!
— Для всего отмерен свой час, — отец подошёл ближе, шутливо покачав старинными вычурными часами на платиновой цепочке. Сколько Люциус себя помнил, они были при нём всегда, и отец в задумчивости любил водить пальцем по выгравированному на крышке змею, впившемуся в свой хвост. — И хотя дела, безусловно, важны, и требуют моего времени, но для своего сына я всегда его отыщу даже если оно однажды возьмёт и кончится, — отец спрятал часы в карман и положил руку на плечо Люциусу. — И всё же, почему ты один? — повторил он, привлекая его к себе.
— Да ну их, — Люциус обиженно дёрнул плечом, вскидывая подбородок. — Гринграсс дурак, а здесь остались одни девчонки! С ними ужасно скучно!
— С девочками вовсе не скучно, — рассмеялся тогда отец. — Я бы даже сказал, строго наоборот…
Смех у отца был приятный, глубокий и крайне располагающий. Когда он смеялся от всей души, ему это удивительно шло, и, конечно же, он превосходно умел этим пользоваться. Люциус же ничего смешного не видел, и для него это было вопросом принципа:
— Да с ними же не побегать толком, и сражаться они не умеют совсем! — совершенно искренне возмутился он.
— Вот уж сражаться с ними не стоит точно, — покачал головой Абраксас.
— Потому что они всё равно слабее! — Люциус до сих пор вспоминал с улыбкой, как в своей детской наивности довольно своеобразно истолковал слова отца. — Это же неинтересно! А ещё они хнычут, когда проигрывают!
— Девочки отнюдь не слабее, — попытался было возразить Абраксас, но Люциус замотал головой с такой силой, что его белоснежные волосы, собранные матушкой в хвост, окончательно растрепались:
— Слабее! — упёрся он, невольно покосившись на Беллатрикс, от которой на прошлое Рождество досталось обжоре Крэббу, и Люциус бы скорее провалился сквозь землю, чем признался отцу в том, что всё же немного её побаивается. — И вообще, они скучные, всегда сами хотят командовать и за всех решать! — не смог удержаться он от того, чтобы пожаловаться. — Но когда я вырасту, — упрямо добавил он, — я всё буду решать сам!
— Совсем всё? — уточнил отец.
— Совсем! — Люциус тряхнул головой в абсолютной уверенности. — Во что играть, кого куда приглашать, с кем дружить …
— …кого любить и на ком жениться, — в тон ему закончил Абраксас.
— Вот ещё! — Люциус возмущённо скривился — Не хочу я жениться! Ни на ком!
— Совсем? — отец рассмеялся снова.
— Да! — Люциус, кажется, тогда даже ногой топнул, потому что ужаснее ничего в тот момент не мог даже вообразить.
— Почему же? — удивился отец, кажется, искренне наслаждаясь непосредственностью беседы.
— Потому что я люблю маму, а она уже замужем, — озвучил Люциус совершенно очевидную для него вещь, — а больше тут просто не на ком!
Отец рассмеялся вновь.
— Так уж и не на ком? — шутливо уточнил он. — А вот я вижу, что одна прелестная юная леди просто не может отвести от тебя глаз, — отец указал на Нарциссу, увенчанную короной из луговых цветов. Её длинные светлые волосы, ещё час назад аккуратно заплетённые в две косы, были сейчас распущены, рассыпаясь пушистым серебряным водопадом до самой талии. Она солнечно улыбнулась отцу в ответ, и эту улыбку не портили даже выпавшие молочные зубы.
Впрочем, тогда Люциус вряд ли мог оценить всю невинную трогательную красоту этой картины — сначала ему понадобилось самому стать отцом и мужем.
— Она же маленькая! — искренне возмутился тогда семилетний он. — И глупая! Она даже не знает, сколько в квиддичной команде охотников!
— Узнает ещё, — с улыбкой вздохнул отец, прикрывшись рукой от бившего в глаза солнца. — Скажи-ка, сын, разве в девочках именно это главное? Впрочем, настаивать я не буду… а кто из них тебе хотя бы немного нравится?
— Да никто мне не нравится! — твёрдо заявил Люциус — а потом спросил: — Папа, а ты надолго? Может быть, ты поиграешь с нами немного в квиддич? Нам наверняка дадут мётлы, если попросишь ты.
Отец поколебался мгновение — а затем кивнул:
— Хорошо. Да — беги, собирай команду. Думаю, что пара часов на то, чтобы утереть Лестрейнджам, Розье и Гринграссам нос, у меня найдётся.
И они действительно провели два часа, кружа смеющейся шумной гурьбой над поляной, перекидывая друг другу квоффл. Два часа, наполненные ничем не омрачённым весельем. Они смеялись и визжали до хрипоты, зная, что даже если кто-то из них сорвётся с метлы, родители всегда сделают так, что приземление на траву окажется невесомо-мягким.
Сейчас же подхватить его было некому, и падение, затянувшееся на долгих пятнадцать лет, могло завершиться в любой момент неотвратимым сокрушительным ударом о землю. Люциус Малфой устало потёр переносицу и вновь посмотрел на затянутый молочно-белым туманом сад. Он бы многое отдал, чтобы кто-то нашёл за него ответ, как выйти из этого гибельного финта живым. Что делать, когда судьба занесла над его семьёй остриё своего меча? И существует ли вообще та сила, что способна превозмочь роковое предначертание, если это не удалось тому, кто сумел познать и победить смерть?
1) Утром 28 сентября 1066 г. в бухте у города Певенси во главе с Вильгельмом I Завоевателем высадилась нормандская армия.
Уголь еле слышно поскрипывал по бумаге. Перемазанные им пальцы то летали, покрывая тонкой сетью штрихов светло-кремовую поверхность, то практически замирали, обозначая на шершавом листе акценты жирными линиями. Некоторые из них Рабастан, пытаясь ухватить настроение, растушёвывал пальцем. Он то и дело отрывал взгляд от лежащего на коленях альбома и замирал, разглядывая свою модель — дремлющего перед камином Ойгена Мальсибера.
Тот, по мнению Рабастана, обладал удивительнейшей способностью принимать расслабленную, уютную позу, засыпая даже в самых неудобных местах. Сейчас он устроился поперёк кресла, перекинув ноги через подлокотник, и прислонив к спинке голову — мирная поза наконец согревшегося, и этим счастливого человека.
Пляшущий в камине огонь придавал его лицу вполне здоровый цвет, скрадывая горькую складку у губ и делая почти незаметными преждевременные морщины на молодом и неестественно бледном лице. Рабастан научился не придавать значения этой общей для многих обитающих в доме бледности и уже подбирал в голове верный базовый тон — решение написать полноценный портрет Мальсибера было, можно сказать, уже принято, и отказа от Ойгена он не ждал. В конечном итоге это тоже был способ скоротать время не хуже других.
Закрепив последний рисунок чарами, Рабастан перевернул лист, краем глаза заметив, как в соседнем с Мальсибером кресле погруженный в чтение Эйвери, дойдя какого-то особенно интересного места, намотал на палец длинную прядь своих вьющихся светлых волос и рассеяно начал её покусывать. Образ вышел удивительно трогательным и удачным; Рабастан постарался его поймать и запечатлеть это движение в быстром, двухминутном наброске, так же как и едва заметную полуулыбку, и пару морщинок между сосредоточенно нахмуренными бровями. Рисовать Эйвери, как и Мальсибера, было удобно: первый спал, второй был увлечён книгой, и оба практически не шевелились.
Через некоторое время эта мирная удобная статичность Рабастану наскучила, и он переключился на группу за шахматным столиком, состоящую из его брата и Торфинна Роули. Картина выходила аллегорической и в то же время гротескной — две армии на доске пронзали друг друга копьями и разрубали мечами абсолютно бесшумно, укрытые коконом чар. И оба волшебника, чьей воле были подчинены фигуры, напоминали в тот момент Рабастану античных богов.
Высокий широкоплечий Роули являл собою войну — его пронзительными голубыми глазами смотрело не одно поколение предков, почти тысячу лет назад покинувших родной фьорд и обрушивших свои мечи на Оркнеи(1). Пожалуй, проще было представить, как он с рычанием крушит топором хрупкую мебель, однако Рабастан не обманывался — в шахматы тот играл превосходно, и сейчас явно обдумывал, как выйти из сложного положения, иногда принимаясь раздражающе постукивать по ковру носом ботинка. Однако обеспокоенное и задумчивое выражение его лица Рабастан подметил задолго до того, как началась партия — и каждый в этой комнате точно знал, что заставило причалить его драккар к берегам Малфой-мэнора с утра пораньше. Вернее кто. Если шторм нельзя переждать в порту, то лучше уж отчаянно править прямиком в глаз бури.
На Родольфуса же смотреть было тревожно и грустно. На фоне викинга-Роули тот казался болезненным воплощением подземного мира: он был бледнее и измождённей обычного, под глазами залегла синева, губы почти обескровили, а линию подбородка покрывала утренняя щетина, которую брат, обретя такую возможность, вырвавшись из тюрьмы, неумолимо сбривал. Впрочем, взгляд Родольфуса остался привычно острым, как и внимание, если судить положению фигур на доске.
Чуть поодаль, на обитом светлым шёлком французском диванчике расположились хозяева дома. Они склонились друг к другу в потоке серебристого света, струящегося через вычурный переплёт высокого, в пол, окна и, казалось, сами были сотканы из отливавшей золотом лунной пыли. Этот невероятный по выразительности эффект создавали солнечные лучи, пробивающиеся сквозь молочное облако рассеянных в воздухе мельчайших капель тумана, и Рабастан пожалел, что у него нет сейчас под рукой акварели.
На первый взгляд казалось, что они оба увлечены свежим номером французской «Нуве́ль Ора́кль», однако иллюзия полной гармонии рассы́палась на сверкающие крупицы слюды, стоило за ними понаблюдать внимательнее. Люциус вцепился в края газеты, словно та пыталась вырваться из его рук, и ушёл с головой в чтение — его губы шевелились, проговаривая прочитанное, и вся поза выдавала тщательно скрываемую тревогу. На губах же Нарциссы блуждала нежная и расслабленная полуулыбка. Мадам Малфой устроила голову на плече у мужа, а руку в тонком жемчужном кружеве — на спинке дивана, ласково перебирая ухоженными изящными пальцами длинные пряди волос своего супруга.
Это несоответствие настроений, разрушавшее композицию, вызывало смутное раздражение, поэтому, сделав несколько быстрых набросков, Рабастан оставил чету Малфоев в покое и развернулся к последнему и самому неожиданному из присутствующих.
Гектора Трэверса нечасто можно было встретить в компании, но даже находясь посреди шумной толпы, он обычно из неё выпадал, словно кусок мозаики из потрескавшейся стены. Он мало с кем общался достаточно близко, предпочитая наблюдать со стороны своим расфокусированным застывшим взглядом — многих это нервировало. Однако чаще он просто не замечал никого вокруг и, честно признаться, окружающих это радовало значительно больше, чем его внезапное и достаточно специфическое внимание. Хотя тет-а-тет он мог быть весьма занимательным собеседником, к тому же недурно разбирался в волшебной живописи.
Рабастан не смог бы, не покривя душой, заявить, что Трэверс ему однозначно нравился, скорее интриговал и вызывал любопытство, как проклятый фолиант из дальней части библиотеки, в который очень хочется заглянуть, хотя ходить туда тебе категорически запретили родители. И уж конечно, странно было бы допустить, что Азкабан сделал Гектора Трэверса общительней и приятней.
Однако сегодня Трэверс почему-то явно предпочитал находиться в обществе — впрочем, в остальном он вёл себя более чем привычно: сидел на ступеньке ведущей на второй этаж лестницы, погружённый в тень, и имел вид человека, у которого выдалась весьма непростая ночь. Он уже давно смотрел в книгу, открытую где-то посередине, так ни разу и не перелистнув ни единой страницы.
Его апатичная неподвижность была Рабастану на руку — он просто не мог не запечатлеть этот момент: быстрыми и угловатыми линиями он выводил на листе человеческую фигуру, сходную очертаниями с крупной когтистой птицей. У Трэверса был интересный типаж, и Рабастан часто рисовал его в характерных позах, поэтому, наверное, и заметил, насколько тот выпадает из привычного образа.
Выводя тонкой штриховкой тень на его лице, Рабастан пытался сформулировать для себя это различие, а потом вдруг неожиданно понял: Трэверс этим утром казался непривычно собранным и нормальным, почти таким же, как и все присутствующие в библиотеке. Более того, впервые он покинул свои комнаты до полудня.
Рабастан не успел до конца осмыслить своё наблюдение, когда ощущение камерности и тепла, наполнявшие библиотеку всё утро, вдребезги разлетелось осколками старого потускневшего зеркала. В воздухе словно повеяло тленом и холодом, и в распахнувшихся с шумом дверях возник Тёмный Лорд.
Шедший позади него Долохов вместо приветствия быстро обвёл всех собравшихся мрачным тяжёлым взглядом и безмолвным изваянием замер за левым плечом разгневанного повелителя.
Повисла ошеломлённая тишина — а затем все, словно по команде, вскочили на ноги, и Рабастан болезненно вздрогнул от показавшегося ему оглушающе громким шороха упавшей на пол газеты. Он побледнел, заметив, как внезапно переменился в лице его брат, впрочем, тоже застывший с низко опущенной головой, склонившись в приветствии.
Мутное отвращение разливалось внутри Рабастана ядовитой желчью, стоило ему вновь задуматься о Беллатрикс, но он тут же постарался прогнать эти мысли из головы. Мерлина ради, только бы не сейчас!
Змеиные черты Лорда застыли подобно маске, и это было намного страшнее привычной безумной ярости. Он медленно обвёл взглядом окаменевших при его появлении верных слуг:
— Господа, — вкрадчиво начал Лорд, и его высокий холодный голос отразился от деревянных панелей, становясь ещё более жутким. — Ваш повелитель хотел бы знать, какое… — он на мгновенье задумался, подбирая верный эпитет, — бесполезное и лишённое страха ничтожество посмело этой ночью переступить мой порог? — присутствующие изумлённо и испуганно переглянулись, а Лорд раздражённо скрестил на груди свои бледные руки: — Кому здесь хватило наглости побывать в моих комнатах и рыться в моих вещах, в то время как я, отринув отдых и сон, прикладываю все возможные силы к торжеству чистокровных идей в нашем прогнившем обществе?
По комнате словно пронёсся беззвучный вздох, и всё, будто бы по команде отвели глаза от Родольфуса, на которого, впрочем, и прежде старались по возможности не смотреть. Тот же, как и прежде, уставившись себе под ноги, продолжал напряжённо вглядываться в дорогой дубовый паркет, словно не замечая, как Лорд прожигает каждого из собравшихся пристальным взглядом. Рабастан замер, почти не дыша и молясь, сам не зная кому, чтобы брат смог сдержаться — потому что только мёртвые и глухие минувшей ночью не слышали, что творилось за дверями комнаты Беллатрикс и не ощущали её необузданных вспышек магии. И мало кто пожелал бы наткнуться в этот момент в коридорах ночного мэнора на её изгнанного из спальни мужа, который вынужден был искать приют в винном погребе, подальше от этих звуков и, насколько можно было судить по его лицу, крепко пил до утра.
— Я бы очень хотел посмотреть в глаза этому отчаянному храбрецу, — продолжал тем временем Лорд, медленно постукивая неестественно длинными пальцами с серыми, плоскими и заострённым, как у химер, ногтями по скрытому чёрной тканью локтю. — Конечно же, я всё понимаю, — в его тоне послышалось отчётливое презрение: — Но если кто-то из вас ощутил безудержное желание облобызать край моей мантии, ему стоило пасть на колени и попросить, а не копаться в бельевых ящиках, словно крыса. Преданных слуг я всегда награждаю соразмерно их верности, — в этот миг Родольфус побелел и сжал зубы с такой силой, что усердно не смотревшему на него Рабастану почудился глухой скрежет. Глаза Лорда вспыхнули алым, и злость в его голосе наотмашь хлестнула Рабастана по коже: — Я, кажется, задал вопрос. Молчите? — Лорд вгляделся в опущенные бледные лица, и в его голосе появилось отчётливое шипение: — Когда я найду виновника, могу пообещать, что этот день он запомнит надолго. Люциус! — практически рыкнул он. Малфой испуганно дёрнулся, но Лорд, не давая тому вставить ни слова, резко продолжил: — Это твой дом — что у тебя здесь творится?! Антонин, разберись с вором! — приказал он, развернувшись к окаменевшему за его плечом Долохову. — А не то я могу решить, что ты потерял хватку. И не сметь меня до вечера беспокоить!
Рабастан моргнул несколько раз, сбрасывая напряжение — а когда снова открыл глаза, свет и краски будто бы возвратились в комнату.

1) Оркнейские острова были полностью завоёваны викингами под предводительством Харальда I Прекрасноволосого. В 875 году под его твёрдой рукой было образовано графство Оркни, включающее также Шетландские острова, Гебридские острова, Фарерские острова и север основной части Шотландии — Кейтнесс и Сазерленд. Оркнейский архипелаг принадлежал Норвегии вплоть до 1468 года.
Особо стоит отметить небольшой остров Бирсей. Он расположен северо-западнее Мейнленда, с которым он был непосредственно связан в часы отлива, и туда даже сейчас можно дойти пешком, чем многие пользуются. С острова Бирсей открывается хороший обзор морских просторов, поэтому остров долгое время являлся надежной защитой от врагов. Бирсей был резиденцией ярла Торфинна в 1065 году, и его ближайших наследников позже. В «Orkneyinga Saga» особо подчеркивается, что Торфинн покончил с викингскими набегами, и упоминается также о том, что он предпринял паломничество в Рим и основал первый епископат на Оркнейском архипелаге.
— Ох ты ж, — выдохнул Долохов, когда дверь за спиной Тёмного Лорда беззвучно захлопнулась. Он пересёк библиотеку и без сил опустился в кресло аккурат между столом и антикварным глобусом, недра которого скрашивали холодные вечера не одному поколенью Малфоев. Отгоняя сонливость, он устало провёл руками по небритому невыспавшемуся лицу и окинул присутствующих тяжёлым взглядом:
— Ну что? У кого есть идеи, кто здесь настолько… — Долохову явно потребовалось усилие, чтобы в присутствии дамы избежать вертевшихся на языке крепких слов, — лишился остатков разума, чтоб устроить нам всем подобное развлечение? Мантия? Вот серьёзно?!
Рабастан напряжённо поморщился, встревоженно наблюдая за братом, тихо опустившимся на свой стул, и так сильно сжал уголь в руке, что тот треснул с коротким и сухим звуком. Рабастан отложил рисовальные принадлежности и тщательно вытер чистым платком перепачканные угольной пылью пальцы.
Долохов подавил внезапный зевок и сменил неприятную тему:
— До обеда ещё минимум час, а у меня внутри пусто, словно в чреве дементора, — ворчливо признался он, вытянув ноги. — Мордред знает, что за дьявольщина вокруг творится — ночка выдалась ещё та… приснится, так во сне от ужаса и околеешь.
— Ночь и правда, как вы, Антонин, выразились, выдалась ещё та, — неожиданно согласился с ним Трэверс, небрежно спускаясь по лестнице, и Рабастан заметил, каким внимательным взглядом одарил того Долохов. Похоже, и от него не укрылось, насколько Трэверс был сегодня непохож на самого себя, однако тот, привычно проигнорировав чужие взгляды, продолжил: — Я немало странного повидал в жизни, и могу вам сказать что бывает «странное», а бывает и «Странное», — он остановился на последней ступеньке и облокотившись рукой о перила замер. — Так вот, это было «Странное» как раз с большой буквы.
— Боюсь даже вообразить, — насмешливо откликнулся Роули, за которым сейчас был ход, — чем же может быть это «Странное с большой буквы» в твоей, Гектор, трактовке.
— То есть те загадочные и непостижимые вещи, — включился в разговор потягивающийся Мальсибер, — которые ты обычно разглядываешь, когда смотришь сквозь нас, тянут лишь на «странности с маленькой»?
Библиотеку наполнил смех — не столько весёлый, сколько исполненный облегчения, и напряжение, звеневшее в воздухе, стремительно начало спадать.
— Так, а что всё же случилось-то? — уточнил Мальсибер, устраиваясь поудобней в кресле. — Ну же, Трэверс, рассказывай, не томи! — попросил он. — До вечера это всё равно единственное развлечение, а там уже будет совсем не смешно и даже не весело, — Мальсибер сделал большие глаза и демонстративно подёргал воротник мантии. Скользнув по нему равнодушным взглядом, Трэверс небрежно прислонившись плечом к стене, запустил пальцы в свою белоснежную гриву:
— Вы знаете, Люциус, у вас всё-таки жуткий дом, — задумчиво начал он. — Моя семья много веков имела дела с разными, и отнюдь не самым светлыми сторонами волшебного мира… Вы, кажется, должны ещё помнить моего покойного деда, Сарпедона Трэверса, — желчно усмехнулся он. — Вот уж человек оставил после себя… репутацию — и это я сейчас говорю не о его буднях как разрушителя проклятий и отчаянного коллекционера тех милых вещичек, которые привели бы в ужас Визенгамот. Так вот, — Трэверс задумчиво хмыкнул, скрестив руки уже на груди, — этой ночью я видел самого пугающего полтергейста из всех, о ком мне доводилось читать даже в семейных хрониках, — он замолчал, и Рабастан краем глаза заметил, как нервно вздрогнул от этих слов Люциус.
Эйвери, отложив свой свиток, взволнованно переспросил:
— Полтергейст? Здесь?
— О да, — Трэверс улыбнулся загадочно и зловеще. — Оно пришло, холодное, словно январский лёд, — он говорил звучно, слегка нараспев, будто читая балладу, — сотканное из лунного серебра; со стальными змеями, извивающимися под просоленной бледной кожей. Окутанное тяжёлым запахом разложения и увядающих роз. Оно коснулось меня — и я не просто оцепенел, лишённый возможности протянуть руку к палочке… я словно онемел и оглох, и крик застрял у меня где-то в горле… — по его лицу пробежала мрачная тень, и Рабастан мог бы поклясться, что Трэверс вздрогнул. — Время будто остановилось, — продолжил тот, нервно оттирая что-то незримое со своей ладони. — Оно… кто знает, чем именно оно было — но оно словно пыталось забраться ко мне под кожу, и питалось моим теплом. Если бы, — он склонил голову набок, — я не поседел за тринадцать лет наедине со стражами Азкабана, то клянусь, что это произошло бы сегодня, — Трэверс замолчал, снова взлохматив когда-то в прошлом русую шевелюру, медленно пропуская пряди седых волос сквозь длинные пальцы, сжатые, подобно хищным когтям. А ведь они с Руди ровесники, задумался Рабастан, бросая взгляд на тёмные волосы брата, у которого седина проглядывала одинокими серебристыми нитями и едва обозначилась на висках. — Милостью Морганы и Мордреда, — всё так же размеренно продолжал Трэверс, — я пережил эту ночь и проснулся в холодном поту уже только когда рассвело. Разбитый и вымотанный, словно всю ночь уходил от аврорской погони, а ноги мои были выпачканы в земле, хотя я и не помню, чтобы покидал дом. Знаешь, Люциус, — сказал он, неожиданно твёрдо глядя Малфою в глаза, — тебе стоит всерьёз задуматься о проведении экзорцизма. Всё могло закончиться куда печальней, если бы твой полтергейст навестил кого-нибудь вместо меня. Не все в этом доме привыкли к визитам дементоров, — мрачно закончил он и Рабастан как наяву ощутил на себе холодные прикосновения покрытых струпьями рук, о которых не забывал ни на минуту.
— Полтергейст? — с недоверием пробормотал Роули, сложив под столом пальцы в охранительный знак от дурного глаза, видимо, и его рассказ пробрал до костей. — Только этого нам ещё и не хватало…
Рабастан тоже почувствовал себя неуютно, словно кто-то неведомый только что прошёл по его могиле(1).
— Ах, Гектор, мало ли что вам могло ночью привидеться, — со сдержанным скепсисом возразила Нарцисса и успокаивающе улыбнулась гостям.
— Странно, что все мы не видим что-нибудь жуткое по ночам, — поддержал её Мальсибер.
— Тем более, в последнее время, — тихо присоединился к ним Эйвери. — Ведь все же на нервах…
— Меня во сне преследует Грозный Глаз, — мрачно признался Долохов, — Так и вижу, как за спиной полыхает зелёным, словно в восьмидесятых при Крауче. Да и Азкабан через раз снится, — передёрнул он худыми плечами, прогоняя неприятную мысль. — И вот что я вам скажу, все мы тут по краю гуляем, но уж лучше режущее по горлу в бою, чем снова там заживо разлагаться.
— Мне сегодня тоже не слишком спалось, — неожиданно прозвучал хриплый голос Родольфуса — и все снова поспешили отвести взгляд, но его, похоже, это ничуть не смутило. — Полночи бродил по дому — и когда шёл мимо твоей, Гектор, комнаты, действительно почувствовал что-то, — он задумался, подбирая слово, — зловещее и тревожащее. Но меня смутила прежде всего тишина, — продолжил он. — В доме было необычайно, неестественно тихо. И вообще, — он прикрыл чёрного короля ладьёй, — эта ночь выдалась и в самом деле донельзя странной.
— И я… — Рабастан включился в беседу неожиданно для себя, но что-то внутри подсказывало, что это важно, — никак до рассвета заснуть не мог. Пытался рисовать, только вот, — он развёл руками, — уголь постоянно ломался — никогда прежде такого не было. Да и на бумаге выходило нечто в крайней степени непонятное и, честно говоря, довольно жуткое.
Ту часть, где все свои ночные рисунки он отчаянно исчеркал, поддавшись какому-то иррациональному импульсу ни за что не увидеть, как гротескные корчащиеся фигуры, выведенные его рукой, начнут оживать, Рабастан опустил, так же как и не стал распространяться о том, с каким трудом удержал себя от навязчивого желания добавить в переплетение изломанных тёмных линий немного цвета. Но, увидев сангину(2) в своих руках, он не смог выкинуть из головы образ засохшей крови, и багряные сполохи так и не выплеснулись на лист.
— А у меня за окном всю ночь зловеще скрипели ветки, — поёжился Мальсибер, и его голос отогнал от Рабастана тяжёлые образы — и, кажется, где-то в парке скорбно завывала банши, словно на ирландских болотах.
— А мне показалась, что эта скорбная духом банши вопила всё-таки в доме, — ухмылка, исказившая лицо Трэверса, была почти непристойной и злой. — И крики эти доносились во все уголки мэнора через любую дверь. Да и интонации эти ни с чем не спутаешь, но в кои-то веки предвещали они вовсе чью-то смерть и даже не пытки, хотя тут уже с какой стороны посмотреть…
Повисла напряжённая неловкая пауза, в которой мягкий и укоризненный голос Нарциссы прозвучал практически диссонансом:
— Полно вам, Гектор. Нам всем не спалось, что вовсе не удивительно. Господа, вы так долго сидите здесь, в четырёх стенах, что немного потерялись во времени. А стоило бы взглянуть на календарь — сказала она, ласково забрав газету из рук супруга и продемонстрировав передовицу им всем: «Сегодня, первого мая тысяча девятьсот девяносто шестого года, вступают в силу ранее принятые ограничения на вывоз растительного сырья…», — перевёл про себя Рабастан, вспоминая уроки французского и продолжил скользить по заголовкам взглядом — «Квиберонские квоффельеры… Фестиваль костров в Сен-Бриё…» — мозаика в его голове начала складываться, Нарцисса же мягко продолжила: — Минувшая ночь была ведьмовской или, если угодно, — Вальпургиевой. Образованным и достойным волшебникам стыдно не помнить таких вещей, — Рабастану показалось, что по лицу Долохова словно бы пробежала тень каких-то воспоминаний, однако тот промолчал, а Нарцисса мечтательно посмотрела в окно: — К тому же, ещё и новолуние. Кто-нибудь помнит школьный курс астрономии? Эта ночь необычайна вдвойне, — она тихо склонила голову на плечо мужу — и Рабастан заметил, как её губы сложились в нежную неуместно мечтательную улыбку, а в глазах блеснуло странное лукавое выражение, словно ей тоже было о чём промолчать.
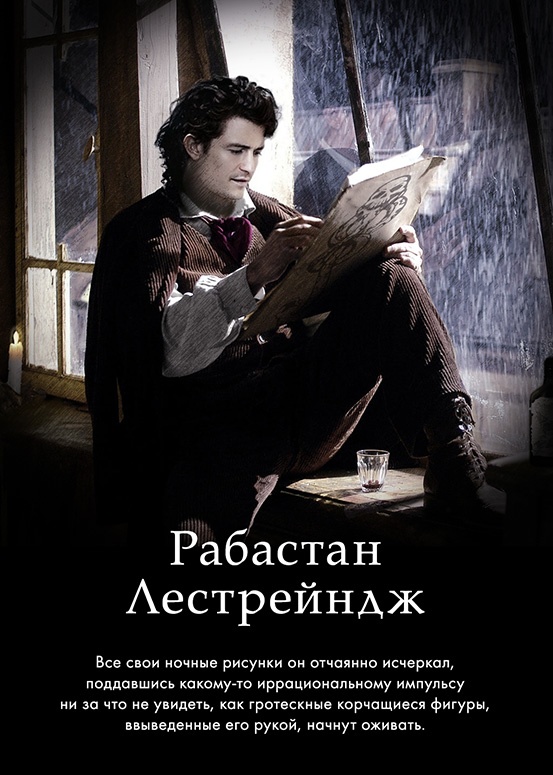
1) Английская идиома «Someone is walking over my grave» — «Кто-то прошёл по моей могиле» означает что говорящий (будучи вполне живым) внезапно почувствовал дрожь. Произошла от более ранней народной легенды, согласно которой внезапное ощущение холода вызвано тем, что кто-то прошёл по месту, где когда-нибудь будет находиться ваша могила. Это поверье бытовало в народном сознании в Англии в средние века, когда граница между жизнью и смертью была куда менее чёткой, нежели сейчас. Что и отразилось в недвусмысленном поверье в обыденную связь между загробной жизнью на небесах или в аду и физическим миром живых.
В наше время, когда кто-либо умирает, мы обычно собираемся на поминки, на которых говорим о покойном. Средневековые плакальщики во время своих бдений говорили с покойным, веря, что их слова будут услышаны и поняты. Также предполагалось, что место последнего успокоения предопределено, и кто-то «прошедший по моей могиле», о котором говорится в поверье — реально существующая личность, которая действительно прошла по земле, в которой суждено упокоиться говорящему.
Самое раннее употребление этой фразы в печатном издании зафиксировано у Саймона Уэгстаффа (один из многочисленных псевдонимов Джонатана Свифта) в «Полном Собрании Изящных и Остроумных Бесед» 1738 года.
2) Сангина (фр. sanguine от лат. sanguis «кровь») — материал для рисования, особенно популярный в эпоху Возрождения. Изготовляется преимущественно в виде палочек из каолина и жжёной окиси железа. Наиболее известные работы сангиной — анатомические рисунки Леонардо Да Винчи.
Если бы кто-нибудь потрудился её спросить, то Нарцисса Малфой вряд ли смогла бы вслух описать, как жила последние месяцы. Какими словами она могла бы выразить своё беспомощное отчаянье, когда её дом — тот самый дом, которым она грезила с самого детства — словно в ночном кошмаре, медленно и мучительно превращался для неё в персональное воплощение преисподней. Комфортабельной преисподней, восхитительной и страшной тюрьмы с незримыми глазу решётками. Тюрьмы, из которой она не способна вырваться и при этом не истечь кровью, ведь цепями, что удерживали её здесь были близкие.
В тот день, когда Тёмный Лорд милостиво избрал их дом своей временной резиденцией, пусть внешне не изменилось практически ничего, стало невозможно отбросить тот факт, что из полноправной хозяйки она стала пленницей. Нарцисса со всем достоинством приняла правила этой игры и своё новое положение, обречённо радуясь лишь тому, что её сын в этот момент был вдали от дома, под защитой древних стен Хогвартса.
Ах, если он мог бы там оставаться на лето! Даже разлука не казалась Нарциссе слишком высокой ценой за безопасность сына. Но увы, эта жалкая беспомощная фантазия бессильна была воплотиться в реальность, достойную готического романа. И единственный способ, которым она могла защитить своё дитя — продолжать идеально исполнять в этом безумии свою роль.
Она сдержанно улыбалась зачастившим в их дом гостям, удерживая на лице маску светской учтивости, опускалась, склонив голову, в реверансах, не позволяя даже в мелочах выглядеть этому архаизму наигранным или же неуместным в высочайшем присутствии. И даже поздними вечерами в спальне, нежно прикасаясь к напряжённым плечам супруга, она запрещала лишний раз прозвучать вслух тревогам, изводившим её день за днём. Видит Мерлин, лучшее, что она могла сделать для мужа — оставаться тем единственным островком спокойствия, где он мог бы хоть на время укрыться от захлестнувшего их уютный домашний мирок шторма.
С самого момента своего возвращения Лорд словно испытывал Люциуса на прочность, раз за разом поручая ему по большей части грязные и опасные вещи, но в то же время требующие осторожности и ума.
Разумом Нарцисса, конечно же, понимала, что её муж, вероятно, был единственным из приближённых Лорда, кто имел достаточно связей, сил и возможностей для того, чтобы выбор раз за разом падал именно на него. Но сердце, сердце шептало иное: мотивы Лорда были куда безумнее и сложней. Нарцисса не питала иллюзий, насколько гибкую форму могла порой принимать мораль её мужа, но только она знала его достаточно хорошо, чтобы замечать за осторожностью тщательно скрытую неуверенность, а за фамильным малфоевским хладнокровием, по большей части, браваду. О да, Лорд успешно играл на страхах, желаниях и амбициях Люциуса, всё сильней и сильней размывая границы приемлемого и заставляя его делать то, на что прежде он вряд ли бы сам решился.
Нарциссе только и оставалось, похолодев, наблюдать, как Лорд проверяет пределы верности своего провинившегося слуги. Но как ей было заставить себя не видеть, как это неумолимо подтачивает Люциуса изнутри? Не чувствовать его болезненного надлома? Как деревья в лесу, сросшиеся корнями за много лет, они всегда остро ощущали друг друга, и сейчас ей приходилось на многое закрывать глаза, чтобы Люциус мог позволить себе сохранить хотя бы осколки гордости.
Она старалась не замечать, как он срывается на домовых эльфов из-за каких-то бессмысленных мелочей, как порой после ночи тяжело давшихся раздумий за запертыми дверьми фамильного кабинета позволяет себе выйти небритым к завтраку. Но уже к вечеру, окружённый заботой отчитывающегося лично ей пожилого Гридди, приводит себя в порядок и с побелевшим от беспокойства лицом ожидает очередных приказов своего… нет, их повелителя.
Но тяжелее всего было видеть, как Люциус часами сидит, замерев в кресле, и глядит в одну точку, кажется, практически не моргая. Как вздуваются от напряжения вены у него на висках, и как он устало роняет голову, не находя в себе сил прийти какому-нибудь решению. В такие моменты всё, что оставалось Нарциссе — просто быть рядом, осторожно принимая на себя хотя бы часть ноши, которая грозила его вот-вот раздавить.
Пророчество, пылившееся в недрах Отдела Тайн, словно дамоклов меч висело над её мужем с лета. Раз за разом Люциус предпринимал отчаянные попытки его добыть, и каждый раз все усилия оборачивались для него крахом. Последствия же этих попыток расходились, словно круги по воде, и чем дальше, тем опаснее становилась эта ситуация в целом: и без того небезграничное терпение Лорда готово было показать дно, хотя порой Нарцисса ловила себя на мысли, что промахи её мужа доставляют ему какое-то особое извращённое удовольствие, о причинах которого ей не хотелось даже задумываться.
Напряжение достигло своего апогея накануне Сочельника. День выдался суматошным, и Нарциссу закрутил целый хоровод дел. Отдав эльфам на кухне последние распоряжения, она уже собиралась подняться к себе, но прежде следовало отыскать мужа.
Она сразу поняла, что случилось что-то из ряда вон, лишь по тому, насколько сильно он сгорбился. Нарцисса могла поклясться, что в тот момент, когда он поднял на неё взгляд, в его покрасневших усталых глазах застыло такое отчаянье, что она практически задохнулась. Пронзившая Нарциссу ледяною иглой тревога за сына заставила её броситься к нему и опуститься перед ним на колени, только бы он не отводил глаз.
— Люци, пожалуйста, не молчи! Что-то случилось с Драко?
Она смогла вновь дышать, только когда Люциус покачал головой, а затем сполз к ней со своего кресла. Он искал в её объятьях защиты и утешения, словно ребёнок, и она укрыла его от всего мира у себя на груди. Они сидели на полу у затухающего камина и молчали, пока им вновь не сделалось тепло.
Позже он нервно стискивал её руки, и срывающимся шёпотом рассказывал об очередной неудаче с Отделом Тайн, о едва не истёкшем кровью Артуре Уизли и последних вестях из госпиталя Святого Мунго. Нарцисса даже сперва не уловила, радуется ли он тому, что произошло, или напуган до дрожи. Лишь когда в его полной смятения сбивчивой речи прозвучало имя того невыразимца, Нарцисса поняла, почему её муж непрестанно твердит, что погиб, если тот несчастный окончательно придёт в себя и даст против него показания.
— Неважно, кто придёт за моей головой первым, — лихорадочно шептал он, сминая в руках складки её домашней мантии, — Лорд не простит мне ещё одного фиаско. Я подвёл его… Мерлин, я подвёл вас… — они, не сговариваясь, посмотрели куда-то вверх, где сейчас на втором этаже спал их сын.
Под напором этого горячечного потока слов Нарцисса застыла в каком-то бессмысленном стылом оцепенении. Наверное, у неё просто уже не было сил отчаиваться, и она словно по инерции подумала сначала о том, что нужно будет пересмотреть список адресатов для рождественских поздравлений и отклонить приглашение на ужин у Паркинсонов. Угли в камине давно прогорели, и Нарциссе показалось, что в комнате стало холодно, словно зима с улицы ворвалась в дом — а может быть зима ворвалась в её сердце? Мерлин, Моргана и Основатели, всего лишь один человек парой слов мог уничтожить её семью. Она сама удивилась тому, насколько легко ей удалось в этот момент сделать выбор. Нарцисса нежно погладила мужа по колючей щеке, и Люциус вопросительно приподнял брови.
Ей потребовалось всего несколько минут тишины, чтобы элегантное и смертельное решение оформилось в её голове. Имела ли она право вообще выбирать между жизнью незнакомого беспомощного человека и выживанием своей семьи? «Нет…», — ответила бы ещё полгода назад какая-то часть её разума… «Не знаю… Не хочу выбирать…», — бессильно шептала бы она ей. «Да», — безжалостно отозвалась в ней кровь Блэков тем вечером.
Стоило лишь усилием воли задушить в себе оставшиеся сомнения, как изящная головоломка из рождественской суеты и списка благотворительных мероприятий сложилась сама собой. Оставалось лишь подключить свои познания в садоводстве.
Когда Нарцисса отдала аккуратно пересаженный отросток дьявольских силков своему мужу, то не испытала ничего, кроме облегчения и усталости. Даже руки у неё не дрожали, пока за завтраком в них не оказался свежий выпуск «Пророка». Но и тогда она смогла удержать лицо, не выдав захлестнувшее её горькое — не сожаление, нет — смирение перед меньшим злом.
Она знала, что их счастливая и безмятежная жизнь подошла к концу, ещё когда на предплечье её мужа ожила метка. Нарцисса гнала от себя прочь воспоминания о тех днях, когда носила под сердцем Драко. «Это только политика, дорогая» — уверял её Люциус, откладывая подальше точно такой же пахнущий типографской краской утренний номер, чтобы свежие некрологи не попали ей на глаза до завтрака. Мерлин, как же её тошнило тогда от этого едва ощутимого запаха; хуже, пожалуй, был только тяжёлый приторный аромат лилий на похоронах Эвана. Её едва не вывернуло в утопающую в цветах могилу кузена, когда до неё дошла очередь швырнуть туда горсть земли, но тогда Нарцисса уже не могла списать эту оскорбительную неловкость на изводивший её токсикоз, так как Драко терзал своим плачем всех обитателей мэнора уже полгода. И если бы, как все дети, он кричал, когда хотел есть — но нет, он кричал потому что не хочет! Насколько же проще было его защитить тогда — достаточно было взять хныкающего, сонного сына на руки и скрыться в камине. Пусть она часто спорила, когда Люциус выпроваживал её к матушке и отцу, но тогда, тогда у неё был выбор… ну или так ей по крайней мере казалось.
«Всё познаётся в сравнении», — писал тот француз, и Нарцисса, которая пролистывала на старших курсах его труды скорее от светской скуки, теперь могла лишь покачать головой, признавая всю глубину этой вполне очевидной мудрости.
Воспоминания о тревожных и мрачных днях её прошлого тускнели и выцветали на фоне кромешной тьмы, которую принёс с собой Тёмный Лорд, вернувшись оттуда, откуда возвращаться не принято. Эти месяцы, прошедшие с его возвращения, казались Нарциссе самым тёмными за всю прожитую ей жизнь. В каком-то смысле, это, пожалуй, и было истиной, ибо даже ту милосердную тьму, в которую они все погрузились, Лорд, словно в подарок на прошедшее Рождество, осветил пламенем преисподней.
Ад вырвался на свободу из стен тюрьмы, и первыми мрачными вестниками, подобно стае стервятников, налетели авроры. Нет, они не обшаривали, словно в дешёвой бульварной прозе, каждый уголок мэнора, выворачивая шкафы и топчась по похрустывающим под их ногами осколкам сервиза. Они были сосредоточены, насторожены и мрачны, но притом невообразимо корректны. Если бы ситуация была иной, то Нарцисса, возможно, даже смогла бы посочувствовать тому политическому давлению, которое на них оказывала администрация Фаджа. Но они пришли с обыском в её дом именно тогда, когда Люциус был настоятельно приглашён в Министерство. Поэтому вместо сочувствия она могла предложить только чай, как требовала того вежливость.
— Увы, о судьбе сестры, её мужа и деверя мне известно лишь то, что было освещено в прессе, — прохладно отвечала она задумчиво потиравшему квадратную челюсть Робардсу, расположившемуся в малой гостиной, пока его люди осматривали дом с таким напряжённым вниманием, словно пробирались через заросли ядовитой тентакулы.
Нет, конечно, авроры вряд ли надеялись отыскать укрывающихся беглецов, иначе их должно было быть куда больше, но, похоже, не теряли надежды набрести хоть на какую-нибудь стоящую подсказку. Увы, даже старых платьев Беллатрикс они не смогли бы сейчас найти: Нарцисса упаковала её вещи — всё, от белья до шпилек — несколько дней назад, и не имела ни малейшего представления, где они воссоединились с хозяйкой.
Она невозмутимо пила свой чай, бесконечно отвечая на одни и те же вопросы, и чувствовала, как от них начинает болеть голова. Пожалуй, если бы в тот момент Тёмный Лорд решил, что настало подходящее время заявить о себе и отрыто начать войну, Нарцисса была бы ему признательна. Пытка закончилась, когда за последним аврором с лязгом захлопнулась кованая створка ворот, и Нарцисса смогла облегчённо выдохнуть. Она поднялась к себе прилечь, даже не думая в тот момент, что это была всего лишь прелюдия.

Если розы не обрезать, они зачахнут и выродятся. Если перестать постригать кустарники, сад заглохнет. Если игнорировать сорняки, то они задушат даже алихоцию(1). А если хозяйка не может справиться со своим домом, то он рано или поздно непременно превратится в вертеп. Трудно было спорить с Вальбургой Блэк, когда она кипела желанием излить свою житейскую мудрость на близких. Впрочем, и во всех остальных случаях спорить или же просто отстаивать своё мнение в её присутствии было решительно невозможно, так как зачастую тётушка слышала лишь себя. Нарцисса никогда и не спорила, но всегда выражала вежливый интерес и обычно дослушивала её гневные филиппики до конца. Теперь же она ловила себя на мысли, что в её внутреннем монологе всё чаще звучат не только знакомые интонации, но и эпитеты, на которые тётя Вальбурга была щедра даже в те дни, когда одиноко умирала в пустом лондонском особняке по несуществующему теперь адресу.
Авроры навещали её дом ещё дважды, и Нарцисса каждый раз скупо делилась с ними всей той бесконечно утомившей её неопределённостью, в которой она сама пребывала. Но в то же время она не могла не выдохнуть с облегченьем, будучи на какое-то время предоставлена сама себе; настроения, царившие по всей Волшебной Британии, не располагали к светским визитам, да и Тёмный Лорд до середины января не баловал Малфой-мэнор своим присутствием, пропадая где-то ещё. Там, где ему действительно были рады.
Когда же он, наконец, изволил разделить эту радость с её семьёй, Нарцисса испытала малодушный порыв последовать примеру дядюшки Ориона: наглухо запереть дом и не просто отгородиться от всего мира, а исчезнуть вместе со всем родовым гнездом. Но она всё же смогла преодолеть это краткое мгновенье невольной слабости, возникшее в тот момент, когда порог перешагнул первый из тех гостей, которым обычно не принято отправлять приглашений. Однако закрыть перед ними дверь было для неё просто немыслимо, и не только потому, что ни Люциус, ни она сама не посмели бы возразить Лорду — нет, были вещи, на которые она не могла пойти. В отличие от покойной Вальбурги Блэк, Нарцисса никогда не смогла бы отрезать от себя часть семьи и жить с этим, утопая в чувстве вины и горечи.
Когда она увидела Беллатрикс впервые за много лет после того чудовищного суда, Нарцисса заледенела от ужаса: это измождённое, выцветшее создание с гривой спутанных и не слишком чистых волос, с выпиравшими острыми скулами на обтянутом суховатой кожей лице, с глазами, в которых неугасимо горело мрачное фанатическое безумие, просто не могло быть её дорогой сестрой.
Родольфуса Нарцисса тоже узнавала с трудом. Как мало сохранилось от того крепкого, немногословного и надёжного, каким она его помнила, человека, в этом загнанно озирающимся незнакомце! Он словно ни на шаг не желал отойти от жены, которая, казалось бы, не замечала вокруг себя никого, кроме своего повелителя, но в то же время рвался удержать рядом брата; впрочем, тот и не пытался никуда уйти. Рабастан был пугающе тихим: его капризные губы застыли в каком-то смазанном выражении между страданием и улыбкой, и сам он казался каким-то неподвижным, ненастоящим, словно маггловский рекламный плакат, выгоревший на солнце. Один из тех, что приводили Нарциссу в недоумение каждый раз, когда ей приходилось бывать в Сити.
Мальсибер, Ойген Мальсибер, который отпечатался в её памяти смешливым обаятельным юношей, замер, неуверенно прислонившись плечом к стене. Мертвенно-бледный, кутающийся в явно чужую мантию, с которой текла вода, он напоминал скорее инфери, нежели кого-то из мира живых; вот только мертвецы не могут, задыхаясь, хрипеть, пытаясь удержать мучительный приступ кашля.
За его ссутулившейся спиной маячили остальные: подозрительные, затравленные, измученные, но в то же время готовые убивать, и все как один несущие на себе неизгладимый отпечаток липкого азкабанского сумасшествия. Нарцисса внутренне содрогнулась, но нашла в себе мужество поприветствовать своих гостей, как того требовали приличия, и не допустить фальши, которой они не заслуживали.
Очередную речь Лорда она практически пропустила, глубоко погрузившись в раздумья: да, некоторых из гостей ей было жаль до боли в стиснутых пальцах, до слёз. С кем-то она была не слишком близко знакома, а кто-то и прежде вызывал у неё безотчётный страх; но, так или иначе, Нарциссе предстояло поселить в доме семерых человек, хотя из газет она отчётливо помнила, что беглецов было больше. Однако вопросы можно было задать потом, а сейчас отдых, горячий чай и внимание требовались не только им, но и мужу, который выглядел бледнее обычного.
«Если что-то должно быть сделано, оно должно быть сделано хорошо или же безупречно, — наставляла их в детстве матушка, — иначе не стоило этим даже утруждать рук». В этом и заключались, по её мнению, честь и гордость дочерей дома Блэк, среди которых Нарцисса всегда считалась самой прилежной.
Кажется, последний раз так много гостей и по такому не слишком приятному поводу им пришлось принимать после смерти Абраксаса Малфоя. Попрощаться и проводить её свёкра в последний путь съехались родственники и друзья семьи с обеих сторон пролива, и некоторые задержались после траурной церемонии. Кому-то из старшего поколения требовалось прийти в себя и дождаться заказанного портала, кто-то вместе с Люциусом утрясал дела, но все они рано или поздно разъехались.
Тем вечером в январе Нарцисса даже предположить не могла, как долго ей предстоит принимать гостей в этот раз. Но она с достоинством продолжила играть свою роль хозяйки дома — внимательной и любезной, успевающей следить за тем, чтобы еда подавалась вовремя, простыни были чистыми и прохладными, а эльфы незаметными и готовыми услужить.
Она старалась не замечать, что творится за закрытыми дверями гостевых спален, и ворчливый тётушкин голос, звучащий в её голове, напоминал, что это касалось её в той же степени, как если бы она распоряжалась сомнительной репутации пансионом для бывших каторжников. Будь то крики во сне, обугленные обои, или Северус Снейп, выскакивающий из камина поздними вечерами с целой батареей лечебных зелий, и, конечно же, требующий от Нарциссы, чтобы регулярный приём контролировала она, так как с него хватит уже того, что он их варит в таких количествах, словно собирается открывать аптеку. Она, конечно же, выслушивала его ворчание, направленное вовсе не на неё, но на всю вызывавшую у Снейпа стойкое отвращенье вселенную, и особенно тех, кто сидит по своим особнякам, пока он должен, словно сопливый мальчишка, мотаться камином через всю Англию. Нарцисса сочувственно наклоняла голову, а затем провожала до комнат его непрошеных пациентов, которые тринадцать лет переносили в тюрьме тяготы и лишенья. Нарцисса, разумеется, не сомневалась в компетентности Северуса, но всё же думала что нужно непременно пригласить к сестре профильного целителя, так в том, что касалось женских дел, на его опыт вряд ли стоило полагаться, а сама Белла вряд ли даже снизошла до того, чтобы о подобном заговорить, хватало и проблем с её необузданной, вырывавшейся на свободу магией.
Нарцисса проходила по коридорам и старалась не вздрагивать, ощутив в воздухе сладковатый аромат дыма, или же почувствовав на себе чужой и не всегда дружелюбный взгляд. Антонин Долохов, и прежде не имевший постоянного дома, принял приказ Лорда оставаться в Малфой-мэноре как нечто само собой разумеющееся. Этот давно уже немолодой, болезненно тощий, но резкий и внимательный человек пугал Нарциссу и раньше, а теперь он неслышно ходил по дому, оставляя за собой отчётливый алкогольный шлейф, но в то же время казался патологически настороженным и чересчур собранным. Он первым пришёл в себя и стал покидать дом по приказу Лорда. Нарцисса не хотела ничего знать о том, где именно и чем он бывает занят; с неё хватало уже и того, что она узнавала о привычках своих гостей против воли.
В противовес Долохову, Августус Руквуд своих комнат практически не покидал. Как и Антонину, идти ему было буквально некуда — небольшой квартиры в Косом, насколько знала Нарцисса, и небогатого своего имущества, основную ценность которого составляли рабочие дневники и книги, он лишился сразу после ареста. Вещи конфисковал Отдел Тайн, а в квартире, как узнавал Люциус, давно проживали другие люди.
Пожалуй, из всех гостей, он был наиболее задумчивым, каким-то озадаченно вежливым, но до дрожи нормальным, отчего казался ещё более странным, чем когда-то давно. Он старался не беспокоить её лишний раз и излагал свои пожелания письменно. Эти аккуратные, почти формальные списки, составленные в строгом алфавитном порядке, часто ставили эльфов в тупик, и, конечно же, они, взволнованно дёргая себя за уши, приходили с ними к Нарциссе. Она устало вздыхала, понимая, что если и может помочь с печатными изданиями и несколькими комплектами скромного хлопкового белья, которое, как выяснилось, предпочитают пожилые невыразимцы, то с какими-то загадочными ингредиентами или вещами, какие она не могла иногда даже вообразить, ей приходилось искать помощи Люциуса, такого же растерянного, как эльфы.
Нарцисса уже привыкла не напрягаться и практически не замечать сидящего на подоконнике в любую погоду распахнутого окна Гектора Трэверса; он, кажется, не отрываясь всегда смотрел вниз, на сад, и, в свою очередь, тоже старался не замечать Нарциссу. Не видеть взглядов, которые её сестра умоляюще бросает на своего Лорда — куда более говорящих и воспалённых, чем Нарцисса когда-либо помнила. Она принимала как должное всегда горящий свет в комнате Рабастана и постоянно, даже теперь, когда на смену морозам пришла тёплая в этом году весна, топящийся камин в комнате Мальсибера, и лоретку, согревающую его по ночам.(2) Что уж говорить о шныряющих по углам змеях и крысах, с присутствием которых Нарцисса тоже была вынуждена мириться.
Но, пожалуй, самой большой из жертв и самой тягостной из обязанностей стали для неё вечера. Прежде это было мирное время, когда за ужином собиралась её семья — они с Люциусом и Драко — в те дни, когда сын бывал дома. Они разговаривали обо всём: о том, что случилось за день или же наоборот, не случилось, они говорили о книгах и планах на будущее, о квиддиче, стабильности галлеона и многих-многих, вещах из которых складывалась их жизнь. Никто никуда не спешил, и Нарцисса наслаждалась этим уютным домашним спокойствием.
Теперь же каждый из вечеров напоминал раз за разом повторявшийся обречённо злой водевиль, в котором Тёмный Лорд неизменно выступал режиссёром, а на саму Нарциссу ложились обязанности приготовить сцену и подходящий к случаю реквизит. Состав приглашённых менялся, но разговоры о том, что Люциус наедине с горькой иронией называл не иначе как «наша борьба или беседы о текущей политической ситуации и ближайших задачах, которые нам всем предстоят», повторялись пусть не дословно, но сводились всегда к одному и тому же.
Порою Нарцисса думала, что, возможно, она просто больна и спит; ей снится постоянный и никак не заканчивающий кошмар, в котором волшебников не интересует более ничего, кроме истребления других волшебников и безуспешных попыток избавиться от одного-единственного сироты. И тогда она благодарила высшие силы, что её сын был счастливо зачат в начале осени. Случись это уже в конце, ближе к зиме — даже думать о том, как могла бы сложиться его судьба, было страшно. Родись он на излёте июля, был бы он жив до сих пор?
В тот раз Нарцисса прокусила губу до крови, а потом, незаметно залечив это предательское свидетельство слабости, как ни в чём не бывало передала мужу соль и устроила свою руку у него на колене. Она и сама в тот момент не знала, кто из них кого поддерживает сильней, и была ему благодарна уже за то, что он просто рядом.
Вероятно, и минувший вечер затерялся бы в череде других, но Нарцисса уже слишком близко подошла к тем границам, которые очертила когда-то сама для себя, и теперь они рассыпались с немелодичным стеклянным звоном.

1) Алихоция или Гиеновое дерево (англ. Alihotsy, Hyena tree) — это магическое растение, листья которого содержат в себе фермент, способный вызывать сильную истерию и неконтролируемый смех.
2) Подробнее об этом возмутительном факте можно узнать из истории "Лекарство для озябшей души"
Думается, во всём была виновата усталость. Нарцисса всегда хорошо осознавала свой долг и исполняла свои обязанности, но даже самый глубокий колодец однажды может показать дно. Она устала от страха и устала от этого постоянного напряжения; она устала от того, что в её доме было так много людей, и все они требовали к себе внимания.
Дни тянулись до наступления темноты в каком-то выматывающем рваном ритме, и Нарцисса чувствовала, что задыхается, словно её плечи пурпуром укрыла одна из тётушкиных мантий-душительниц. И мало было просто дожить до вечера — нужно было его пережить, а заодно проследить, чтобы очередной ужин в узком или, наоборот, широком кругу прошёл пристойно и правильно, даже если Беллатрикс снова начнёт вести себя вызывающе, или у Лорда случится одно из его особенных настроений, когда ему казалось, что его окружают трусы, предатели и враги. Иногда Нарцисса задавалась вопросом, так ли уж он неправ? Сколькие из тех, кто вынуждены стоять перед ним на коленях и клясться в верности, делают это столь же неискренне, как и она сама? Она уже почти ненавидела весь этот фарс, но даже ненависть требовала от неё лишних сил, поэтому Нарцисса ограничивалась тлеющей глубоко внутри досадой.
Готовиться стоило начинать днём: продумать, что уместно подать к столу и, конечно, определиться с рассадкой. Увы, гостей приглашала не она и даже не Люциус, поэтому до конца быть уверенной, кто именно нанесёт визит, было сложно, как и предполагать, кого Лорд пожелает видеть рядом с собой или, наоборот, накажет немилостью. Нарциссе оставалось лишь гадать, перебирая в голове самые очевидные варианты, смутно сожалея о том, что в школе она так беспечно пренебрегла прорицаниями. Идея того, что искомые ответы можно было бы получить, просто заварив чашку чая, начинала удивительно подкупать, но каждый раз Нарцисса возвращалась в своих мыслях к тому уже ненавистному ей пророчеству, и у неё опускались руки.
Пожалуй, в какой-то момент желание просто остановиться и выдохнуть стало настолько сильно, что вместо того, чтобы в очередной раз выбирать между пуляркой и говядиной с розмарином, Нарцисса, припомнив, что подавали в прошлую пятницу, приказала эльфам банально всё повторить, слегка изменив сервировку, а сама устроилась у камина с романом самого лёгкого содержания, в который ушла с головой.
Конечно, она даже и не задумывалась тогда, что бунт чаще всего начинается именно с мелочей; но если он уже начался, то остановить его практически невозможно. Никто в тот вечер даже не обратил внимания на её небольшую выходку, и это в каком-то смысле развязало ей руки. В конце концов, даже те, кому не довелось повидать Азкабан изнутри, обычно не обращали внимания ни на столовое серебро, ни уж тем более на салфетки, а некоторые даже на то, что пьют. Нарцисса готова была поклясться, что брат и сестра Кэрроу не заметят, даже если и так не самое лучшее из столовых вин, которое теперь непременно оказывалось рядом с ними, разбавить великаньей мочой. Или, например, соком дурмана, хотя лучше подошёл бы, наверное, олеандр, буйно цветущий в оранжерее. Последнее время Нарциссу нередко посещали фантазии, как все гости за столом — мёртвые и недвижные — лежат с побелевшими лицами на тарелках, а они с Люциусом неспешно ужинают в тишине и обсуждают погоду. Эти мысли были опасны, и Нарцисса гнала их из головы, но сладкие ягоды белладонны всё настойчивее просились в джем.
За холодной и полной разочарований зимой в Уилтшир пришла весна с её легкомысленным нежным солнцем, которое внезапно сменялось затяжными дождями и грозами, словно сама погода подстраивалась под настроение, царившее в особняке. Минувший вечер не предвещал ничего нового — гостей ожидалось немного: планировал заглянуть Теодор Нотт, и принести свежие новости из Министерства Яксли.
По уже успевшей сложившейся традиции обитатели дома начали подтягиваться заблаговременно, коротая время за аперитивами и беседой. Тёмный Лорд не особенно жаловал опоздавших, и никому не хотелось бы появиться в столовой после него. С другой стороны, сам Лорд относился к чужому времени по-монаршьи щедро и не утруждал себя лишней точностью.
Корбан Яксли вышел из пламени в половине восьмого, когда собравшиеся от тем возвышенных перешли к насущным — как будто сезонные работы в саду и в самом деле были хоть кому-нибудь интересны, кроме самой Нарциссы и, пожалуй, Родольфуса. Когда-то он мог похвастаться одним из самых роскошных яблоневых садов в Волшебной Британии; впрочем, собеседником он всегда был не слишком-то многословным, и из него удалось выжать едва ли десяток слов.
Немного позже к воротам мэнора аппарировал Теодор Нотт-старший в компании своего эльфа, за которым плыла по воздуху большая корзинка для пикника. Нарцисса уже привычно распорядилась отправить припасы на кухню, и эльф исчез. Нет, прокормить дюжину человек Малфои были, конечно же, в состоянии, но о какой скрытности тогда можно было бы говорить? Закон Гэмпа был непреложен как мироздание, и его пока не удалось обойти практически никому, зато возросшие счета от поставщиков могли послужить источником лишних слухов. Если уж во «Встречах с вампирами» Гилдерой Локхарт вычислил по ним целый клан, то странно было бы ожидать глупости и небрежности от авроров. Этими тревожными соображениями Нарцисса и поделилась с мужем; а тот, в свою очередь, сумел её опасения разрешить, с присущими всем Малфоям изяществом переложив проблему на плечи остальных членов их небольшого джентльменского клуба.
Теодор предложил ей руку, и они чинно проследовали вдоль идеально постриженных тисов к парадным дверям. Нотту Нарцисса обычно бывала рада: он относился к тому типу людей, которые создают особую атмосферу вокруг себя, где бы ни появлялись. В любом обществе он мог бы считаться душой компании, но в то же время никогда не был в центре. Он всегда мог рассказать уместный по случаю анекдот или поделиться свежими новостями, к тому же, был превосходным слушателем. С консерваторами он держался консервативно, а в более молодой компании мог позволить себе высказывать и достаточно неожиданные идеи, но при этом всегда сохранял тот безобидный налёт старомодности, чтобы его слова воспринимались не серьёзней, чем светская болтовня.
Однако, Нарцисса никогда не обманывалась на его счёт: он был незаменимым союзником в политических играх Люциуса, но противником мог стать пугающим. Для человека, который никогда не стремился открыто разделить с кем-то власть, он был превосходно осведомлён о расстановке сил и семейных делах почти всех членов Визенгамота; и там, где Люциусу приходилось пускать в ход угрозы или кошелёк с галлеонами, Нотту хватало нескольких туманных намёков и пары неофициальных бесед.
Да, он был прекрасным слушателем, но попадая под очарование дядюшки Теодора мало кто вспоминал не только о его превосходной памяти, но и о небольшом частном архиве, который не принято было упоминать вслух. Как не принято было и произносить вслух «шантаж». Шантаж — грязное и вульгарное ремесло, в то время как Теодор Нотт превращал каждые переговоры в искусство.
Но Нарцисса знала его и с совсем другой стороны: вот уже почти что шестнадцать лет вдовец Теодор Нотт растил в одиночестве сына — Теодора-младшего — уравновешенного и разумного юношу, который учился с Драко на одном курсе. Как мать, Нарцисса бы предпочла, чтобы её сын меньше крутился с Грегори и Винсентом и больше общался с ним, но полагала, что Драко сам волен определять свой круг общения и мудро не вмешивалась в дела сына — тот мог быть таким же упрямым как Люциус в свои худшие дни, но хладнокровия ему всегда не хватало. И как же она была благодарна Моргане и Мерлину, что пасхальные каникулы давно подошли к концу, и Драко снова был вдалеке от дома и его нынешних обитателей. Пожалуй, всех.
За время её отсутствия обстановка в гостиной успела перемениться и утратить остатки непринуждённости — часы показывали уже десять минут девятого, и напряжение в воздухе можно было бы черпать как пунш. Впрочем, изменения коснулись и самого общества: кажется, в гостиной не хватало нескольких уже привычных Нарциссе лиц. Руквуд сегодня отсутствовал — отбыл по какому-то поручению, о чём потрудился уведомить её ещё утром очередной запиской. Куда подевался Трэверс, Нарцисса догадывалась и была благодарна уже за то, что своим нездоровым привычкам он придавался в одиночестве и в саду, а возвращаясь в дом, не приносил с собой даже едва уловимого запаха сигарет. Однако, беспокоиться за него Нарцисса оставила его крёстному — куда сильней её волновало отсутствие Беллатрикс. Впрочем, и этот вопрос вскорости разрешился.
Лорд изволил задерживаться ещё четверть часа, но затем стремительно вошёл в сопровождении хмурого Долохова и её сестры, на лице которой читалась плохо скрытое раздражение. Такая гримаса часто кривила лицо Беллатрикс в детстве, когда родители строго отказывали ей в каком-нибудь сумасбродстве или лишали сладкого и метлы. С тех пор запретить ей что-либо мог только один человек, да и человек ли? Вместе с тем, с Лордом не было ни Петтигрю, ни этой его зловещей рептилии Нагини, от одного вида которой Нарцисса практически цепенела, но почему-то осадок страха под сердцем никуда не делся. Постаравшись ничем не выдавать своих мыслей, она дала знак подавать закуски и проследовала со всеми в столовую.
В свои лучше дни за длинным столом Малфой-мэнора легко умещалось до сорока человек, сегодня же их было всего лишь десять. Да, теперь всё были в сборе — Трэверс успел, проскользнув в дверь последним, пристроиться с краю, когда все уже заканчивали рассаживаться, и Нотт галантно придвинул Нарциссе стул(1). Он наградил сына своего покойного друга укоризненным взглядом, и тот виновато прикрыл глаза. Вечер предстоял длинный, и Нарцисса утешала себя лишь тем, что в присутствии крёстного, единственного близкого ему человека, Трэверс, как правило, не позволял себе ничего лишнего. Впрочем, в тот момент она почему-то даже не могла точно определиться, что именно следовало бы вложить в это «лишнее», учитывая собравшихся за столом.
Говорили, как всегда, о политике. Нарциссе не то чтобы не было до неё дела, скорее, она была ей слишком утомлена, и значительно больше её волновало, чтобы ужин прошёл если уж не достойно, то, по крайней мере, достаточно респектабельно.
— Фадж напуган, — докладывал Яксли, расположившийся по правую руку Лорда, там, где обычно сидела за ужином Беллатрикс. — Ему проще поверить в заговор против себя и в то, что Дамблдор метит в его кресло, чем в то, что вы, господин, снова среди живых, — Яксли задумчиво помешал консоме. — На этом мы можем сыграть, но, — он постучал ложкой о край тарелки, — со Скримджером всё обстоит куда сложнее: с одной стороны, Аврорат и Департамент Правопорядка затыкают всем неугодным рты, но с другой — роют землю как стая нюхлеров в поисках беглых каторжников и убийц, — он кивнул сидящему напротив него Долохову. Тот как раз положил в рот кусок холодной говядины, и Нарцисса рассеянно наблюдала, как методично двигаются его челюсти и с какой отчаянной подсердечной ненавистью Антонин смотрит на свой бокал. Вино он не признавал как класс, но при Лорде никогда не позволял себе ничего крепкого и за вечер его бокал пустел едва ли на треть.
— Для них это дело чести, — тем временем продолжил Яксли. — К тому же, Амелия Боунс скорей примет сторону Дамблдора, и в вопросах обеспечения безопасности будет действовать непреклонно. Она сменила Крауча на этом посту и вынесла неплохой урок как из его ошибок, так и из его побед. Однако, она куда умнее…
— Того, кто не желает склониться, всегда можно сломать, — негромко оборвал его Тёмный Лорд, и над столом, повисла тяжёлая тишина, которую неожиданно разорвал смешок.
— Ох, она, наверное, так скучает, — Беллатрикс небрежно покатала виноградину между пальцами. — По брату и этим своим милым племянникам. Разве не стоит помочь им встретиться, наконец? Семейные узы — это же так чудесно! — тонкая кожица лопнула, и виноградный сок испачкал ей пальцы. Визгливый смех Беллатрикс разнёсся по комнате, и Нарциссу практически затошнило. Каждый раз они обсуждали живых людей, словно отбраковывали скот на бойне. Пожалуй, она больше не съест сегодня и ложки этого консоме: зеленоватый оттенок показался ей столь же отталкивающим, как и привкус. (2)
— Позже, — холодно проговорил Лорд, и Беллатрикс опасно прищурилась. — Непременно, — добавил он несколько мягче. — Но позже. — Недосказанность, повисшая между ними, была ощутима всем.
— У мадам Боунс есть ещё один брат, — поспешил вклиниться Яксли. — И племянница. Возможно, если попробовать надавить через них…
— Не стоит пока, это может помешать более важным планам, — Лорд побарабанил пальцами по столу. — Что ещё слышно из её департамента?
— Полагаю, имеет смысл присмотреться к Тикнессу, — осторожно ответил Яксли, а затем пояснил: — Пий Тикнесс, заместитель Амелии. Особой инициативностью похвастаться он не может, зато исполнителен. Мадам Боунс выдрессировала его превосходно.
Лорд сделал глоток воды — он всегда пил лишь воду, и тарелка его оставалась пустой, словно он не нуждался в пище — и перевёл вопросительный взгляд на Нотта.
— Холост, живёт один — поспешно ответил тот и, отложив прибор, погладил свою аккуратную бороду. — Друзей у Тинкесса почти нет, в основным бывшие одноклассники. Даже привычки у него слишком скучные, чтобы о них говорить. Зато старательный и почти всё время на службе. Случись что с мадам Амелией, и несложно будет устроить, чтобы Департамент Правопорядка остался именно на него.
— Хорошие исполнители нам нужны, — милостиво кивнул Лорд. — Мне же не нужно тебя учить, как сделать его ещё усердней? — он снисходительно посмотрел на Яксли. Тот с трудом удержал непроницаемое выражение на своём грубом лице и почтительно склонил голову. Восемь из десяти, оценила его попытку Нарцисса, зная, насколько смятой окажется накрахмаленная салфетка, скрытая ото всех столом.
Ужин продолжился вполне заурядно, разве что Беллатрикс прикладывалась к бокалу чаще и смеялась громче обычного, а Родольфус казался ещё более отстранённым, словно усилием воли старался этот спектакль не замечать. Как и Рабастан, который был полностью поглощён тем, что сортировал по цветам овощи на своей тарелке. Сначала он символически разделил их на зелёное и оранжевое, а затем выстроил по оттенкам, и Нарцисса вдруг поймала себя на том, что тоже выбирает сперва морковку.
Её муж сидел рядом с Долоховым с нечитаемым выражением на лице и, кажется, даже не замечал, как накалывает на вилку кусочки курицы. Так же механически он потянулся к фаршированным яйцам, а затем передумал на полпути, но Нарцисса успела заметить, как подрагивали у него руки. В её сторону Люциус практически не смотрел, и на вопросы Лорда отвечал односложно. Ей даже не нужно было прислушиваться, чтобы узнать содержимое их беседы.
Часы пробили половину десятого, хотя Нарциссе показалась, что прошла уже вечность. Аппетит окончательно ей изменил, и она безучастно следила как Трэверс апатично потрошит фруктовым ножом половинку грейпфрута. Она буквально почувствовала во рту кисло-сладкий с приятной горечью вкус, когда он подцепил спелую красную мякоть на остриё и в задумчивости поднёс к губам.
— Жаль, что я не вижу среди нас Северуса, — негромко заметил Лорд, снова привлекая к себе внимание. — Что-то давно не было от него вестей по поводу Поттера. А ведь старик доверил мальчишку ему. Так он, по крайней мере, до недавнего времени утверждал.
Нарцисса заметила, как напряглись при этих словах плечи Мальсибера, который буквально впился взглядом в своё остывшее и почти нетронутое соте. И незаметно сквозь зубы выдохнул, когда Беллатрикс снова подала голос:
— Снейп предатель, мой лорд! И трус, — она резко схватила свой полный почти до краёв бокал; вино плеснуло слегка за край, и на скатерти расплылось несколько небольших пятен. Их можно было бы уничтожить одним мановением палочки, но та их словно не замечала. Пятна неожиданно пропали сами собой, и Нарцисса испытала смутное облегчение: хотя бы эльфы здесь ещё помнили о приличиях. Сестра, Мерлина ради, что же ты с собой делаешь…
— Предатель? — вкрадчиво переспросил Тёмный Лорд, пристально вделываясь Беллатрикс в глаза. — В чём же он предал меня в этот раз?
— Он должен был сам давно уже притащить мальчишку, даже если это бы стоило ему головы! — практически выкрикнула она, а затем сконфуженно отвернулась, словно этот разговор между ними повторялся уже не первый раз.
Лорд её выходку равнодушно проигнорировал, вместо этого обратившись к Нотту:
— Теодор, кажется, ты должен был навестить Гринграссов?
— Ещё утром, мой лорд, — отозвался тот удивлённо. — Как я уже говорил, они не торопятся принимать чью-либо сторону. Похоже, надеются вновь сохранить нейтралитет.
— У них есть две дочери, — Лорд словно бы погрузился в задумчивость. — Насколько я помню, они ведь учатся с твоим сыном?
Нож рядом с ней скрежетнул по фарфору куда громче, чем следовало, и Нарцисса невольно вздрогнула.
— Да, они обе на Слизерине, — спокойно подтвердил Нотт, но Нарцисса, сидящая рядом с ним, видела, как у него побелели пальцы. — Дафна на одном курсе, а Астория учится на год младше.
— Ему стоило приложить больше усилий, чтобы завоевать их доверие, — в голосе Лорда прозвучало явное неодобрение. — Может быть, мне стоит поговорить с ним об этом лично? — он многозначительно замолчал, а затем неожиданно посмотрел на Нарциссу: — Или с этим куда лучше справился бы юный Малфой? Он же так популярен на своём факультете, — улыбку, исказившую губы Лорда, можно было бы посчитать почти любезной.
— Вы ему льстите, — едва слышно выдохнула Нарцисса в ответ, — это не тот вид внимания, который обычно нравится юным леди. В этом возрасте они предпочитают мальчиков, которые ведут себя куда взрослей, — она вежливо улыбнулась, и стыдно ей почти не было. Она, конечно же, уважала Нотта, но каждый из них защищал своего ребёнка как мог. — Сожалею, мой лорд. У Драко с самого первого курса с Дафной сложные отношения. И я слышала, что сёстры Гринграсс весьма дружны.
— Что ж, кого наградить этим ответственным поручением, я подумаю на досуге, — пообещал Лорд. — Возможно, случится невероятное и нас удивит младший Гойл.
За столом грянул смех, и Нарцисса распорядилась накрывать стол к десерту.

1) По правилам этикета супругам обычно не принято сидеть вдвоём, и это правило, наряду с правилом не сажать рядом коллег или людей одинаковой профессии, а также врача и больного, помогает создать более непринужденную атмосферу за столом. Также стоит заметить, что на официальном приёме гости рассаживаются в соответствии с их социальным статусом или дипломатическим рангом. Самым почетным местом считается места справа от хозяина и хозяйки дома. Чуть менее почетными являются места слева от хозяйки и хозяина. По мере удаления от хозяйки и хозяина места становятся менее почетными. Однако в нашем случае "хозяином" назначил себя Тёмный Лорд, сидящий, увы, во главе стола, и Нарцисса, стараясь соблюсти этикет и его пожелания, выбрала для себя место, откуда хорошо видно весь стол, гостей, и в любую минуту можно встать, никого не беспокоя, и заодно позаботившись о том, что по правую и левую руку от неё сидят, как и положено, джентльмены
2) Сегодня в Малфой-мэноре на ужин знаменитое консоме Нельсон, характерный зелёный оттенок которому придаёт лук-порей, измельчённый со сливками. Его добавляют в консоме почти в конце.
Лорд, как это было заведено, поднялся из-за стола первым: небрежным жестом он милостиво позволил собравшимся не вставать и удалился, негромко отдавая распоряжения молчаливо следовавшему за ним Долохову. Когда отзвуки их шагов стихли, даже пламя в камине затрещало чуть дружелюбнее; зловещие тени спрятались по углам и волшебники за столом осторожно выдохнули, не веря своей удаче. Бодрее застучали ложечки о фарфор, лица ожили, где-то даже мелькнули улыбки, а где-то, наоборот, наружу прорвалась ярость.
Беллатрикс с шумом отодвинула стул и резко встала. Она безразлично мазнула взглядом по месту, где сидел её муж, и, бросив что-то неприятное Яксли, удалилась в вихре кружевных чёрных юбок. Словно по сигналу начали подниматься и остальные гости: прощались, покидали столовую и, тихо беседуя, расходились по погруженному в сумерки дому.
Люциус поднялся из-за стола последним и, проводив до камина Нотта и Яксли, наконец, повернулся к Нарциссе. Вечер дался ему тяжело — измотал физически и морально — это было хорошо заметно по теням, залёгшим вокруг усталых глаз, по опущенным уголкам рта и прорезавшим лоб морщинам, добавлявшим Люциусу лишний десяток лет.
Неловко приблизившись, он покаянно, нелепой скороговоркой прошептал ей куда-то в пробор, что допоздна будет занят у себя в кабинете и его не стоит ждать, а затем виновато прикоснулся сухими губами к её щеке. Нарцисса застыла, придавленная чувством его вины и собственного бессилия, и позволяя его руке выскользнуть из своих пальцев; ей оставалось лишь беспомощно наблюдать за удаляющейся спиной супруга.
Она очнулась, когда эльфы начали убирать со стола: исчезали сами собой тарелки, салфетки и столовое серебро; стулья задвигались на место, а остатки еды отправлялись на кухню. Холодную говядину утром поджарят к завтраку, фрукты окажутся в пунше и выпечке, а на сконы с сыром ещё до рассвета найдутся желающие — тот же Трэверс кроме грейпфрута ни крошки не съел, и был далеко не единственным, кто имел обыкновение устраивать себе по ночам второй, а иногда третий ужины.
Нарцисса нарочно оттягивала момент, когда все дела по дому будут завершены, и ей можно будет подняться в спальню. Она украдкой вздохнула, снова представив холодную супружескую постель. Ещё одной вещью, которую она успела возненавидеть, была теперь дверь — дубовая дверь кабинета, ставшая непреодолимым препятствием между нею и мужем. Дверь, за которой Люциус проводил почти все свои вечера — он запирался на ключ и, наложив заглушающие, упорно делал вид, что работает. Нарцисса, конечно же, понимала и принимала печальную истину, что уделить ей внимание он просто не в силах. Она знала, что он будет прятаться от своих внутренних демонов и прятать их от неё, пока глаза окончательно не начнут слипаться, и очередной стакан не обнажит дно. А если она и застанет его уже в спальне, то он будет спать, забывшись тревожным сном, и лучшее что она сможет сделать — успокоить его кошмары, тихо обнимая и гладя мужа по спутанным волосам.
Вместо близости.
Нарцисса действительно любила своего супруга, слишком сильно любила, чтобы заставлять его вспоминать о себе лишний раз. Кому, как не ей было знать, насколько натянуты его нервы, для того чтобы каждый раз оказываться на высоте, будто бы именно это и было ей действительно важно? Кто лучше неё мог понять, как сильно его угнетали те несколько вечеров, когда у него от усталости и напряжения не вышло практически ничего? Никакими клятвами и словами она не смогла бы ему доказать, что есть вещи, о которых просто следует забывать — нельзя позволять им засесть у себя в голове и отравить мысли. Но что она могла сделать, если раз за разом Люциус пытался найти в её глазах отражение своей собственной неуверенности? Как могла его гордость вынести очередной провал — самый ядовитый из всех: провал как мужчины и мужа?
Нарцисса, скользила по коридорам дремлющего, но давно уже не спящего по ночам Малфой-мэнора и, повинуясь взмахам её палочки, тяжёлые портьеры скрывали за собой сад, погруженный в чернильную темноту безлунной ночи. Она задержалась у последнего распахнутого окна, подставив лицо ночному ветру, и бездумно устремила взгляд в непроглядно-чёрные небеса — ни единой звезды, точно смотришь на дно колодца. На краткий миг Нарциссе почудилось, будто она вот-вот упадёт, провалится в эту самую черноту и растворится в её глубине под взглядом неведомых сил, безразличных к судьбам простых волшебников.
Она вздрогнула и прикрыла глаза, пытаясь отогнать зловещий морок, и так замерла на миг, слушая в сгустившееся тишине, как тревожно стучит в её висках кровь — что-то оборвалось в ней, словно с тонким печальным звоном, слышимым лишь ей самой, лопнула последняя сдерживавшая её нить. Возможно, именно в этот момент события и пошли самым неожиданным и причудливым образом, но ни тогда, ни потом Нарцисса ни о чём не жалела.
Постояв немного, она позволила себе усмехнуться отчаянно и печально: трудно было поверить, что виноваты всего лишь тучи, а не чья-то нависшая над всем её миром тень, как дементор жадно пожирающая вокруг себя всё хорошее. Вот только серебристой искры Патронуса вряд ли хватило бы, чтобы отогнать эту голодную тварь от её дома даже сегодня.
Какая злая, унизительная ирония — в Ведьмовскую ночь ведьма была бессильна! О Моргана, посмотри на эту свою никчёмную дочь, ей осталось разве что попытать счастья с фонтаном феи Фортуны или молить о защите у старого пня, или… что там положено делать в подобные ночи? Нарцисса давно не задавалась такими вопросами, наверное, с тех самым пор, когда решила, что уже достаточно повзрослела, выросла из всех этих сказок и сама взяла в руки волшебную палочку. Но что ей оставалось теперь?
От отчаяния ли, по наитию или от же усталости, но её сознание будто бы раздвоилось: одна её часть, та, что звалась Нарциссой Малфой, лишь скептически качала головой, понимая всю нелепость и сумасбродность подобных мыслей. Эта часть настойчиво советовала ей отправляться спать — образованной современной волшебнице, прикоснувшейся даже к тёмным искусствам, не к лицу было задумываться всерьёз о побасёнках для деревенских ведуний; но другая, та что когда-то носила корону из маргариток, маленькая и гордая Нарцисса Блэк из глубин её памяти, упрямо нашёптывала, что пора было вспомнить о том, чему её учили… нет, даже не матушка и не тётя Вальбурга — а старшие женщины их семьи, бабушки.
Строгая и грубоватая бабушка Ирма, в девичестве Крэбб, с её сухими руками, старыми книгами и резными шкатулками, в которых Нарцисса могла копаться часами и слушать о каждом из бабушкиных сокровищ, примеряя их на себя. Проницательная бабушка Кассиопея с её ироничными понимающими улыбками, всезнающими глазами, вышивкой и окружавшим её ароматом трав. То, о чём Нарцисса не всегда могла поговорить с матушкой, она могла доверить им, а они, в свою очередь, учили её, юную и такую наивную, как заговорить удачу, перебросив улитку через плечо,(1) и как отвести беду, перемежая свои уроки той жизненной мудростью, которую Нарцисса смогла оценить лишь годы спустя. Если уж даже Смерть, говорили они, однажды преподнесла дары братьям Певереллам, достойно ли тогда сомневаться в щедрости самой Жизни, особенно если знать, как именно попросить и что предложить ей в дар?
Абсурдная несбыточная надежда пьянила отчаяннее креплёных десертных вин, которые так полюбила её сестра после заключения в Азкабане; но, вместе с тем, ещё никогда в жизни Нарцисса не мыслила ясней, чем сейчас. Она закрыла окно и поспешила в спальню, чувствуя, как кровь приливает к щекам, а сердце колотится в каком-то сбивчивом давно позабытом ритме.
Нарцисса скинула с себя всё, в чём была, и распахнула платяной шкаф. Где же, где же оно? Наконец, из самых глубин она бережно извлекла свёрток, который не видела более двадцати лет: мерцающий шёлк оттенка шампанского, украшенный золотым шитьём и бедфордским кружевом с драгоценной нитью, до сих пор хранил аромат весенних цветов. Запах, который она носила в юности; запах от которого Люциус терял всё своё хвалёное хладнокровие, с трудом дожидаясь момента, когда перед лицом всего волшебного мира сможет назвать её, наконец, своей, и зайти куда дальше, чем они себе позволяли, соблюдая остатки приличия из последних сил.
Платье, в котором она когда-то шла к алтарю, всё ещё было ей впору — оно село так, словно и не было всех этих лет, разве что слегка сдавив в талии. Нарцисса аккуратно расправила складки: свободная юбка не давала понять, сильно ли она прибавила в бёдрах, впрочем, в тот момент ей было решительно всё равно — всё это не имело значения, важно было лишь то пьянящее, родившееся из самых потаённых глубин её существа вдохновение, которое влекло её за собой.
Стоило ей коснуться волос, и чары, удерживавшие её причёску, развеялись. Нарцисса принялась вынимать шпильки по одной, руками, а затем, когда локоны рассыпалась по плечам, тряхнула распущенными волосами, ощутив какую-то потустороннюю неведомую ей прежде лёгкость. Ни условностей, ни украшений — сказала она себе. Вывернув наизнанку один из глухих тёмных плащей, которых в доме было уже с избытком, Нарцисса набросила на голову капюшон, застегнула под подбородком пряжку и устремилась прочь, не чувствуя под босыми ногами пола. Так легко и свободно она не бегала даже в детстве — разве что в первый год своего замужества, когда они с Люциусом… нет, сейчас не время было о таком вспоминать. Самые ценные, самые дорогие воспоминания ей пригодятся позже.
Призраком она летела через пустой спящий дом, не встретив никого из его обитателей, слово какая-то незримая сила убирала препятствия на её пути. Нарцисса легко спорхнула по лестнице, пересекла мрачный холл, а затем, миновав коридоры, распахнула заднюю дверь, что когда-то предназначалась для слуг, и оказалась в ночном саду, даже не сбив дыхания.
Несколько ударов сердца она стояла, запрокинув голову и глядя в тёмное небо, а затем закрыла глаза и замерла, вслушиваясь всем своим существом в ночь. Ночь была полна тихой, таинственной жизни, и Нарцисса, смело шагнув с крыльца, словно растворилась в ней, оставляя за спиной дом, в окнах которого всё ещё горел свет. Дождавшись, когда стена паркового лабиринта окончательно скроет её от случайных взоров, Нарцисса шепнула:
— Лампирис, — и с кончика её палочки сорвался целый рой светлячков, разогнавший непроглядную тьму мерцающим золотистым светом. Она смело сошла с дорожки и ступила босыми ступнями в холодную, влажную от росы траву, не заметив, как намок и потяжелел подол, который она и не думала подбирать. Тот звенящий, хмельной азарт, что пульсировал в её груди, вёл её за собой в глубину сада; ей даже не нужно было смотреть под ноги, чтобы найти путь туда, где она когда-то давно посадила свои первые розы.

1) Если подцепить черную улитку за рожки и перебросить через левое плечо, вам повезет — английская примета.
Чем дальше удалялась Нарцисса, тем естественней становился вокруг пейзаж: идеальные клумбы и аккуратно подстриженные кустарники сошли на нет, а на смену ухоженному английскому парку постепенно пришёл мрачный лес с едва угадывавшейся глинистой тропой под ногами и густым переплетением веток над головой. Сходство было бы совсем полным, если бы старые узловатые яблони и густой терновник не выдавали в нём одичавший участок сада.
Настоящий фруктовый сад раскинулся на западных склонах поместья, практически на границе с Дорсетом — его разбил ещё прадед Люциуса, когда прибрал к рукам часть спорных земель, которой владел какой-то не слишком далёкий маггл, — а об этом заброшенном уголке никто не вспоминал несколько поколений, и природа взяла своё. Каково же было её удивление, когда тёплым осенним днём Нарцисса совершенно случайно набрела на тропу и обнаружила за плотной чередой старых деревьев заросшую бурьяном прогалину, усыпанную по краю одичавшими сливами и мелкими кислыми яблоками — с трудом, но в ней всё же угадывалась когда-то роскошная лужайка для пикников, упирающаяся в густо поросший по берегу глицерией, осокой и камышовником декоративный пруд, вода в котором оставалась темна и холодна даже знойным июльскими вечерами.
Тогда, в первый год своего замужества, переступив порог Малфой-мэнора, Нарцисса не сразу смогла ощутить себя законной хозяйкой имения, и это место стало особенным для неё. Здесь, вдали от чужих глаз, она посадила несколько сортов кустовых роз, не решаясь сделать это в безупречно ухоженной регулярной части парка: вдруг бы не прижились? Ах, какие же это были напрасные и наивные страхи, в чём ей достаточно скоро помогли убедиться и муж и свёкор, и насколько ж иначе она трактовала свободу распоряжаться собой и поместьем теперь.
Её путь лежал через небольшой овраг, а затем вдоль русла высохшего ручья. Иногда она останавливалась, всматриваясь в деревья, и, находя тайные признаки, срезала тонкие, покрытые молодыми зелёными листьями ветви яблонь или сухие колючие ветки терновника, пока в её руках не набралась охапка, а деревья внезапно не кончились.
Этой весной со всеми её страхами и заботами Нарциссе ещё не доводилось побывать в своём тайном убежище и привести всё в порядок: трава была уже практически по колено, а розовые кусты разрослись в настоящие колючие заросли, на которых среди густой, практически чёрной в ночи листвы призрачно белели уже распустившиеся бутоны. Они источали томный кружащий голову аромат, который причудливо смешивался с волглым дыханием пруда и тонким благоуханием цветущих деревьев вокруг.
Нарцисса улыбнулась сама себе — да, это было единственное правильное и подходящее место. Её место. Она сделает это здесь, но для этого ей понадобится пространство — семь шагов на юг, семь шагов на север, семь на запад и семь на восток — именно столько требовалось ей для того, что она задумала этой ночью. Светлячки взмыли вверх и, причудливыми созвездиями рассыпавшись над поляной, замерцали ярче. Купаясь в их неярком прохладном свете Нарцисса, опустила свою ношу в траву и принялась за дело — нужно было избавиться от мёртвой прошлогодней поросли и обнажить почву, пробудившуюся после долгой зимы.
В центре дёрн был снят до самого основания, и на оголившейся влажной земле Нарцисса причудливым образом складывала сухие стебли травы и подгнившие ветки деревьев, а затем снова возвращалась к работе: разрывала руками почву вокруг корней и избавлялась от всего мёртвого, лишнего и неуместного этой ночью. Молодую траву она оставляла там, где та была скошена заклинанием, и пьянящая горьковатая сладость умирающей зелени кружила Нарциссе голову.
Работать приходилось руками, помогая себе самой простой садовой магией — она монотонно подрубала корни сухой травы и одеревеневшие стебли роз, усеянные шипами. Нарцисса не замечала, как они впиваются в пальцы и оставляют глубокие ссадины на ладонях; её кровь бурыми разводами засыхала на листьях и, смешиваясь с землёй, оставляя грязные полосы на лице, когда она отбрасывала прилипшие ко лбу волосы. Нарцисса не то чтобы совсем не ощущала боли, но она была слишком поглощена своим монотонным занятием, чтобы придавать ей хоть какое-нибудь значенье. Пусть ненадолго, но она перестала ощущать собственную беспомощность; ей казалось, что, отрешившись от мира, за пределами этого заросшего сорняками уголка сада она наконец смогла если не разглядеть, то ощутить конец того смутного тревожного ужаса, в котором им всем приходилось жить, кошмара, от которого она всем сердцем желала избавиться.
В детстве другая их бабушка — Бальбина Розье — учила её и сестёр вязать: вязание развивает усидчивость, тренирует внимание и укрепляет запястья — что же может быть лучше для юной ведьмы? Спицы её не слушались, и петли ложились неровно; раз за разом Нарциссе приходилось распускать вязание и начинать сначала. Вот и сейчас она будто бы распускала и сматывала в клубок что-то мерзкое, сотканное из гнилой шерсти, истлевающее от малейших прикосновений и готовое выскользнуть из саднящих рук, если она отвлечётся и потянет чересчур сильно. Но когда нить подойдёт к концу, Нарцисса даже и не подумает брать в руки ненавистные спицы и начинать сызнова — хватит с неё этих узоров из черепов и змей. Пусть гниль обратится пеплом, и сквозь него прорастут из земли хрупкие молодые побеги, знаменуя собой начало чего-то нового, что она так жаждала получить этой ночью и чему ещё только предстояло обрести форму.
К тому моменту, когда пространство вокруг неё, наконец, оказалось свободно, Нарцисса потеряла счёт времени, но, глядя на возвышавшийся в центре поляны пока ещё мёртвый костёр она поняла, что всё сделала верно. Она вслушалась в сгустившуюся вокруг неё непривычную, неестественную тишину, а затем решительным точным движением отрезала подол своей юбки. Повинуясь лёгкому взмаху палочки, яблоневые и терновые ветви взмыли в воздух, и Нарцисса перевила их светлым шёлком, а затем опустила в центр костра — и они сами собой с треском занялись пламенем.
Нарцисса тихо развернулась к разгорающемуся огню спиной и медленно подошла к своим розам. Она легко касалась влажных от росы лепестков и неспешно срезала самые молодые побеги и листья — из тех, что ещё так нежны, что даже не успели отрастить шипов — а, закончив, сорвала по одной полностью распустившееся розе с каждого из кустов, позволяя колючим стеблям расцветить её ладони новыми ссадинами.
Вместе с ворохом листьев в пламя без колебаний отправились и расшитые кружевом рукава: огонь вспыхнул ярко, но почти сразу притих; вода в листьях зашипела, и от костра пошёл густой и удивительно ароматный дым, тут же смешавшийся с наползающим от воды стылым туманом. Глаза слезились от дыма и бессмысленных сожалений, когда Нарцисса, простившись с последними обрывками некогда роскошного платья, осталась совсем нагой.
Дымящий шёлк она увенчала розами и опустилась на колени без сил, вдыхая запахи тлеющей зелени и водяного пара; дыхание неожиданно перехватило, и она с пугающей внезапностью осознала — что-то пришло извне и теперь её слышат и слушают. Но стоило ей открыть рот, чтобы позволить своим просьбам прозвучать вслух, то её сковала вдруг немота, за которой пришло ясное понимание, что не было в мире слов, способных выразить всё, чего Нарцисса так страстно желала; чтобы изречённое ей не исказилось, не обернулось удобной, искусною полуправдой, к которой она давно притерпелась, и это ранило куда больнее терновника и осоки.
И тогда она отказалась от слов — о таком можно было просить лишь сердцем, душой, всей своей сутью. Нарцисса зажмурилась и по крупинкам, по фрагментам мозаики, по цветным осколкам стекла начала собирать своё сокровенное желание, словно витраж, складывая его из домашних хлопот и счастливых воспоминаний; тёплых прикосновений и лукавых улыбок мужа; из нежности к зародившейся под её сердцем жизни и гордости за юношу, каким вырос её уже такой взрослый сын. Могла ли, имела ли она право жаждать большего?
— Чушь, — сухо треснули в костре ветки, или же Нарциссе это только послышалось, но эта мысль привела её в замешательство.
Нет, она не стала себя обманывать, этого было мало, этого было решительно недостаточно. Пусть кто-то бы обвинил её в жадности, но этих осколков не хватит, чтобы сложить весь витраж целиком. Нарцисса знала, всегда это знала, даже если не готова была признаться вслух, но сейчас, этой ночью она могла и хотела желать.
Желать до конца.
Она распахнула глаза и, словно скинув прежде мешавшую ей пелену, увидела, как её желание смотрит на неё из темноты в ответ: глядит взглядом её сестры, непокорным, ещё не подёрнутым безумием… нет — не только её… обеих сестёр, так похожих и так непохожих одновременно. Оно вглядывается в неё глазами их матери и отца; разглядывает её серыми глазами кузенов — задумчивыми у одного и озорными, дерзкими у другого… сколько же глаз она видела в темноте, и без них осколки её желания никогда бы не стали целым, как не смогла стать целой она сама.
Дым окутал её целиком, мешаясь с пряным запахом роз, а она стояла на коленях и просто хотела, чтобы весь тот ужас, в котором все они жили даже не с Рождества, а с того проклятого небесами вечера, когда метка на руке Люциуса вдруг налилась жизнью и зашевелилась под кожей, как какой-то чудовищный паразит, закончился; хотела, чтобы с её семьёй, всей её семьёй, которая не кончалась за кованной оградой поместья, всё было бы хорошо; хотела чтобы они уже наконец переступили через годы взаимных обид и нашли возможность быть снова вместе; хотела, чтобы каждый из них наконец, был по-своему счастлив, и чтобы ей больше никогда не пришлось разрываться на части, словно разбитому витражу или порванному, прожжённому гобелену.
Она так и стояла — а когда костёр прогорел, и дым унесло так и не поднявшимся ветром, Нарцисса с ошеломляющей горькой ясностью поняла, что ничего не случилось: мир не сдвинулся ни на дюйм и никакая древняя сила, конечно же, не отозвалась на её мольбы. Да и не могла отозваться — как бы ни прискорбно было бы признавать, но Нарцисса никогда не жила в плену наивных иллюзий. К кому, к кому она обращалась? Что за неожиданное ребячество? Как бы жестоко высмеял её Тёмный Лорд, если бы вдруг узнал!
Но вот знать ему абсолютно незачем, рассудила Нарцисса, и из чувства противоречия зачерпнула горсть пепла и провела по лицу, груди, и плечам: так или иначе, закончить следовало как подобает. Нарциссу с детства приучили доводить начатые дела до конца. Странно, несмотря на всю абсурдность её попыток, с реальностью она примирилась, против ожиданий, легко, и почему-то не ощущала никакой внутренней пустоты — напротив, в ней бурлила и переливалась через край спокойная сила, позабытая ею в последнее время за чередой невзгод.
Поднявшись на ноги, она взмахом палочки развеяла остатки костра и, вернув на место снятый ранее кусок дёрна, заставила корни травы крепко врасти в щедро удобренную пеплом почву, скрывая любые следы, а затем направилась к чернеющей глади пруда. Туман, наползавший с воды, дышал сыростью и холодил ей щиколотки, однако Нарцисса смогла себя пересилить — держась за траву, она спустилась с берега и омылась в ледяной воде.
Поплотней завернувшись в плащ, она поспешила к дому, удивляясь, что вокруг до сих пор словно клубился дым — запах горящих листьев смешанный с ароматом роз, казалось, пропитал её всю.
Насквозь.
Тропа словно сама ложилась Нарциссе под ноги, и она не заметила, как оказалась у задней двери. Свет уже нигде не горел, и Нарцисса вошла в дом почти бесшумно — оставалось надеяться, что ей повезёт и она никого не встретит по дороге в спальню.
Нарцисса пробиралась по коридорам украдкой, словно вор; сердце странно замирало в груди, будто, как и много лет назад, она возвращалась с ночного свидания. Перед её внутренним взором вставала теплица с трепетливыми кустиками, пахнущими для неё лесными орехами и осенними листьями Малфой-мэнора. Но не успела Нарцисса сделать и десяти шагов, как тишину разорвал полный сладостной истомы крик откуда-то сверху. Голос сестры она не смогла бы спутать ни с чем — та стонала так громко и чувственно, что лицо Нарциссы в какой-то момент озарилось тайной надеждой и ликованием. Неужели сработало? Неужели отвратительной сцены за ужином и бабушкиного колдовства хватило, чтобы Беллатрикс — неважно, по воле таинственных сил или исключительно в пику Лорду — вдруг потянулась к мужу? Пусть, пусть хотя бы на эту ночь, но они оба заслуживали немного тепла и счастья.
Впрочем, реальность жестоко напомнила о себе, когда Нарцисса заметила тусклый свет за приоткрытой дверью, ведущей к лестнице в винный погреб. Осознание было внезапным, острым и всепоглощающим: мантия, сиротливо висевшая на медной ручке, безмолвно кричала о том, что внизу сейчас был вовсе не Люциус, и никому, желающему встретить рассвет живым, спускаться туда не стоит. Как и заглядывать в спальню к её сестре.
Нарцисса подошла к двери и, бездумно сняв с неё мантию, некоторое время просто держала её в руках, рассеянно гладя пальцами вышивку: едва различимый кельтский узор причудливо вился по вороту, сливаясь по цвету с тканью. Древо жизни — чёрное на тёмно-сером — показалось Нарциссе высохшим и давно мёртвым.
То, что сейчас происходило в её собственном доме, было не просто отчаянно стыдным и отвратительным; оно словно разрушало основы мира, демонстративно выворачивая его наизнанку и обнажая грязь, и Нарцисса ничего не могла поделать.
Ей снова была отведена уже утомившая её роль бессильного наблюдателя, лучшее место в первом ряду, но перед ней не было даже стекла, о которое она могла бы разбить свои руки в кровь. Хотя… стоило ли ей вообще пытаться уберечь себя в этом окончательно сорвавшемся с цепи безумии? Когда всё вокруг рассыпается песком и пеплом, не легче ли стать одной из догорающих в адском пламени головнёй, чем остаться на пепелище её семьи в одиночестве?
Эта мысль скользнула, словно змея в траве — и скрылась в метафорических зарослях заунывника её души, оставив по себе горьковатый след. Нарцисса вернула мантию на законное место и слегка притворила дверь, чтобы вырывающийся из-под неё свет больше не привлекал непрошеного внимания.
Так и не зажигая Люмоса, Нарцисса куда решительнее продолжила путь наверх, в спальню, уже практически не таясь. Вряд ли за этими воплями кто-то расслышит её шаги, подумала она раздражённо, и уж тем более не удивится, что ей не спится в столь поздний час.
Когда за её спиной закрылась дверь, она вовсе не удивилась, услышав в тишине ровное дыхание своего мужа — словно точно знала, что найдёт его здесь. Это её успокоило и возвратило ясность, обретённую в ночном саду. Некоторое время она стояла в непроглядной темноте посреди спальни, вслушиваясь в эти тихие и столь дорогие ей звуки — а потом решительно сжала губы и сбросила с себя намокший от росы и тумана плащ, снова оставшись нагой, как в момент своего рождения.
Если уж гости теперь себе позволяют всё, не считаясь с приличиями, то сегодня, в эту ночь почему она должна себе в чём-то отказывать? Это её дом, и она в нём хозяйка. И прежде всего, мстительно решила Нарцисса, она не намерена отвлекаться на посторонний шум, даже если за пределами её спальни разыграется сцена кровавого убийства из ревности. Заглушающие чары легли на дверь, оплели распахнутое окно, а затем мягко накрыли всю комнату — в том, что она собиралась сделать, даже свет был бы лишним.
Наслаждаясь восхитительным и пьянящим ощущением своей порочности, Нарцисса неспешно приблизилась к широкой кровати и на ощупь скользнула под пуховое одеяло к забывшемуся крепким сном и ничего не подозревающему супругу.
Она прижалась к нему всем телом, зарылась пальцами в спутанную копну волос, а затем, запечатлев поцелуй не на губах, нет — над ключицей — двинулась ниже, заново открывая для себя вкус и запахи его кожи. Она ласкала его, спящего и расслабленного, позволяя возбуждению охватить себя целиком, и когда её губы приблизились к вожделенной цели, Нарцисса ощутила мускус и соль на кончике своего языка.
То, что её муж пробудился, она поняла за миг до того, как замерло и напряглось его тело. О, как же ясно она ощутила его растерянность и какое-то нервное напряжение, словно он не до конца сбросил тяжёлое наваждение и никак не мог провести черту между сном и явью. Но сегодня Нарцисса не намерена была позволить ему предаваться сомнениям и предавать самого себя.
Ночь, скрывавшая их друг от друга, была темна и наполнена едва различимыми ароматами роз и дыма. Вот теперь Нарцисса по-настоящему, всей кожей, ощущала разлитую в воздухе магию, что откликнулась на её призыв. Она желала и готова была сделать всё, чтобы разделить с мужем это благословение; дать возможность почувствовать всё то, что испытывала сама. И когда Нарцисса позволила этой безликой, всеобъемлющей силе пройти сквозь себя — он ей ответил.
Поначалу осторожно и будто бы недоверчиво, но с каждым прикосновением, с каждым беззвучным вздохом он обретал уверенность и входил во вкус, словно магия этой ночи наполняла и его самого. Он не искал защиты в её объятиях, как в их предыдущие прохладные беспокойные ночи; нет, он припадал к Нарциссе, словно к источнику, и глоток за глотком пил эту колдовскую силу с её искусанных губ, неспешно возвращая инициативу себе и меняя навязанные ему правила. В какой-то момент Нарцисса полностью расслабилась в его руках, принимая привычный порядок вещей, а затем они вместе сорвались в пропасть, отринув границы, которые не решались переступить за долгие годы брака.
Это было странно, странно и изумительно — они наслаждались вещами, прежде ей незнакомыми, и открывали друг в друге желания, о которых Нарцисса никогда не заговорила бы вслух. Но сейчас, в этот момент слова были лишними, а затем она и вовсе перестала понимать, что происходит. Это было почти пугающе, но какой-то тёмной, архаичной части её естества это не просто нравилось — Нарцисса задыхалась от удовольствия, порой на самом пороге болезненности, оставляя отметины на плечах и бёдрах своего супруга; а он, с упорством исследователя открывал эту её новую сторону для себя, как непостижимую и доселе запретную Terra Incognita.
В какой-то момент Нарцисса даже подразнила себя фантазией, что, может быть, это вовсе не её муж — но стоило ей открыть глаза, как призрачное мерцание его волос в темноте прогоняло любые сомнения. Она не спутала бы их ни с чем, хотя давно не видела их так восхитительно рассыпавшимися по её животу.
Их тела сплетались и, казалось, что в какой-то миг соединились в одно — единое, двуполое и совершенное; даже царящая в спальне тьма, словно рассеивалась, открывая смутные очертания, там, где белое каление достигало пика. Объятые жаром, они словно сплавились в алхимическом тигле: навсегда проросли друг в друга нервами, протекли друг другу под кожу, и даже небытие навряд ли смогло бы их теперь разделить.
…Утро было окрашено в нежно-розовый: ветер задумчиво раздувал плотный шёлк розоватых штор, и даже сад за окном невозможно было разглядеть за клубами такого же золотисто-розового тумана. Пройдёт всего пара часов — и он, утратив свою густоту, станет прозрачно-серебряным; но пока солнце было скрыто за призрачной границей деревьев, он переливался всеми оттенками палевого, абрикосового, пурпурного и ещё десятком иных, чьи названия сонно жмурящаяся Нарцисса совершенно не готова была вспоминать.
Это было настоящим блаженством, вот так лежать обнажённой, чувствуя, как её переполняет восторг. Снова ощущать себя счастливо и легко, как в первые недели замужества, когда каждая минута казалась Нарциссе наполненной волшебством и светом; когда она, открывая глаза по утрам и замирала от охватывающего её ликования, просто вслушиваясь в дыхание крепко спящего рядом с ней Люциуса, и сама не верила в своё счастье.
Он спал как убитый — так крепко, как не спал давно, и его расслабленное медленное дыхание заставляло её утопать в едва выносимой нежности. Во сне её муж, с присущей ему семейной жадностью, стянул с неё одеяло и завернулся в него с головой, словно в гигантский кокон; лишь несколько непривычно спутанных и пушистых прядей его волос смешно торчали наружу, окрашиваясь, как и всё вокруг в забавный розово-карамельный цвет.
Перевернувшись на бок Нарцисса, приподнялась на локте и невесомо поцеловала мужа в макушку, а затем легко вспорхнула с постели и, отыскав на полу свой плащ, отправилась навстречу восходящему солнцу — искупаться в росе и поделиться своей тихой радостью с пробуждающимся ото сна миром. В её предрассветных грёзах ей наконец открылся последний и самый заветный кусочек её невысказанной мечты: рядом со счастливыми мужем и сыном Нарцисса видела и ощущала всем своим существом прекрасную светловолосую девочку, крепко держащуюся за её палец своей крохотной нежной ручкой. И где-то глубоко внутри Нарциссы поселилась уверенность, что это не простой сон — но этого она ни за что не рассказала бы никому даже под пытками, потому что знала наверняка, что тогда загаданное могло не сбыться.
Увы, Нарцисса никак не могла прислушиваться к себе весь день, ведь теперь от того насколько она будет идеальной хозяйкой, зависело куда больше прежнего, и она должна была довести эту игру до конца, позволив событиям пойти по пути, выбранному ей этой ночью.
— Уже полдень, господа, — она взглянула на циферблат часов, и, ещё раз ласково сжав руку Люциуса, встала. — Через час в столовой подадут ланч. С вашего позволения, мне пора будить Беллатрикс, она не любит, когда это делают эльфы.
Никто из них никогда не обсуждал почему, хотя прошло уже почти полгода, Беллатрикс до сих пор пугалась, если её будил кто-то, кроме сестры. Даже муж — и Нарцисса знала, насколько эта ситуация его ранила. Как знала и то, что сестру почти до истерики злят эти глупые страхи и собственная беспомощность. Поэтому, не встретив её за завтраком, Нарцисса старалась всегда подниматься в комнату Беллатрикс прежде Родольфуса; хотя, кажется, тот уже давно оставил своим попытки что-либо изменить в отношеньях с женой и нечасто ночевал вместе с ней.
Склонившись к Люциусу, Нарцисса коснулась ладонью его щеки и на мгновенье прижалась губами к его губам — а затем, ушла, словно растворившись в солнечных лучах, заливавших библиотеку, уже на самом пороге задумчиво задержав руку на своём животе — правда, этого тихого жеста никто из присутствующих мужчин не увидел, или же, как это всегда и бывает, просто не обратил внимания.
Когда за Нарциссой закрылась дверь, вместе с ней ушло и то мягкое умиротворение, которое она источала. Потускнел даже свет, струившийся сквозь окно и ложившийся тёплыми золотистыми полосами на пол. В библиотеке воцарилась какая-то неприятная тишина, и Маркус Эйвери нервно поёрзал в кресле, снова ощутив внутри скребущее беспокойство, с которым он успешно справлялся почти всё утро.
— Этой ночью по дому будто бродила смерть, — неожиданно сказал Ойген и Маркус едва не выронил свиток из рук, с тревогой вглядываясь в ставшее непривычно серьёзным лицо своего друга.
— И не просто бродила, — стиснув в руках газету, надломлено подтвердил Малфой. — Я, — он с тоской посмотрел на дверь, за которой скрылась его супруга, — не вижу смысла больше от вас скрывать… Я догадываюсь, за кем явилась костлявая, — он обвёл присутствующих обречённым взглядом и, прикрыв глаза, будто перед прыжком в бездну, патетически выдохнул: — Этой ночью я встретил своего двойника. Не мне вам всем объяснять, что это значит…
— Ох… — Маркус уставился на свои ботинки: в таких вещах ему объяснений не требовалось.
— Доппельгангер? — словно прочитав его мысли, уточнил Долохов, покуда остальные озадаченно и тревожно переглядывались между собой.
Убеждённость, читавшаяся на лице Малфоя, заставила Маркуса снова вздрогнуть. Одно к одному: сначала Лорд, затем Трэверс с его страшилками, теперь вот ещё и это… А ведь ещё вчера Маркус казался себе таким смелым.
— Разве они действительно существуют? — недоверчиво спросил Рабастан, вырвав Маркуса из потока переживаний.
— Более чем, — серьёзно подтвердил его брат, прикрывая своего короля пешкой. — Хотя они, насколько я могу судить, редкость.
— Почти аномалия, — Маркус точно знал, о чём говорит. — У нас на островах подобные явления практически не встречаются, зато в Европе... Вот например, об этом писали в «Мрачных мистериях и зловещих загадках» за девяносто второй, кажется, или за девяносто первый… — он рассеянно положил ногу на ногу и принялся покачивать носком ботинка. — В общем, это случилось в Праге. Вот у нас есть волшебный автобус, а у них там — трамвай. «Карлин кунь» называется, вроде нашего «Ночного рыцаря», только ходит по рельсам, но попасть можно куда угодно. И по салону нисколечко не швыряет, так, покачивает слегка. Сидишь, смотришь в окно, чай пьёшь с фруктовыми кнедликами… Да и штрудель у них замечательный подают — а как, господа, он пахнет! И вот как-то ночью он человека сбил. Насмерть.
— Штрудель? — удивлённо уточнил Роули, оторвавшись от шахматного сражения, и бой на доске застыл.
— Трамвай, — смущённо пояснил Маркус, всегда испытывавший в такие моменты неловкость. А вот Роули избытком неловкости не страдал и дурацких вопросов никогда не стеснялся.
— Оно же, вроде как, невозможно, — он задумчиво почесал нос, и на его лице отразилась вся доступная ему глубина мысли, — на них же всяких чар поналеплено, как на свинье грязи.
— Это и удивительно, — согласился с ним Маркус, глядя, как белый конь воинственно бьёт по доске копытом — и он готов был поклясться, что тот вместе с Роули, оба смотрят на него с одинаковым выражением. — Но главная странность отнюдь не в этом. Дело в том, что, когда погибшему прикрепили обратно голову, выяснилось, что он был как две капли воды похож на водителя этого самого заколдованного трамвая. Вот совершенно, до последней родинки. Хотя никакого близнеца, и вообще братьев у того не было. Погибшего так никто и не опознал, и в итоге хоронили его кондуктор с водителем. И последний ровно через год умер, день в день, минута в минуту! Детям же своим он завещал себя похоронить «рядом с собою», на старом Ольшанском кладбище.
— То есть бедолага переехал трамваем своего двойника — и умер? — переспросил Роули.
— Именно так, — Маркус вздохнул чуть виновато и принялся качать ботинком в другую сторону.
— Ты-то своего, надеюсь, не убивал? — мрачно поинтересовался у свояка старший Лестрейндж и задумчиво почесал небритую щеку.
— Это было б, пожалуй, не слишком вежливо, не находишь? — покачал головой Малфой, и Маркусу показалось, что обречённость на его лице на миг сменилось неловкостью.
— Ну вот и славно, — всё так же задумчиво покивал Родольфус, и его ладья с размаху отрубила голову белой пешке.
— Видите, господа, — мирно подытожил Ойген, — насколько опасно чрезмерное самолюбие. Бедный чех не смог пережить собственной гибели! Да ещё и от собственной же руки, вернее, трамвая.
— Полагаешь, это важно? — взволнованно уточнил Малфой. — От твоей руки погиб твой двойник или же от чужой?
— От своей намного обиднее, — немедленно откликнулся Ойген. — Даже винить потом некого!
— А результат один, — тихонько произнёс Маркус — но услышали его, кажется, все. Малфой вздохнул судорожно и глубоко, а затем нервно выдохнул, и веселье, только что почти сумевшее захватить комнату, выдохлось, как не было ничего, а на смену ему вновь пришла удручённая тишина.
— Так, отставить похороны, — твёрдо произнёс Долохов командным тоном, заставившим Маркуса подобраться. — Это мы успеем всегда. У тебя, конечно, Малфой, древний род, и всё такое, но, если память моя не врёт, о неотвратимой и скорой смерти зловещие близнецы предупреждают монархов. А с этим у вас как-то не выгорело, и ты не Его Величество Люциус Первый, божьей милостью король этих и прочих земель, защитник веры.
— Второй, — меланхолично поправил его Малфой, который, вопреки ожиданиям, ничуть не обиделся — напротив, улыбнулся, правда, как-то вымучено. — Первым был бы мой предок в шестнадцатом веке, у которого, как ты, изволил выразиться, не выгорело…
Маркус мог бы, конечно, заметить, что, наверное, тот стал бы вовсе не королём, а всего лишь консортом, но не стал, чтобы не расстраивать хозяина дома ещё сильней — он как раз читал накануне вечером о маггловских предпосылках Статута, и так зачитался главой про Пороховой заговор, что вода в ванной успела остыть, а пена осела. Пожалуй, никогда Маркус не испытывал с книжными персонажами такой солидарности, и только под утро тревожное осознание, что именно его ждёт, если Лорд узнает о его небольшом демарше, накрыло его с головой. Но в конце-то концов, так жить было просто нельзя!
— Вот и я говорю, нельзя, — голос друга снова выдернул его из раздумий, и Маркус понял, что, кажется, часть беседы прошла мимо него, а сам Ойген успел сесть в кресле по-человечески, — видеть во всём только дурные знаки. Тут важно выяснить, злой это был близнец, или не слишком — они, между прочим, иногда, бывает, приходятся очень кстати. Вот у нас в семье случилась такая история — одна моя тётя из итальянской родни… ну как тётя, — Ойген попытался помочь себе жестами, — сестра мужа кузена матушки…
— Кузины, ты наверно хотел сказать? — машинально уточнил Роули, снова поднимая голову от доски.
— Не спрашивай, это сложно, — Ойген покачал головой. — Мы об этом не говорим… вернее, не говорили... — исправил он сам себя, и лицо его на миг омрачилось, — Тогда, до всего... это не слишком важно, — он неопределённо махнул рукой, словно отгоняя роившиеся вокруг него тяжёлые воспоминания. — А важно то, что тётя рассказывала, как однажды довелось ей ночевать у своей подруги. Они допоздна гуляли, а когда вернулись, то увидели в окнах свет, хотя подруга её тогда жила одна. Напугать тётю Одиллию всегда было трудно, — улыбнулся он, — это скорей она… В общем, они с подругой скинули туфли, заколдовали плющ и полезли смотреть, что там творится, а это, скажу вам, второй этаж… И вот, заглядывают они в окно, а в комнате та самая подруга мирно устроилась в своём же любимом кресле и читает любовный роман из тётушкиных личных запасов.
— Возмутительно… — задумчиво поцокал языком Рабастан, делая размашистыми движениями набросок, явно вдохновлённый историей. — И как же они поступили?
— Тётя Одиллия и её подруга с палочками наперевес взбежали вверх по парадной лестнице… и обнаружили, что в квартире никакого света не было и в помине, — Ойген сделал загадочное лицо. — Они всё обыскали, но не нашли ни малейших следов чьего-то присутствия, а роман, вместе с остальными, как и положено, лежал в тётиной тумбочке — а когда они успокоились и всё-таки разошлись по соседним спальням, то никак не могли уснуть. Тётя любила рассказывать, что в ту ночь следила за тем, как луна путешествует за окном, и когда та почти что скрылась за рамой, тётушкина подруга явилась к ней кофейником и восхитительным семифредо… — голос Ойгена прозвучал теперь столь мечтательно, что Маркус вспыхнул, вновь испытав мучительный приступ стыда за всё, чего его друг был так долго лишён, в то время как сам Маркус все эти годы потакал своим небольшим слабостям. Вот и вчера, он в порыве отчаянного и героического безумия, вопреки воле Лорда, оказался перед непростым выбором в виде это самого семифредо, на холодной молочно-белой поверхности которого распускался вишнёвый цвет, переходящий в завязи и превращавшийся в восхитительные спелые вишни, и ореховым пирогом, пропитанным ореховым же ликёром.
— Они как могли, успокаивая друг друга, — продолжил Ойген меж тем, — проговорили всю ночь, но чем ближе был рассвет, тем сильней они нервничали. А потом, когда прокричал петух, в соседней комнате что-то ужасающе сперва затрещало, а затем посыпалось с грохотом, и когда тётушка и её подруга распахнули дверь в соседнюю спальню, то увидели заваленную обломками рухнувшего потолка кровать и то самое кресло. Так что, может, твой двойник и не хотел ничего дурного, а надеялся предостеречь?
— Предостеречь? — фыркнул, а затем почему-то разозлился Малфой. — Как видите, ничего не рухнуло… ни на кровать, ни с кровати!
Родольфус хмыкнул. Повисла недолгая, но многозначительная тишина, и Маркусу вновь стало ужасно неловко.
— Кто знает, — шутливо возразил Ойген, спасая ситуацию, как всегда. — Ты бы на всякий случай всё же проверил свой потолок. Или крышу…
— Спасибо, Ойген, но я пока ещё вроде в своём уме, — Малфой усмехнулся, но как показалось Маркусу, совершенно неискренне. — Абсолютно.
— Абсолют, как правило, недостижим, по крайней мере при жизни, — задумчиво протянул Трэверс, видимо, уставший стоять: он по привычке уселся верхом на стул и устроил подбородок на бледных ладонях, сложенных на резной спинке. — Можно оставаться в своём уме, но не быть в собственном теле. Подобное, например, встречается на Тибете. Слово «тульпа» вам что-нибудь говорит? Местные маги часто таким развлекаются: сидят на циновках в медитативном трансе, а в это же время их двойник воскуривает рядышком благовонья…
То, как присутствующие переглянулись, Трэверс, как всегда, просто проигнорировал, а Маркус, украдкой посмотрев на него, вспомнил, что читал об этом когда-то давно, но почему-то в памяти всплывал термин «йидам» и какие-то многорукие божества. Сам бы он многое отдал за то, чтобы завести такого вот полезного двойника — хоть с одной парой рук, хоть с несколькими — тогда бы он ни за что не попал в подобную неприятность.
Разве много он просил от жизни? У него был его коттедж, эльфы, книги и масса времени. Он гулял, когда хотел, или читал; но что самое главное, никогда не проводил столько времени с посторонними и не всегда приятными ему людьми, пока этот кошмар снова не начался. И начался словно в зловещем романе — ночью, на кладбище; вот только его закрыть и спрятать на дальней полке было совсем нельзя, как и отказаться становиться его персонажем. Ох, Игорь Каркаров вот попытался затеряться ещё в прологе, и теперь похоронен между страниц; и Маркус старался не представлять, как тот умер. Как и не представлять, что ждёт его самого.
Да, Маркус знал, что он практически бесполезен, как знали это все в ближнем круге. Как знал сам Тёмный Лорд, но не желал и не мог быть столь расточительным с фигурками на доске, чтобы вот просто взять оставить его в покое. И, конечно, он не был бы сам собой, если бы не нашёл Маркусу мало-мальски достойного применения.

Если Маркус Эйвери и был знаком с тем, как ведётся следствие и работают органы волшебного правопорядка, то в первую очередь был обязан этим знанием детективам, и лишь во вторую — собственному удручающе неприятному опыту. Да, конечно, ещё во время первой войны он внимательно прочитал все уставы, какие сумел найти: сначала сотрудников Департамента Магического Правопорядка, затем английского Аврората, потом французского и даже устав Объединённого Аврората Священной Римской Империи от тысяча семьсот шестьдесят третьего года, который совершенно случайно нашёлся в самом дальнем углу очень приличной букинистической лавочки на самых задворках Лютного.
Аврорам и прочим сотрудникам что-то вменялось, что-то было предписано, а что-то строго-настрого надлежало. От такого объёма ответственности, лежащей на плечах тех, кого полагалось считать врагами, Маркусу становилось неловко. Тогда он печально вздыхал, и его рука сама собою сначала трагично тянулась к выпечке, а затем к недочитанному роману, в котором блистательный Винсент де Трефле-Пике с парой своих знаменитых краппов выслеживал жеводанских оборотней. Что самое удивительное, их главарём оказался кузен и любовник мадам Лакруа, главы французского Аврората. Нет, конечно же, Маркус что-то такое начал подозревать главы примерно с десятой, но по-настоящему поразительным ему казался вполне исторический факт, что реальные мадам и месье и Лакруа выкрали чёрные бриллианты из хранилища французского Министерства, сбежали в Колонии и никто их потом не нашёл. В те тревожные и страшные времена это вселяло в Маркуса хоть какую-то уверенность в завтрашнем дне. Ибо книги были для него тем источником, в котором он черпал надежду на лучшее и отвагу идти вперёд, пусть и небольшими шагами.
Что же до практической части, признаться, она его удручала — одно дело читать о том, как выслеживают преступников на тёмных улицах в плохую погоду, и совсем другое — искать следы под дождём. И уж конечно Маркусу вовсе не улыбалось оказаться преступником самому.
В восьмидесятые в рейдах Маркус бывал всего пару раз, и для его хрупкого душевного мира, выстроенного на запахе книжных страниц, пергаменте и чернилах, этот опыт оказался столь разрушительным, что Маркус едва не лишился чувств, а Антонин Долохов — веры в молодое и дерзкое поколение, ради которого он заливал Магическую Британию волшебной кровью. Вот так подвиги в духе славных традиций не столько блистательного, сколько кровавого и жестокого прошлого остались жребием отчаянных смельчаков, а Маркус оказался завален штабной рутиной, без которой было просто не обойтись ни одной серьёзной организации.
Он никогда об этом не сожалел, хотя не слишком любил вспоминать тягостные часы в ожидании возвращения боевых групп. Но ещё больше он не любил вспоминать обрывки чужих кошмаров, в которые окунался вопреки собственному желанию, когда ему приходилось аккуратно сортировать свежие воспоминания. И даже зная, что живые и здоровые Северус или Ойген отсыпаются по домам, Маркуса всё равно трясло мелкой дрожью, когда он запечатывал и подписывал очередной фиал.
Маркус вообще знал ужасно много и обо всём, но ему даже не приходило в голову, насколько эти знания могли стать опасны для него самого, если бы кто-нибудь принял его всерьёз и разглядел в нём смутный намёк на угрозу. Самого же его страшило совсем иное — тень отца пугала Маркуса даже сильнее Лорда, всё чаще выходившего из себя; и тогда от страха и ненависти он спасался, возводя баррикады из стопок бумаг, с содержимым которых знакомился против воли.
Вот, например, изучая копии министерских ведомостей, добытых Яксли, он смог узнать, какое жалование получают авроры, и даже за что им выдают премии; но как ни старался Маркус, он никак не мог перевести жизни тех, кто его окружал, в галлеоны. И всё-таки война не давала ему ответа, как именно Аврорат раскрывает хитроумные преступления и ловит злодеев на каких-нибудь незначительных мелочах. Всё что он видел в серебристом тумане — усталых людей с палочками в руках и дежурствами по двое суток. И когда они сами пришли за Маркусом, то ему было неловко и страшно.
Спустя столько лет вернувшийся в мир живых Тёмный Лорд в каком-то смысле расставил всё по своим местам. Выбранного Маркусом направления в мирной жизни, которое можно было бы в целом свести к неспешному перемещению из столовой в библиотеку, он явно не оценил, и теперь Маркусу приходилось не столько ходить, сколько бегать: с точки зрения Аврората, он был одним из самых преданных Лорду сторонников, лишь по какому-то чудовищному недосмотру не угодивших пожизненно в Азкабан, и привлекал этим к себе самое пристальное внимание. Так что пока Тёмный Лорд копил силы для грядущей войны, взыскивал позабытые за давностью лет долги и восстанавливал утраченные союзы, на плечи Маркуса легло нелёгкое бремя: словно сверкающая блесна на конце лески, направляемой руками умелого рыбака, Маркусу приходилось волочиться по дну, привлекая к себе внимание министерских форелей и поднимая в мутноватой стоячей воде побольше ила.
И пусть с рыбалкой Маркус был знаком в основном по «Собранию наставлений волшебнику-рыболову» в шести томах, эта аллегория казалась ему хотя, в целом и подходящей к ситуации, в которой он очутился, но уж чересчур путаной: кто кого и зачем ловит, он до конца не мог, а может быть, просто не хотел понимать, чтобы ещё больше не огорчаться. И, кажется, он был в этом не одинок, хотя в роли наживки на фоне того же Роули, уводившего авроров косяками и стаями за собой, скорее, терялся — однако Лорд не придавал значения ни таким мелочам, ни, конечно, чужим желаниям.
— И самое интересное, — подытожил Трэверс — что эта, зачастую нематериальная сущность, фантом, стремится освободиться от воли хозяина, и если она не слишком сильна… — Малфой почему-то побледнел и поджал губы, — В общем, Люциус, я бы на твоём месте, если бы всерьёз взялся за подобные практики, давно завязал с огненной водой и перешёл на травы.
— Гектор, мы, конечно, ценим твоё экспертное мнение, — Малфой постарался придать лицу самой серьёзное выражение, — но не эти ли травы вчера и приманили к тебе стаю полтергейстов с фантомами?
— Я не стал бы легкомысленно относиться к фантомам и призрачным двойникам, — Родольфус откинулся на спинку стула и оторвал взгляд от доски. — Наш прадед, Радольфус Лестрейндж, оставил после себя любопытные дневники, — он посмотрел на брата, и тот, словно что-то припоминая, кивнул. — Если кто-то не помнит, то прадедушка наш имел честь быть Министром Магии, пятнадцатым, если не ошибаюсь. Так вот, в декабре тысяча восемьсот тридцать пятого года, вскоре после своего избрания, почти перед Рождеством он сделал весьма необычную запись. Накануне вечером, собираясь на приём в свою честь, он увидел в зеркале не одно, как это чаще всего и бывает, а два своих отражения: они стояли перед ним в полный рост, никак не соприкасались друг с другом, и были почти одинаковыми; лишь одно бросилось ему сразу в глаза — то, насколько бледней и измождённей казался один из его двойников за зеркальной гладью. Прадед отнёсся к этому довольно-таки беспечно, а вот его жена, наша прабабушка Жозефина, крайне переживала, утверждая, что это всё дурной знак и ему не суждено увидеть окончания министерского срока. И она, в общем-то, не ошиблась. Жозефина Лестрейндж вообще была мудрой женщиной, — Родольфус невесело усмехнулся. — Ровно через шесть лет, нет, прадед не скончался скоропостижно, но, к радости своих политических оппонентов, вынужден был досрочно уйти в отставку. Как было сказано в официальных бумагах, в связи с сильным переутомленьем на службе и дальнейшей неспособностью исполнять возложенные на него должностные обязанности.
— Ну да, ну да, — скептически протянул из своего угла Долохов. — И, разумеется, дело было в зловещих призрачных двойниках, а вовсе не в его политических игрищах и той так любимой вашими местными конспирологами истории о том, как твой прадед попытался прикрыть к мерлиновой бабушке Отдел Тайн.
— Не то чтобы официально об их причастности вообще заходила речь, — Родольфус поморщился. — Однако скончался прадедушка, действительно не дожив до того момента, когда срок его полномочий формально должен был бы завершиться.
— Да не он первый, не он последний, — Долохов невесело ухмыльнулся, — Я, конечно, не большой знаток вашей английской кухни двухсотлетней давности, но в своё время в Европе и не такое видал… и делал. Главное — оказаться с неудобным для всех человеком на расстоянии одного проклятья. Потом, кому надо, свалят хоть на призрачных двойников, хоть на болотные огоньки в густом тумане. А уж кому что привидится…
А ведь и правда, неожиданно вспомнил Маркус, вчера к вечеру туман был густой, как сметана. Вполне обычный туман, без какого-либо подвоха, ну, Маркус по крайней мере на это надеялся; но с другой стороны — уж очень удобный туман и невероятно уместный. Самое подходящее состояние английской погоды, чтобы, согласно приказу Лорда, подозрительным образом отправиться куда-нибудь на всю ночь, отвлекая волшебников из Департамента Магического Правопорядка от совсем им ненужных вещей, о которых сам Маркус не желал даже думать.
Он знал, что за ним обычно следили двое: нет, с маскировкой у них всё было удивительно хорошо, и сам бы Маркус их, скорей всего, не заметил, если бы как-то в особо промозглый и непогожий день Вигфри просто не уточнил, не стоит ли отнести что-то горячее нерешительным гостям под деревом у калитки. Маркус тогда посмотрел сперва на эльфа, затем в окно — и слегка растерялся. Нет, не оттого, что кто-то за ним следил, а потому что за окном был и правда кромешный ужас, и сам бы он ни за что из дома в такую погоду и носа не показал. Наверное, ужасно тоскливо вот так простоять там весь день, наблюдая, как светятся окна его коттеджа. Может быть, действительно стоило отправить им что-то перекусить, подумал он — но с другой стороны, люди были на службе и могли на него обидеться.
Это произошло в середине осени, но уже в Святочную неделю Маркусу пришлось поломать голову куда сильнее и придумать, как привлечь к себе побольше внимания, чтобы это внимание не досталось кому-то ещё, кому оно было совсем ненужно. Но если тот же Роули мог таскать за собой соглядатаев по всему Соединённому Королевству, находя себе сомнительных партнёров на карточную игру или запросто встречаясь с какими-нибудь мелкими контрабандистами по своим островным делам, о которых Маркус мог только догадываться, разглядывая на карте россыпь пятнышек под названием «Оркнейские острова» аккурат напротив Норвегии, или, то что делать ему самому Маркусу, было совершенно неясно.
Друзей у него было совсем мало, знакомых и тех набиралась едва ли дюжина, к тому же, с большинством из них Маркус общался только по переписке, а перед своими букинистами в Лютном ему было бы совсем неудобно. Он, конечно, провёл несколько рисковых и странных сделок в подозрительных и в чём-то даже зловещих местах, став обладателем сперва заколдованного веджвудского сервиза на двенадцать персон, а затем печального натюрморта с задумчивым козьим сыром и немного повядшей зеленью, но вот куда, куда бы он мог отправиться на всю ночь?
Впрочем, несколько вариантов у него нашлось.
Сообщество коллекционеров в Волшебной Британии было не слишком большим, и, прямо скажем, закрытым, но Маркус по праву успел обрасти вполне респектабельной репутацией, и потому время от времени получал приглашения на закрытый показ чьей-либо сокровищницы или просто нового экспоната. Чаще всего Маркус как можно вежливее отказывался, и выбирался куда-то только если речь шла о действительно редких книгах. Однако Тёмный Лорд безжалостно намекнул, что Маркусу давно пора расширять свои горизонты, и он, скрепя сердце, сперва отправился на ночную выставку современной волшебной живописи какой-то французской художницы, имя которой ему не говорило практически ни о чём, и выскочил оттуда, пламенея щеками, с крамольной мыслью, что некоторые сюжеты в маггловской неподвижной живописи смотрятся куда приличнее, скромней, и, чего же лукавить — уместней.
Затем были марки, потом монеты — кажется, среди нумизматов он видел даже парочку гоблинов — но каждый такой поход для Маркуса, чувствовавшего себя в окружении большого количества незнакомцев до ужаса неуютно, был сродни тяжёлому испытанию, и он возвращался домой усталым, вымотанным и несчастным. Ему хотелось закрыться в своём коттедже и не просто не выходить никуда ближайшие пару дней, но даже не вылезать из постели; забыть о нерешительных гостях у своей калитки, и уродливом пульсирующем клейме на своей руке.
Слушая о его злоключениях, Долохов в шутку иногда называл его эрзац-злодеем, и именно им Маркус себя последнее время и ощущал. Он уже и сам не знал, зачем ему всё это нужно, и вперёд его вёл исключительно страх. Но даже этот его страх начинал уже притупляться, и вчерашним вечером Маркус позволил себе настоящий бунт. Может быть, дело было в усталости, а может в том загадочном и необычном тумане.
— Если видишь ползущий на берег туман, то у нас на Оркнеях вслед за ним появляются и вардогеры, — поделился со всеми Роули. — Да, и в принципе, по любой непогоде.
— Это ещё что за твари? — заинтересованно уточнил Долохов, питавший к самой разнообразной нечисти подлинный интерес.
— Наш местная разновидность этого вашего доппельгангера, — охотно пояснил Роули, отводя своего короля из-под наметившейся атаки. — Атлантика же, кто в море выйдет не вовремя, кто на метле угодит в шторм… Вот родичам такие чаще всего и являются — и двигается ведь словно оригинал, и пахнет, а коснуться нельзя; вроде и говоришь как с простым человеком, и только потом начинаешь соображать. Но чаще, если такой и является, то обычно впереди самого человека, а значит, есть ещё кому возвратиться, или уже точно некому. Далековато, конечно, для вардогеров от побережья, но вдруг, — он посмотрел на Малфоя, — забрёл случайно, предупредить что в бурю мол ты уже попал, но может и выплывешь.
Малфой от этой успокаивающей идеи почему-то с окаменевшим лицом сложил пополам газету и странно на него посмотрел.
Маркус тоже представил вдруг, как бы его желудок похолодел, окажись он сам на метле в какой-нибудь ураган, а ведь он даже в не слишком ветреную погоду мётлам не доверял. Но именно эту стылую сосущую пустоту внутри он и испытывал сегодня с того момента, как спустил утром босые ноги с постели, и от осознания ожидающих его неприятностей перестал ощущать ими пол.

Вопреки сложившимся в его отношении стереотипам, ни высота, ни скорость Маркуса нисколечко не пугали. Его смущала сама метла. Она казалась ему ненадёжной, капризной и неустойчивой, к тому же давила в самых неудобных местах, и это уже не говоря о ветре! Любой, даже самой лучшей метле он предпочёл бы хороший ковёр-самолёт, репрессированный родным Министерством, на его взгляд, абсолютно безвинно; но ещё лучше было бы сесть в карету, где точно не будет дуть, а видами можно было наслаждаться до самых сумерек и из окна. Вот в сумерках Маркусу было куда тревожней — именно темнота была тем, что внушало ему настоящий страх. Маркусу всегда, практически до изжоги, бывало страшно от той липкой и ледяной неизвестности, что несла с собой подступающая к нему темнота — ведь в ней наверняка что-то пряталось, и оно непременно хотело с ним что-то сделать.
Впрочем, перспектива того, что с ним что-то сделает уже при дневном свете Лорд, пугала его ничуть не меньше, и то, что неотвратимое воздаяние отложилось до вечера, немного его обнадёжило, потому что бояться сильнее он уже просто не мог.
Нет, нельзя сказать, что тяга их повелителя к праздникам была нездоровой или лишённой остатков здравого смысла, как об этом иногда неосторожно ворчал раздражённый Северус. Маркус даже мог бы это запросто обосновать и с точки зрения астрономии, и истории магии, и даже прикладной теории волшебства, но это никак не меняло того удручающе обидного факта, что дни эти оказывались испорчены безвозвратно. Сперва Лорд собрал их на Хэллоуин, а ведь у Маркуса были такие планы на запеканку с тыквой! Затем было нервное Рождество, и всю святочную неделю, к нему приходили с обыском. Ну вот стоило ли даже рассчитывать, что и на Майский день(1) обойдётся?
Для волшебников этот праздник всегда был особым, и не только потому что числился в календаре выходным. Майский день праздновали везде, по всей Европе — сперва устраивали чудесные фестивали в саму ведьмовскую ночь, а затем уже днём можно было отлично повеселиться под майским деревом(2). В гуляниях Маркус участия обычно не принимал — да и с кем бы ему туда было выбраться, если Северус гонял студентов по коридорам, а Ойген... Ойген был заперт на холодном и мрачном острове в самой жуткой тюрьме, и от этой мысли Маркусу всегда становилось больно. И даже теперь, когда они снова встретились, всё равно не имели возможности провести это время втроём, потому что у Тёмного Лорда обнаружились планы на вечер, и Маркусу снова выпала честь обернуться в злодейский плащ и заняться чем-то максимально подозрительным до утра. Маркус перебрал всё подозрительное в голове и со вздохом вытащил из стопки потёртое приглашение на ночные закрытые чтения квиддичных альманахов за шестнадцатый век.
Ох, он бы ещё понял семнадцатый, на который, с одной стороны, пришёлся Статут и всяческие запреты, а с другой — чемпионат из сугубо европейского развлечения стал открытым для участников со всех континентов. Но шестнадцатый — не было в истории волшебного спорта ничего скучнее; даже свинцовые бладжеры ситуацию не спасали, зато магию во время игры применять, конечно же, запретили! Но выбор у Маркуса был невелик, верней, его просто не было. Впрочем, публика в Ипсвиче обещала собраться самая пёстрая, что, конечно же, добавляло подозрительности на чашу весов, но у самого Маркуса вызывало лишь тяжкие и печальные вздохи.
Собирался он неохотно, и пока стрелки часов медленно ползли к десяти, Маркус то и дело говорил себе, что времени у него предостаточно: сперва он дочитает вон ту главу, исправит пару своих заметок и непременно расставит тома о волшебных рептилиях по порядку, не лежать же им на столе… Но всё же ему пришлось сменить свой халат на самую мрачную мантию, что попалась ему на глаза — одну из двух чёрных в его гардеробе, которые могли пригодиться по случаю похорон, или, как это и вышло, возвращения Лорда. Почему-то и то, и то роднило кладбище, но Маркус старался не думать о таких вещах лишний раз.
Он сунул в карман носовой платок, водрузил шляпу на голову, а затем, подумав, прихватил новый портфель. С этим чёрным портфелем со стальными посеребрёнными пряжками он даже себе казался уже не подозрительным, а зловещим, пусть и совсем чуть-чуть. Ах да, нельзя, нельзя забывать о перчатках! И конечно, самое главное — как и всякому порядочному злодею со страниц беллетристики ему требовалась запоминающаяся деталь. Маркус открыл шкатулку и увенчал большой палец левой руки массивным перстнем, испещрённым мистическими символами по ободку; «Cатор-арепо-тенет-опера-ротас»(3) прочитал он на полустёртой печати и вздохнул. Старинное серебро поверх чёрной замши смотрелось загадочно и эффектно, но Мерлин, как же ему каждый раз было неудобно с этой штуковиной! Ну, хотя бы покусанным ему быть не грозит…
Маркус взглянул на своё отражение в зеркале и остался вполне доволен, но вот когда он выглянул из окна, его уверенность пошатнулась. Не видно было практически ничего — туман в сгустившейся темноте был такой плотный, что впору было решить, что кто-то заколдовал коттедж. Нет, если он выйдет и аппарирует со своего крыльца в таком тумане, нерешительные гости под деревом могут его, чего доброго, не заметить, и всё это потеряет смысл… Да и выходить на крыльцо ему совсем не хотелось. Но можно ведь было даже не выходить: достаточно было спуститься вниз, зачерпнуть дымолётного пороха, и произнести «Дырявый котёл» — в конце концов, его камин тоже был сейчас под пристальным наблюдением. Именно так Маркус и поступил, не найдя для себя ничего лучше.
По случаю праздника народу в душном зале собралось много, и даже яблоко не нашло бы места, куда упасть. Было ужасно шумно; разговоры, смех и стук кружек слились для Маркуса в монотонный однообразный гам. Пахло жареным мясом, элем и чесноком, а под потолком витали клубы разноцветного табачного дыма — в общем, старый паб сегодня вмещал в себя всё, что могло бы причинить Маркусу дискомфорт — и, оно конечно же, причиняло. Обменявшись неловкими приветствиями с барменом Томом и какими-то шапочными знакомыми, Маркус взмолился Мордреду и Моргане, чтобы его «почётное сопровождение» успело его догнать и фактически спасся бегством из этого круга ада, выскочив через дверь с маггловской стороны.
В Лондоне туман был пока не таким густым: Чарринг-Кросс-роуд была, скорее, затянута лёгкой дымкой, оседавшей на булыжники и асфальт водяной пылью. После душного паба Маркус с наслажденьем втянул прохладный вечерний воздух и почувствовал на кончике языка сладкий привкус розового варенья, а затем до него донёсся слабый аромат роз и дыма. И чего только не наколдуют, подумал он, дойдя до Шрафтсберри-авеню и не встретив по пути ни одно человека: магглов будто книззл языком слизал, но Маркуса это как раз не расстраивало. Удручало его иное: с каждым пройденным футом сомнительная в своей ценности перспектива квиддичных полуночных чтений казалась Маркусу всё тоскливей, в то время как смутное ощущение, что ужин был слишком давно, царапало его изнутри. Он снова и снова убеждал себя, что ему придётся слегка потерпеть, цепляясь за зыбкую перспективу фуршета; в конце концов, твердил себе Маркус, не могут же посвятившие квиддичу эту ночь колдуны лишить его хотя бы традиционных солёных орешков и крекеров!
Из груди Маркуса вырвался тяжкий вздох: Мордред и все его полукровные братья-рыцари, как же ему не хотелось сейчас в этот ужасный Ипсвич! Ему хотелось, к любимому креслу, книгам и чайному столику — но не мог же он просто взять и вернуться! Никак не мог, как бы сильно он ни хотел: он не мог нарушить приказа Лорда, и это неожиданно вывело его из себя. Да сколько можно над собой издеваться? Если так посмотреть, ничего страшного не случится, если Маркус заглянет сперва куда-то ещё и подкрепит свою верность и чего уж, решительность; за какие-то полтора часа ничего с шестнадцатым веком ведь не случится, если только невыразимцы снова что-то не натворят со временем.
К тому же, он всё равно был почти что на месте: если свернуть вот здесь, то до квартала Мэйфейр пешком было не более двадцати минут. Но идти через неспящий наполненный магглами ночной и слепящий витринами Сохо Маркусу совсем не хотелось. Он бы мог решиться на подобное приключение, будь с ним Ойген, но тот, во-первых, числился в розыске, а во-вторых, наверняка уже крепко спал, или просто пытался согреться от холода Азкабана способом, о котором Маркусу было думать неловко. Он неуверенно оглянулся, надеясь, что его провожатые не отстали, и, придержав шляпу, с хлопком аппарировал, уверенный, что его-то след они наверняка смогут взять.
И так же с хлопком возник на пересечение Брук-стрит и Эйвери-роу — Ойген, когда они здесь бывали, всегда любил пошутить о целой улице, названной в его честь. Возможно, Маркусу только лишь показалось, что туман словно бы стал плотней, но ему и не нужно было практически никуда идти — он уверенно подошёл к небольшой мрачной арке, зажатой меж двух бутиков с каким-то странными маггловскими товарами. Тёмная позолота, покрывавшая старую дверь, выглядела зловеще в свете неоновых вывесок, но Маркус решительно постучал кончиком своей волшебной палочки о дверной колокольчик.
Хрустальный глаз в треугольнике на двери повернулся и пристально на него уставился; мигнул раз, другой, словно оценивая ночного гостя — а затем дверь распахнулась, и Маркус оказался будто в другой стране: на него выплеснулась Италия, и он отважно шагнул ей навстречу.
Здесь, за дверью, было светло и пахло цветами, а невысокий смуглолицый хозяин с густой шапкой тёмных кудрей и пышными усами под внушительным носом уже приветствовал Маркуса, словно тот член семьи:
— Бенвенуто, синьоре Эйвери! Какой счастливый вечер! — размахивал он руками.
Это прозвучало настолько тепло и так по-южному экспрессивно, что Маркус сам невольно заулыбался в ответ:
— Буонасера, синьор Орсато, — снимая шляпу, Маркус пожал руку хозяину, вернее позволил трясти свою — будь тут Ойген, они бы наверняка уже обнимались — а затем позволил увести себя в зал. Большинство столиков этого итальянского ресторанчика по случаю праздника были заняты, и вокруг звучала быстрая итальянская речь.
— Календимаджио!(4) — воскликнул синьор Орсато, обводя зал рукой, пока они лавировали к единственному свободному столику, покрытому белой в красную клетку скатертью. — Маркус успел лишь кивнуть в ответ, прежде чем был усажен на сплетённый из соломы стул с мягкой подушкой на сиденье. — Сегодня такая ночь! У нас по этому случаю тематические десерты.
— И чем вы можете меня удивить? — с любопытством поинтересовался Маркус, даже не пытаясь открыть меню.
— Будь я на вашем месте, я бы отдал предпочтение семифредо, — тут же ответил хозяин, кому-то кивая и улыбаясь, при этом продолжая беседовать с Маркусом. — И, конечно, ореховый пьемонтский пирог… они… беллисиме… гранди… чудесны, синьоре Эйвери, как первый поцелуй юной красавицы на рассвете!
Маркус всерьёз задумался над дарами майских календ, и пучина сомнений могла бы его поглотить, но он недрогнувшею рукой отмёл любые свои колебания в сторону:
— Несите и то и то, — в конце концов, решил он, семифредо — это почти мороженое! А значит, прекрасно сочетается с пирогом. Да.
Синьор Орсато прищёлкнул пальцами — и едва Маркус стянул перчатки, на стол перед ним опустились две белые фарфоровые тарелки, и он сглотнул. О да! Это был трепет, смешанный с пьянящим восторгом. Ещё никогда он не был так рад оказаться настолько правым — ведь как можно было выбрать между восхитительным, заставляющим замирать дух семифредо, на сливочной холодной глади которого распускался вишнёвый цвет, а затем вызревали вишни без косточек, и куском орехового пирога, пропитанного ореховым же ликёром? Стоило тарелке коснуться стола, и, к полному восхищению Маркуса, из него пророс куст орешника с крохотным листочками, на котором быстро завязались, а потом и выросли грозди самых настоящих лесных орешков, заключённых в шоколадную скорлупу.
Это торжество жизни в миниатюре подарило Маркусу чудесные полчаса, или, может быть, даже час, учитывая, что чайник ему приносили дважды. Маркус наслаждался десертами, чаем и атмосферой праздника; он позволил себе забыть о том, что скоро ему придётся снова нырнуть в холодный и вязкий туман, а затем полночи со скучающим лицом соглашаться, что шестнадцатый век был для квиддича действительно «золотым». Ах, как хорошо ему было здесь! Если бы ещё он был не один, а хоть с кем-нибудь из друзей… но сейчас это было решительно невозможно, и Маркус этой ночью старался радоваться за них всех.
Однако праздник неуклонно приближался к своему финалу и Маркус, расплатившись и оставив привычно щедрые чаевые, с тревожным и тянущим чувством в душе покинул гостеприимный уголок Италии в туманном и сером Лондоне, вышел на улицу и вновь окунулся в сырую плотную пелену. Туман за это время сгустился ещё сильней: клубясь у ног, он наводил на мысли о призрачных взбитых сливках, и Маркусу отчаянно не хотелось заходить в него глубже. Там, в белёсой мгле, ему мерещились какие-то зловещие тени, а любители средневекового квиддича в далёком и смутном Ипсвиче рисовались ему безликими и неприятными, какими-то даже карикатурными чудаками, от которых противно сосало под ложечкой.
Он не хотел, не хотел всего этого, не хотел отправляться туда, не хотел натягивать на руки перчатки и цепляться проклятым перстнем за всё! Да Мерлиновы поношенные кальсоны, сколько он должен всё это ещё выносить, возмутился Маркус в приливе храбрости.
Это был бунт, да, самый настоящий и неприкрытый бунт против всего, что ему было навязано, и Маркус бунтовал единственно возможным для него образом: шагнув прямо в туман, он аппарировал вовсе не в Ипсвич, а на собственное крыльцо, а затем решительно отпер дверь, поднялся наверх, неспешно разделся, и с мстительным удовольствием сперва устроился в ванной читать; а затем переоделся в пижаму и завернулся в любимый халат.
— Игнорируя мудрое повеленье природы вовремя предаваться сну, человек, без сомнения, борется с порядком всего мироздания и в особенности с самим собой. — процитировал Маркус одного несправедливо запрещённого излишне консервативным Визенгамотом флорентийского чернокнижника и лёг спать пораньше, наплевав на Лорда и все его поручения. И даже не задумался в тот момент, что его нерешительные гости могли отстать от него в тумане и не вернуться под обжитое ими дерево.
Этой ночью Маркус спал спокойно и крепко, как спят люди, пребывающие в гармонии с самими собой, однако стоило ему пробудиться, вся его решительность улетучилась вместе с остатками сна. Маркус лежал в постели, смотрел в окно, за которым до сих пор так и висел туман, и тоскливо содрогался от мыслей, что же с ним теперь будет. Но что толку было лежать и страдать — хотел он этого или нет, а ему всё равно придётся предстать пред багровеющими очами Лорда. И лучше сделать это сейчас, чем мучиться ещё много часов, изводя себя ужасами грядущего наказания за своеволие и вероломство.
Маркус спустил ноги с постели, едва ощущая пол, нашёл домашние туфли и, посмотрев на часы со вздохом приговорённого, отправился собираться. От привычного домашнего завтрака он решил отказаться в пользу утреннего приёма пищи в гостях, и в половине девятого аппарировал к воротам Малфой-мэнора прямиком из гостиной.
Туман стелился у его ног и заливал всё вокруг, словно кто-то опрокинул на ухоженный парк молочник; Маркус постучал о кованую решётку палочкой, как делал это всегда, и створки ворот перед ним распахнулись. Он шёл по исчезающей перед ним буквально в паре шагов дорожке нарочито медленно, словно дышал прохладным уилтширским воздухом последний раз, словно последний раз шуршал гравием под ногами. И ему одновременно было тоскливо, и неестественно обречённо легко.
Как всегда, вежливый старый Гридди дожидался его у парадной двери — Маркус был препровождён им в столовую, и уже без четверти девять уселся за стол, за которым обнаружился один только Роули, уничтожавший с задумчивым видом омлет. С ним-то они и позавтракали, беседуя о странной погоде, а затем вместе отправились в библиотеку, дожидаться высочайшей аудиенции. Вскоре же в библиотеку подтянулись и остальные, не считая тех, кто уже был там.
А потом странности начали множиться одна за одной, и Маркус не успел над ними как следует поразмыслить, когда его снова втянули в спор.
— Нет, подменышей мы считать будем, — разумно возразил Роули, — Люциус ты уж прости, но младенчество ты, кажется, перерос. И что ещё остаётся?
— Эйв, выручай, — позвал его Ойген, беспомощно разводя руками. — Что-то я из школьного курса больше и не припомню, разве что, кажется, ещё читал про каких-то там египтян…
— Это называется Ка, — ответил Маркус. — Одна из составляющих каждого человека. Но Египет от нас далеко, зато у нас водятся фэчи — их ещё называют фатами, — шотландские рейты, сваты в Нортамберленде, и кажется, ещё фэи и таски, но, по-моему, это просто уже другая классификация… Трудно сказать… — Маркус задумчиво намотал свой кудрявы локон на палец, подёргал его, а затем решился поднять самый, как ему казалось, важный вопрос, который почему-то все упускали: — Наверное, это с моей стороны не слишком тактично, но может быть, вместо того, чтобы мы продолжали гадать, нам стоит спросить, как именно это было у Люциуса?
— Может быть, просто призрак? — поддержал его Ойген. — Люциус, а ты вообще, уверен, что видел непременно себя?
Малфой нервно дёрнул уголком рта и сардонически хмыкнул. И в этот момент выраженье его лица без слов поведало Маркусу, что таинственные и необъяснимые вещи, как бы ты ни желал, иногда просто невозможно изгладить из памяти.
1) Вопреки сложившейся фандомной традиции, как таковой, Белтейн в Англии празднуют в основном всякие неоязычники. С другой стороны, там ещё в средние века сложилась традиция праздновать наряду с Пасхой и Рождеством Майский день (англ. May Day). Его празднуют в первый понедельник мая, который в Британии является официальным выходным.
Бесспорно, на празднование Майского дня наложились и кельтские праздники плодородия, но нельзя не забывать, что кельты были далеко не единственным этносом, оставившим свой культурный вклад, и даже исследователи теряются, что же первоначально легло в основу Майского дня. Зато согласно историческим источникам мы знаем, что уже к XVI и XVII веках это прочно сложившаяся традиция, включающая в себя установку Майского дерева, выбор Королевы Мая и, конечно, стоит упомянуть о Зелёном Джеке (англ. Jack-in-the-Green), без которого этот праздник нельзя представить.
2) Майское дерево (лат. Arbor majalis, англ. Maypole) — украшенное дерево или высокий столб (на вершине которого может быть установлено колесо), который по традиции устанавливается ежегодно к Майскому дню, на Троицу или Иванов день на площадях в деревнях и городах большинства европейских стран, включая даже наши палестины. Вокруг дерева обычно устраиваются хороводы и проводятся состязания. Традиция установки майских деревьев в Европе имеет древние корни и восходит к римским флоралиям.
Самое высокое майское дерево было установлено в Лондоне в 1661 году и достигало 130 футов (39,6 м), в Стрэнде, но в 1672 году оно было повалено ветром, а в 1717 году, его приобрёл Исаак Ньютон и использовал его для поддержки линзы своего телескопа. Магическая общественность была просто возмущена, но Статут, принятый в 1692 году не позволил им выразить свой протест публично.
3) SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS — известный палиндром, составленный из латинских слов и обычно помещённый в квадрат таким образом, что слова читаются одинаково в любом направлении. Он часто ассоциировался с ранними христианами и использовался как талисман либо заклинание: например, в Британии его слова записывали на бумажную ленту, которую затем оборачивали вокруг шеи для защиты от болезней, в частности от бешенства и покусания дикими животными и собаками.
Чаще всего фразу переводя с латинского так: sator — сеятель, землепашец; arepo — выдуманное имя либо производное от arrepo (в свою очередь от ad repo, «я медленно двигаюсь вперёд»); tenet — держит, удерживает; opera — работы; rotas — колёса или плуг. В законченном виде фраза звучит приблизительно как: «Сеятель Арепо управляет плугом (колёсами)».
Впрочем, её толкование является предметом многочисленных спекуляций. Согласно одной из версий, квадрат использовался ранними христианами как смысловой аналог «альфы» и «омеги». Кроме того, он также истолковывается в качестве анаграммы для «Отче наш» (лат. «Pater noster»), но волшебное сообщество с этим категорически не согласно.
Наиболее ранние находки — две выцарапанные надписи — были обнаружены на руинах древнеримского города Помпеи, уничтоженного в результате извержения вулкана Везувий в 79 г. н. э.
4) Если англичане празднуют Майский день, то итальянцы — Календимаджио (ит. Calendimaggio). Это сезонный фестиваль в честь весны. Берёт своё название от «календ мая» периода, в котором оно происходит, согласно с римским календарем.
Эта традиция, всё ещё живая сегодня во многих регионах Италии как аллегория возвращения к жизни и возрождению: среди них Пьемонт, Лигурия, Ломбардия, Эмилия-Романья (например, его отмечают в районе Четырёх провинций, или Пьяченца, Павия, Алессандрия и Генова), Тоскана (горы Пистоя), Умбрия , Марке и Молизе.
В разных регионах традиции отличаются. но одна из самых устоявшихся — во время празднования в обмен на подарки (традиционно яйца, вино, еду или сладости) маггианти (или магджерини) молодые люди поют обитателям домов, которые они посещают.
Даже попытайся Люциус избавиться от этих воспоминаний, они бы оставили вместо себя пустоту, одних очертаний которой достаточно было бы для того, чтобы он мучительно содрогнулся. Наверное, именно такие события и запоминаются навсегда, или же, наоборот, опускаются в мрачную темноту сознания, чтобы однажды с прежней силой вернуться.
Полночь он привычно встретил в своём кабинете. «Бом-бом-бом» — в углу натужно начали бить часы, отсчитывая двенадцать ударов, и Люциус поймал себя на предательском чувстве, что этот монументальный фамильный монстр, служивший его семье не одно поколение, делает это сегодня уже не впервые. Впрочем, ощущение мрачного дежавю настойчиво преследовало Люциуса все последние месяцы. Он словно бы попал в один из этих ночных кошмаров, зациклившихся внутри себя, и никак не мог достичь кульминации, не то, что приблизиться хоть на шаг к развязке. Ах, как бы было чудесно, открыв глаза, просто увидеть собственный потолок вместо его нависающего над их с Нарциссой постелью зловещего двойника, до последнего треснувшего завитка лепнины похожего на оригинал, и в то же время чужого.
Люциус тонул в этом вязком, как смола, ужасе, жившем не только в его голове, но прораставшим как чудовищный паразит по всему его телу: ему было страшно за собственную жену, мучительно страшно за сына и самого себя. Этот страх питался изматывающей неопределённостью, в которой по милости Люциуса оказалась его семья, и свинцовым чувством вины, неуклонно тянувшим его на дно трясины. И чем крепче этот страх обживался внутри него, тем сильней доводили Люциуса до изнеможения обязанности, возложенные на него Тёмным Лордом.
О, он бы радостью отдал треть своего состояния за возможность уступить честь принимать у себя повелителя кому-то ещё! Повелителя и, конечно же, его свиту, которую лишь чудовищным усилием воли Люциус с отвращением не назвал вслух «зверинцем». Тем не менее Лорд без труда прочитал эту мысль по его лицу, о чём и сообщил всем, и Люциусу пришлось, наступив на горло фамильной гордости, склониться в самом низком из подобострастных поклонов, чтобы избежать наказания за свою непочтительность. Полные боли крики несчастного Маркуса Эйвери, корчащегося на земле, всё ещё стояли в его ушах, и никто бы в своём уме не хотел оказаться на его месте.
Впрочем, змеёй и крысой Лорд Судеб, конечно, не ограничился. В Святочную неделю он изволил окружить себя обществом куда более подходящим, чем та кучка разжиревших и размякших предателей, трусов и подхалимов, за чей счёт он почему-то жил. Никто эту мысль, конечно же, не озвучил — предатели, трусы и подхалимы отнюдь не горели желанием рисковать благополучием ни своих близких, ни собственным; хотя среди них до сих пор находились и жадные до будущей власти ограниченные дураки, но показывать пальцем на Селвина было бы невежливо и неловко.
Когда «подходящее общество» немного пришло в себя, а в Малфой-мэнор пережил третий по счёту обыск, Люциусу пришлось расширить рамки понятия «гостеприимство» до пределов, отчётливо затрещавших по швам. Но где ещё можно было бы всех поселить? И потом, некоторые из этих людей были ему не чужими: мог ли он взять и выставить свояка вместе с женой и братом, если они не имели возможности вернуться в свой дом?
Формально они всё ещё оставались его семьёй, но тринадцать лет — это очень и очень долго: за прошедшие годы в глубине души Люциус привык принимать во внимание и считать «своими» совершенно других людей, и речь шла даже не о жене и сыне. Мерлина ради, тот же окончательно одомашненный и увязший в семейном быту Торфинн Роули, с которым они c натяжкой могли бы считаться родственниками через двоюродную сестру Нарциссы, был Люциусу понятнее и ближе сейчас, чем та толпа зловещих узников Азкабана, практически утративших человеческие черты. С Роули они не один год вели дела и похоронили почти что общую для них обоих тёщу, но что могло роднить Люциуса теперь с остальными? Разве что уродующая их руки метка и внезапно воскресший Лорд.
В какой-то степени ему даже стало стыдно перед Нарциссой: она после стольких лет смогла вновь обнять сестру… но он слишком её уважал, чтобы притворно радоваться, что Беллатрикс поселилась в лучшей из гостевых спален на неизвестный срок. Одно дело принимать родственников в гостях, и совсем другое — жить с ними под одной крышей. Когда спустя две недели он мучительно подбирал приличествующий эвфемизм к «одержимой Лордом безумной стерве, почти запытавшей домовика» — как будто у них были лишние! — Нарцисса просто взяла его за руку, а потом обняла. Ей и не нужны были никакие слова, чтобы понять обуревавшие Люциуса в тот вечер чувства.
Наверное, кто-то, не слишком хорошо знавший Люциуса, мог бы сказать, что понятие братской любви ему, в силу его характера или же воспитания, недоступно: в конце концов, он был единственным сыном собственного отца; быть может, он и сам предпочёл бы ответить подобным образом… Но, семьёй, настоящей семьёй, особенно в эти смутные времена, для него был и всегда оставался Уолли. Возможно, с Уолденом МакНейром они и не были связаны через родство, но то, что меж ними выплавлялось, закалялось и крепло даже дольше, чем Люциус был женат, давно уже стало прочней и надёжней дружбы.
Малфои не дружат. Но сколько бы Люциус ни твердил в шутку семейное кредо, Уолдену он был готов доверить самое дорогое, и ему не нужно было оборачиваться, чтобы знать, что его спина всегда прикрыта самой надёжной бронёй. Без условий, вопросов и колебаний. Иногда Люциусу казалось, что подобной преданности он просто не заслужил, но он никогда не оскорбил бы Уолли своими сомнениями.
Им на двоих хватило и дюжины вполне всем известных слов, чтобы целиком осознать, что означала день за днём наливавшаяся болезненно-алым(1) Тёмная Метка на их руках. Эта ошибка двадцатилетней давности, столь же неумолимая, как чума, или драконья оспа — её-то он видел вблизи во всём ужасе и уродстве.
Люциус терпеть не мог вспоминать погожий июньский вечер, когда этот гнойный нарыв прорвался, и метка, наконец, ожила, окрасившись в угольно-чёрный. Он собирался словно во сне, и Нарцисса сама подрагивающими руками застегнула на нём чёрный плащ. В последний момент Люциус вдруг забыл, куда же положил маску: её он забрал из своего хранилища в банке какое-то время назад, и она то и дело норовила попасться ему на глаза, а сейчас словно в небытие канула. Когда он начал бездумно метаться по спальне, только прикосновение его жены заставило Люциуса снова взять себя в руки и проверить прикроватную тумбочку.
Он абсолютно отвык от маски за эти годы: под ней чесалось лицо, а ещё в ней было откровенно душно и неудобно; хотя то, что она закрывала ему часть обзора, было, как позже смог убедиться Люциус, даже отчасти благом. Мерлин, ему уже далеко не двадцать, может быть он просто её… перерос? Действительно, как давно он уже перерос эти ночные шабаши, предпочитая вести свои дела днём: от кого, ну от кого ему, Люциусу Малфою, было скрываться?
Нарцисса накинула ему на голову капюшон, и он вдруг осознал, что физически не способен разжать пальцы и опустить её ладонь. Чтобы остаться с ней, Люциус бы не пожалел руки, которой от боли, пронзающей до костей, едва ли мог шевелить. Увы, его левая рука ставкой в той игре не считалась — всем остальным частям Лорд предпочитал головы. И Люциус не мог, просто не мог рисковать никем из членов своей семьи, и он аппарировал на зов того, кого ему вновь придётся звать «Повелителем», в леденящую неизвестность.
Кладбище.
Заросшее кладбище где-то в Центральной Англии — сложно представить себе более подходящие декорации для возвращения из загробного небытия. Густая трава и ряды терявшихся в темноте могил с мраморными надгробьями; справа за огромным тисом чернел силуэт небольшой церкви, слева на холме высился особняк, и в центре этой готической композиции раскинул крылья скорбящий ангел, к которому был привязан тощий, перемазанный землёй и кровью подросток, так хорошо знакомый Люциусу. Котёл и скулящего оборванца, баюкающего обрубок руки, Люциус почти не заметил — всё его внимание было обращено к высокой фигуре, похожей на обтянутый кожей живой скелет и он не мог отвести взгляда от пылающих алым нечеловеческих глаз с вертикальными как у кошки зрачками.
Маска и капюшон не позволили Люциусу понять, кто сломался, а может, просто сориентировался быстрей, но вскоре уже все они, лучшие и достойнейшие члены волшебного общества, пали перед этим существом на колени. Пали и поползи, чтобы поцеловать край мантии своего повелителя, а затем, дождавшись молчаливого разрешения, найти в себе силы подняться на ноги и занять место в кругу. Это было мерзко, страшно и унизительно, впрочем, страх перевесил в тот момент практически всё остальное.
— Тринадцать лет... прошло целых тринадцать лет со дня нашей последней встречи, — произнёс Тёмный Лорд, и Люциус с огромным трудом не оглянулся в поисках разорённой могилы, из которой тот наверняка вылез. Холодный и властный голос заставил Люциуса буквально прирасти к месту, как и чудовищная змея, скользившая у его ног. Да, их повелитель снова был живей всех живых, и не мог не задаться вопросами, ответы на которые ему были и так известны:
— Я чую вину, — он запрокинул к небу своё страшное, будто смерть, лицо, и с шумом втянул ночную прохладу. — Воздух насквозь провонял виной.
Пожалуй, с какой-то нездоровой иронией решил Люциус в тот момент, его вина должна была бы иметь особый, неподражаемый аромат фиаско и вытянутого носка. Если бы они стояли с Уолли плечом к плечу, Люциус куда быстрее смог бы взять себя в руки, но рядом с ним зияла выразительная пустота — Лестрейнджи на этот праздник жизни прибыть не могли при всём их желании. Уолли, видимо, появившийся позже самого Люциуса, обнаружился на другой стороне рядом с рослой фигурой Крэбба: стоял, напряжённо сжав кулаки, с пустыми глазами. Почувствовав, что он не один, Люциус сумел заставить свои губы произносить какие-то оправдания, когда Лорд направил своё внимание на него. Он только краем сознания воспринимал какие-то обвинения, поздравления и упрёки за подвиги на прошлогоднем Чемпионате мира, и всё это время ощущал тошнотворное давление в голове. Наверное, реши Лорд в назидание остальным убить его каким-нибудь изощрённым способом, Уолли вряд ли смог бы сделать хоть что-нибудь, но пережидать эту бурю вдвоём, было легче… если бы это не значило, что на дно Уолли пойдёт вслед за ним.
Люциус терялся в догадках, репетировал ли их повелитель свой обличительный монолог на протяжении всех этих лет, проговаривая его самому себе раз за разом, или же, как это бывает с безумцами, зловеще импровизировал, но лишь вбитое в него воспитание позволило Люциусу сыграть роль преданного слуги, и в нужных местах подавать охваченному леденящим кровь вдохновением повелителю хоть какие-то сообразные реплики о событиях прошлых лет.
Остальные покорно внимали, и Люциус достаточно хорошо знал каждого из стоящих в кругу, чтобы представить выражения скрытых за масками лиц. Лица Уолли он тоже не видел, зато мог проследить, куда направлен его пустой и тяжёлый взгляд, и лишь тогда заметил в густой траве неподвижное тело; лучше бы он к нему не присматривался.
А затем им было предложено развлечение, от которого никто не мог отказаться. Когда мальчишка Поттер бился в верёвках под Круцио, хохот стоял оглушающий; когда он вставал, с трудом опираясь на ногу, ему подбадривающие кричали и улюлюкали; и когда он сражался на этой нелепой дуэли, со смехом толкали обратно в круг. Люциус не смеялся. Пусть его губы сардонически и ядовито кривились, но это была отнюдь не насмешка: в те минуты Люциус Малфой испытал приступ разъедающего желудок стыда. Нет, совсем не перед мальчишкой — на него Люциусу было плевать; ему было стыдно перед самим собой за то, что четырнадцатилетний пацан, ровесник его же сына, оказался куда достойней, храбрей и находчивее их всех. Никто не ждал, что он вообще станет сражаться, и что у него будет хотя бы шанс. Люциусу ещё не доводилось видеть, чтобы кто-то сумел настолько быстро сбросить Империо, и уж тем более он не ожидал такой прыти.
И всё-таки чудеса происходили прямо на их глазах: когда бившемуся на пределе собственных сил мальчишке на помощь пришли даже мёртвые, Люциус испытал почти суеверный страх. Мужчины, женщины, дети — серые тени кружили вокруг повелителя внутри сияющей золотом паутины неведомых чар, и взрослые опытные волшебники, такие, как он, просто не знали, что делать.
Мальчишке хватило мгновения, чтобы воспользоваться моментом и оставить в идиотах их всех. Когда он исчез вместе с мёртвым телом Седрика Диггори, первой невинной жертвы этой новой войны, Люциус решил, что в могильной земле этого всеми забытого места останутся лежать все они.
Он кожей ощущал ледяную безудержную ярость, волнами расходившуюся от Лорда и практически не чувствовал от ужаса онемевших рук. Повелитель зашёлся безумным хохотом, окрашенным истерическими оттенками, а затем с задумчивым и каким-то извращённым спокойствием вновь посмотрел на них:
— Бездарности, — холодно произнёс Лорд. — Ни на что не способны. Впрочем, я и сам оказался самонадеян. Уходим, пока сюда не явились крысы из Министерства, но сперва приберитесь здесь, — распорядился он, указав на котёл, и аппарировал, прихватив свою тошнотворную свиту.
За спиной раздался тихий всхлип, и стащивший с лица маску Эйвери уселся на край надгробья. Его плечи тряслись, да и сам Люциус находился почти на грани — даже не потому, что так боялся бесславно погибнуть сам; одна только мысль, что сложись обстоятельства чуть иначе, это… существо могло направиться прямиком к ним домой, туда, где ждала Нарцисса, буквально сводила его с ума. Мордред, почему, ну почему он не отправил её погостить во Франции у родни? Тогда она была бы сейчас в безопасности. А лучше посадить их с Драко на неизвестный даже ему корабль, плывущий через Атлантику, чтобы они остались где-то там навсегда…
Наверное, единственным, что отделяло его от настоящей паники, был простой и логичный факт — сейчас, Тёмный Лорд, едва заполучив своё тело, не станет так бессмысленно рисковать. Излишне самонадеянно было бы думать о новой, посмертной форме их повелителя как о нормальном человеческом существе, и всё же, Люциус сомневался в том, что присущие человеку слабости ему удалось отринуть. Любови к пафосным монологам он не утратил ничуть.
— Люциус, — твёрдая рука легла ему на плечо, и он смог заставить себя вернуться к окружавшей его действительности. — Мы последние. И дай Мерлин, мальчишка не сразу выложит прозвучавшие здесь имена. Вот нужно же было нас так подставить!
— Будто Дамблдор их не знает, — саркастически хмыкнул Люциус. — Нам остаётся надеяться на трусость и идиотизм Фаджа, — он вздохнул и накрыл руку, лежащую на плече своей. — Уолли, ты как?
— Я не знаю. Честно. Не знаю, — Уолден стянул с лица бесполезную уже маску и безжизненно посмотрел в небеса. Звёзды сияли ярко.
Когда они избавились от последних следов ритуала, Уолден прислонился спиной к шершавому стволу тиса и какое-то время молчал, наблюдая, как Люциус восстанавливает отколотое крыло ангела.
— Люциус… дело не просто в Лорде, — он устало потёр лицо. — О нём я думать пока не могу… Но… Парень должен был выйти у нас на работу в конце июля, понимаешь? А завтра мне придётся приносить соболезнования его отцу.
Да, в ту ночь они все остались живы, однако под их спокойным и относительно мирным существованием можно было подвести черту. И за этой чертой, разделившей их жизнь на «до» и «после», Люциус оказался обречён на сжирающий его изнутри мучительный страх. Он и вполовину не боялся за себя так, как тревожился за Нарциссу, нежно, но абсолютно неумолимо отвергающую любые мысли о бегстве с их тонущего корабля. И его добрый гений оказалась, как это было всегда, прозорлива: бегство обрекло бы их лишь на бесконечное пребывание в постоянной тревоге. Жестокая и неотвратимая смерть Каркарова положила конец остаткам любых сомнений относительно его или Нарциссы будущего. Если даже неприступные стены Дурмштранга, о которые в своё время обломал зубы и Гриндевальд, не сумели защитить Игоря, на что было надеяться остальным?
Очередная насмешка судьбы — впервые Люциус искренне радовался, что его сын учился под сводами Хогвартса и защитой Альбуса Дамблдора. Как бы он ни относился к этому изворотливому старику, но при нём школа всё ещё оставался одним из самых безопасных мест в Волшебной Британии, а возможно и во всём мире. Таким, каким больше не был их дом, да и был ли он теперь вообще их домом?
Лорд почтил Малфой-мэнор своим визитом, когда шумиха в прессе несколько поутихла, и изволил остаться гостить, выразив намерение поближе познакомиться с новым поколением «чистой крови». Безысходное понимание накрыло Люциуса в один момент: однажды, и причём очень скоро, его сына ждут такие же «доверие» и «награда», что последние лет двадцать украшали его собственное предплечье. И он никак не мог этого изменить, разве что немного отсрочить, и ему оставалось лишь тоскливо недоумевать день за днём, как его супруге удаётся до сих пор избежать этой участи. Он безжалостно гнал эти мысли из головы, дабы не позволить никому за них ухватиться и гнал более чем успешно: Лорду хватало в его сознании и отвратительной стыдной жалости к самому себе, чтобы не пытаться читать его куда глубже. Однако Лорд всегда был сторонником наглядных форм убеждения, и Люциусу день за днём приходилось доказывать собственную полезность. Он словно попал в трясину, увязая всё глубже с каждым своим движением, а Лорд то ставил ему на голову свою босую ступню, с царапающими старинный паркет нечеловеческими ногтями, то снова позволял вынырнуть, жадно вдыхая воздух.
Десятки поколений Малфоев смотрели на Люциуса со стен, и он, отводя глаза, ощущал себя хозяином захваченного врагами замка, которому всего лишь позволили просто остаться здесь, но это не обманывало ни самого Люциуса, ни его предков на старых полотнах. Они молчаливо выражали потомку неодобрение, но в то же время не пытались его осудить, и уже за это Люциус был безмерно им благодарен. Даже мёртвыми, они оставались ему опорой, и именно так волшебные семьи и выживали из века в век.

1) Возможно, этот факт остался для многих за кадром, но тату у членов нашего джентльменского клуба работает как цветной индикатор на телефоне.
«Волан-де-Морт наклонился над своим слугой, дёрнул вперёд его левую руку и одним движением задрал рукав мантии выше локтя. Гарри увидел на коже какой-то знак, похожий на красную татуировку, в которой, приглядевшись, узнал Тёмную Метку, такую же, как появилась в небе во время Чемпионата мира: череп с вылезающей изо рта змеёй. Волан-де-Морт прижал свой длинный указательный палец к Метке на руке Хвоста. Шрам на лбу Гарри снова обожгла боль, а от вопля Хвоста зазвенело в ушах. Волан-де-Морт убрал палец, и Гарри увидел, что Метка стала угольно-чёрной.»
«Гарри Поттер и Кубок Огня Глава» 33.
Угли в камине уже начали остывать и подёрнулись сизым пеплом. За окном было темно, и эта темнота казалась Люциусу осязаемой, густой и словно ожившей. Из сада тянуло сыростью, ароматом цветущих роз, а ещё почему-то дымом, но сколько Люциус не вглядывался во тьму, ни огонька, ни искры в саду не увидел — туман поглотил всё, и Люциусу казалось, будто тот, ведомый чьей-то потусторонней волей, норовит вползти в кабинет. Тяжело поднявшись, Люциус покачнулся, но, опершись о столешницу, всё же устоял на ногах и закрыл окно взмахом палочки.
К полуночи Люциус был уже прилично пьян, хотя выпил не так уж много, но за ужином он практически ничего не съел, так, для вида поковырявшись в тарелке: старый Гридди был превосходно вышколен, чтобы без лишних слов знать, когда хозяину следует поменять прибор, не привлекая внимания.
Как-то Трэверс, будучи в одном из своих особенных состояний, поделился, что в китайском аду насчитывается двенадцать тысяч восемьсот преисподних — для каждого вида греха. Наверное, когда-то в будущем Люциус, может быть, и хотел бы приобщиться к культуре востока глубже, но не думал, что это знакомство начнётся с загробных мук, на которые вся его семья будет обречена ещё при жизни. За его глупость, гордыню и малодушие каждый вечер за накрытым столом милостью Лорда стал для Люциуса изощрённой пыткой, повторяющейся из раза в раз. И эти страдания, уготованные такому неблагодарному скользкому коллаборационисту, как он, надлежало принимать не иначе как высочайшую заслуженную награду. Или хотя бы как можно правдоподобнее делать вид. Об артистическом чувстве меры Люциус не забывал никогда: он старался быть в меру запуган, в меру подобострастен и исключительно в меру несчастлив видеть всех у себя, так, чтобы это не вызвало подозрений.
— Время для лизоблюдства, — устало шептал он Нарциссе в волосы, и она прижималась к нему щекой, а затем они снова отправлялись изображать радушных хозяев.
Да, за ужином повелитель делился своими планами, рисуя перед всеми собравшимися картину того, что им предстояло, однако делал он это широкими и скупыми мазками. Может быть, Тёмный Лорд и был безумен, но отнюдь не наивен и глуп. Он и прежде никому не доверял целиком, как не может доверять тот, кто способен заглянуть в душу и разум своих приближённых, и вытащить на поверхность самую мерзость и гниль. Эту пропасть из презрения, недоверия и, зачастую оправданных подозрений посмертие сделало куда глубже, непредсказуемей и опасней; впрочем, и в прежние времена ни один камень не способен был долететь до её дна.
На долгие и такие знакомые монологи о слабости и недальновидности Министерства, упадке общества и торжестве чистокровных идей Лорд решительно не скупился. Он много и с удовольствием, бесконечно свойственном тем, кто долгие годы был лишён хоть какой-то аудитории, разглагольствовал, что время таких полных ложными идеалами дураков, как Дамблдор и кучка его беззубых и не годных ни на что магглолюбцев, заканчивается. И в каждой речи, в каждом его обращении лейтмотивом звучало то, что мальчишка Поттер доживает последние дни и исчерпал свой запас удачи.
Что же касалось деталей… О деталях Лорд говорил лишь с теми, кому о них надлежало знать. Как Люциус ни пытался сложить все кусочки этой мозаики воедино, пятен, зияющих пустой, всё ещё оставалось с избытком. Да, сейчас все события вращались вокруг Отдела Тайн и пылившегося там все эти годы пророчества, доводившего Лорда фактически до безумия: в такие моменты тот начинал вкрадчиво говорить сам с собой или со своей жуткой рептилией. Эта тварь заимела привычку ползать всему дому, и Люциусу казалось, что она за каждым внимательно наблюдает, скрываясь в тенях, пока её хозяин отсутствует.
Лорд в последнее время часто отлучался куда-то, и те суммы, что отлучались вместе с ним, порой приобретали пугающие размеры — нет, не настолько пугающие, чтобы хранилище в Гринготтсе опустело, и всё же… это было весьма чувствительно, и чувствительно не только для капиталов самого Люциуса. Но все, кому теперь приходилось посещать его дом куда чаще, чем это предписывали приличия, были вынуждены, лишь молча переглянувшись, опускаться перед повелителем на колени и сгибаться так низко, как не приходилось во время прошлой войны. До хруста в отвыкшей за эти годы подобострастно гнуться спине, до боли в мышцах. Но тогда это было проявлением уважения, восхищения, трепета, даже отчаянья и вины, а не этого безысходного страха… пока всё окончательно не зашло в кровавый тупик и не закончилось в обвалившейся детской так неправдоподобно и странно.
Нынче же боялись все, у кого ещё хватало рассудка бояться. И все они внимательно приглядывали друг за другом: пример пригретого и обласканного Питера Петтигрю был перед ними почти каждый день, но в глазах Лорда он вряд ли стоял немногим дальше ручной крысы, которой по сути являлся, или домовика. Впрочем, все они были лишь фигурами на доске в партии, которую Лорд играл с Дамблдором.
Исчезновение старика Люциуса, признаться, весьма нервировало. Он ни на йоту не верил, что цепные псы трясущегося за своё нагретое кресло Фаджа действительно могли кого-нибудь напугать. Нет, наверняка Дамблдор тоже к чему-то готовится, и как бы пренебрежительно Люциус ни высказывался о старике, абсурдно было надеяться, что тот не просчитал их ходы по его, Люциуса, собственным же ошибкам. Люциус лично снял с доски несколько белых пешек и опасался, как бы самому не стать разменной фигурой в эндшпиле.
Он покосился на Омут Памяти — оставлять его на столе чересчур беспечно. Там, на дне, в серебристой дымке кружили воспоминания о коридорах, выложенных чёрной плиткой, о бесконечных рядах стеллажей, теряющихся в кромешной тьме, о синем пламени волшебных свечей, медленно оплывающих в канделябрах, и пыльных стеклянных шарах, мерцающих в этом призрачном и неверном свете; погружаясь в них, Люциус содрогался, понимая, что пересекает какую-то запретную для себя черту.
Ещё с августа, после каждой своей неудачной попытки, он с затаённым трепетом ожидал возмездия — неизбежного и незримого — и тяжёлые мрачные сны, в которых ему являлось посиневшее от удушья лицо невыразимца Боуда, оптимизма не добавляли. Но Боуд был мёртв, и уже никому ничего не расскажет. Даже эту беду Нарцисса смогла отвести, и Люциус просто не мог поделиться с ней, что теперь к его кошмарам добавился новый — тот в котором, фигуры, облачённые в бесформенные и бесплотные серые балахоны, утаскивают Нарциссу во тьму.
Он сам, сам втянул её во всё это, как когда-то втянул и Уолли, и эти мысли настойчиво причиняли Люциусу глухую боль, будто кто-то медленно поворачивает столовый нож где-то в районе рёбер. Но выбирать в сложившей ситуации можно было только между самоубийственным или отчаянно скверным, и обрывки мыслей бродили в голове Люциуса словно в заросшем чахлым болиголовом колдовском кругу.
Насколько же дерзким должен быть замысел Тёмного Лорда, если он действительно собирается… Но если и так — Люциус не мог не задаться вопросом, почему повелитель сам не отправится мрачными коридорами в Зал пророчеств к ряду под номером девяносто семь и не снимет проклятый шарик с полки своими собственными руками? Зачем ждать, и к чему тянуть до июня? Нет, риск, конечно же, более чем серьёзен, но теперь рядом с повелителем был даже его карманный пожилой тайновед, заставлявший домовых эльфов биться в истерике и терзать свои уши в кровь уже хотя бы тем фактом, что сам застилает свою постель, аккуратно складывает одежду и помнит, отлично помнит всех паршивцев по именам, отправляя Люциусу очередной убористый список, как какому-то бакалейщику! И всё-таки он был здесь, как и Долохов, несколько дней фактически ночевавший с ним в этих не без труда добытых Люциусом воспоминаниях. По пространным речам, по обрывкам фраз, по тихим доверительным разговорам Люциус в целом обрисовал для себя примерные очертания того, что планировалось, и содрогался от мысли, что всё это какое-то очередное параноидальное испытание верности тех, кому не посчастливилось доказать её Азкабаном.
И всё же, всё же… что за странная и необъяснимая власть позволила повелителю проникать в тревожные подростковые сны юного Гарри Поттера? Какие видения он ему навевал? И не были ли кошмары самого Люциуса… Ответов не удалось найти даже в семейной библиотеке, фрагменты не складывались, мозаика снова ломалась в руках, рассыпаясь цветными кусочками в потрескавшейся глазури.
Люциус часами перебирал в голове варианты, лишь подкармливая этим внутренних демонов, и когда отчаянье становилось невыносимыми, заливал его крепким дорогим алкоголем. Он тихо сходил с ума от неопределённости, неизвестности, и бессмысленности всех прежних своих чаяний и надежд; но прежде всего от того, что вместе с ним на этом расчерченным чёрным и белым поле близкие и небезразличные ему люди были обречены двигаться туда, куда их направит воля лишённого практически всего человеческого существа. При желании Лорд легко смахнул бы любого из них с доски — но что Люциус мог поделать?
Ничего.
Оставался лишь алкоголь, который мог хотя бы на время приглушить весь этот ужас — и Люциус пользовался этим средством, проверенным за века.
Практически каждый вечер, перед тем, как отправиться спать.
Нет, он никогда не пил до беспамятства, эту прерогативу он оставил своим гостям, но сегодняшний вечер изрядно подточил его душевные силы, и Люциус потерял счёт времени и стаканам.
Зачем-то забрав с собой недопитый терновый джин, он вышел из кабинета и, придерживаясь за стену, привычно запер за собой дверь — сперва на ключ, а затем наложив фамильные чары, и в этот момент ощутил на себе чужой взгляд. Люциус точно знал, что в коридоре никого не было, и всё же странное чувство, что на него внимательно смотрят, заставило его на мгновение нерешительно замереть словно застигнутого с поличным вора. Мерлина ради, я же у себя дома, решил он, оборачиваясь, и вот тогда вздрогнул по-настоящему, будто натолкнувшись на ледяную стену. Живописные руины аббатства на фоне мерно колышущихся золотых полей Сомерсета были скрыты за спиной стоящего в полный рост человека, которого здесь, в этот полночный час не должно было быть.
Абраксас Малфой некоторое время молча взирал на сына, а затем разочарованно поджал губы — и Люциусу пришлось потрясти головой, чтобы отогнать подступившие к горлу воспоминания и тошноту. Он словно наяву ощутил наполнивший весь коридор тошнотворный аромат зелий, а затем и тот до сих пор ужасающий его запах умирающего от драконьей оспы больного. Ох, отец… не гляди так — что бы ты сам делал на моём месте?
Кажется, он произнёс это вслух — потому что отец внезапно ему ответил:
— Прежде всего, я бы отправился спать, и надеялся, что никто из гостей не увидит меня в столь жалком виде. Самому не противно, нет?
Люциус дёрнулся, как от пощёчины, полученной им целую вечность назад и замер, как будто даже слегка протрезвев: отец так редко говорил с ним, что в первый момент он даже решил, что ему почудилось.
— Отец… — произнёс он, слегка пошатнувшись, но, по крайней мере, языком он ещё владел, — это выражение на твоём лице… я тебе… отвратителен?
Ну вот. Он всё же спросил. И приготовился услышать правду — которую и сам знал. Насколько же жалок он сейчас был в глазах этого человека, в очередной раз втаптывая семейное наследие в грязь?
На портрете отцу было немногим за пятьдесят, но он и при жизни в какой-то момент будто застыл в своём сдержанном и холодном достоинстве, как стрекоза в янтаре, и с годами практически не менялся, не считая разбежавшихся вокруг глаз лучиками морщин, лишь добавлявших ему фамильного шарма. Оспа была безжалостна: отец плавился и сгорал, как едко чадящая жировая свеча в доме нищего. Но взгляд, проницательный и живой взгляд отцовских глаз утратил присущую ему ясность лишь в последние дни этой бесконечной агонии, измотавшей и его, и Нарциссу до такой степени, что Люциус начал задумываться о последнем милосердии, которое мог бы и должен был оказать отцу.
Портрет, выполненный ещё при жизни Абраксаса Малфоя, ожил аккурат после того, как закрытый и запечатанный магией гроб с почестями оказался в семейном склепе, а сам Люциус официально стал главой своей уменьшившейся на одного члена семьи. Но как следует смириться и полностью осознать потерю он смог лишь после того, как их повелитель эксцентрично отметил Хэллоуин в Годриковой Лощине и Люциус действительно оказался предоставлен в своих решениях исключительно сам себе.
Лишь тогда они с отцом нормально поговорили, и Люциус начал своими руками строить будущее своей семьи. Он многое сделал за эти годы, и достиг действительно много. И сейчас с отчаянной ясностью осознавал, что Лорд фактически похоронил в той могильной земле, откуда выбрался, весь его, Люциуса Малфоя, политический капитал и все планы.
Вопреки тому, что трепали языками за бутылкой дешёвой выпивки разные доморощенные политики, Корнелиус Освальд Фадж не был «карманным министром» — у него были свои амбиции и достаточные влияние и поддержка. Не вдруг и не сразу Люциус смог подобрать ключи к этому человеку, как прежде подбирал их к куда менее сговорчивой Миллисенте Багнолд. Однако и Люциус внёс свою лепту в его победу на выборах в девяностом, и это была отличная комбинация, хотя бы уже потому, что Фадж был удобен, и прежде всего удобен тем, как на его фоне будет смотреться преемник. Люциус всерьёз примерял эту роль и на себя, и на более компромиссного кандидата — консервативному блоку вполне подошёл бы, например, Берти Хиггс; но прежде всего он рассчитывал вернуть то, от чего отец отказался перед кончиной.
«Раб, конечно, способен напялить на себя пурпурную мантию члена Визенгамота, но уж точно не сможет скрепить присягу собственной магией и свободной волей» — сказал он тогда, и это стало ещё одним потрясением. Право, что передавалось в его семье ещё со времён Совета Волшебников, Люциус жаждал его — не для себя, а для сына. Но теперь… теперь, даже если Тёмный Лорд и захватит власть, Люциусу останется только смиренно принять то, что повелитель дарует ему из милости, отравив этим даже тень заслуженного торжества. Но если он проиграет…
И всё же Люциус без колебаний бы отдал всё накопленное влияние, всё содержимое своего сейфа и последнее столовое серебро за возможность просто уехать с женой и сыном подальше, туда, где им ничего не будет грозить. Вот только цепью, на которой они все сидели, был… он сам.
Возможно, кто-то скажет, что у него оставался последний выход, но это было бы выходом исключительно для него; не более чем попыткой сбежать, которую Нарцисса не поняла и не приняла бы. Он говорил с ней, и, конечно, с Уолли, и все вместе они понимали, что сейчас не место и уж точно не время для благородных жертв. Нет, дело было даже не в том, что война и политика пожирали золото, и Лорд никогда не выпустил бы из своих бледных рук ни его наследника, ни их семейное состояние… Но самым страшным было бы то, как и чьими руками Лорд покарал бы его семью за подобное вероломство, чтобы остальные надолго запомнили этот урок.
— Отвратителен? — Абраксас задумчиво потёр шрам на правом виске, и тяжело вздохнул: — Не то чтобы ты не прилагал усилий, — усмешка отца вышла вымученной. — Однако не воспринимай это исключительно на свой счёт, мальчик. Просто мне больно видеть, как мёртвая рука прошлого дёргает моего сына за ниточки.
Горечь от этих слов ударила Люциуса наотмашь, и его передёрнуло от воспоминаний о сегодняшнем ужине. Жуткий и тоскливый гиньоль(1), где куклам позволено двигаться и говорить только тогда, когда кукловоду будет угодно, и права на своеволие у них просто нет.
— Ну давай, давай, скажи. Снова скажи, какую я совершил глупость! — Люциус резко задрал рукав и ткнул пальцем в метку.
— Порою глупость может быть не менее скверной, чем умысел, но время для сослагательных наклонений давно прошло, — отец смотрел на него холодно и спокойно.
Это было совсем не то, что, если и не хотел, то по крайней мере собирался услышать Люциус. Слова отца сбили с него и наигранность, и неуместный пафос, и он отчаянно выдохнул:
— Я словно оказался в аду, отец.
— Будучи ещё жив, я пришёл к выводу, — Абраксас наклонился немного ближе и смотрел на него то ли с сочувствием, то ли с какой-то печальной жалостью, — что принципиальное различие между раем и адом — в людях, которые тебя окружают. И в том, что тебя с ними связывает, сынок.
— Я делаю для своей семьи, что могу! — прошептал Люциус с тоской. — Тактическое отступление — не самый плохой ответ на внезапную, если так можно выразиться, атаку, — он привалился к раме. — Сначала остаёшься в живых, — принялся перечислять он. — Затем уже сам выбираешь позицию. И только потом переходишь к контратаке. Ты, кажется, меня так учил?
— Тактика неплохая, — кивнул Абраксас. — Стратегия скверная. Хуже разве что только слепая верность безумцу и дураку. И слава Мерлину и Моргане, хотя бы эти вещи ты давно перерос. Люди либо взрослеют, либо ломаются, Люциус. Третьего не дано.
— Но что я могу? — Люциус был растерян; как бы он ни надеялся на поддержку отца, но ни на мгновенье не сомневался, что тот, как и прежде, будет дожидаться, пока Люциус сам поднимется на ноги и будет готов продолжать тренировочную дуэль.
— Что я тебе всегда говорил? Спроси себя — кто ты? — отец оперся о раму с другой стороны, почти касаясь его плеча. — Или ты умеешь только отвечать на действие, а не действовать так, как считаешь нужным? М-м-м? Будь умён, мальчик. Уворачивайся, парируй, — если бы это было возможно, Люциус сказал бы, что в глазах портрета сверкнул хорошо ему знакомый когда-то огонь. — Потерпеть настоящее поражение ты можешь лишь здесь, — он снова коснулся виска. — Думай, Люциус, думай. Твой предок Арманд Малфой не имел привычки воевать в одиночестве и сражаться в первых рядах, но это не значит, что он не был достоин своих побед. Стоит захотеть, и люди сами предадут себя в твои руки, своими словами или как-то ещё, когда ты терпеливо и тихо позволишь им так поступить, — его улыбка была остра, как лезвие бритвы. — Если только в безумной спешке и бессильной панике ты не делаешься глух и слеп, словно крот.
— Спешка! — горько повторил Люциус. — Отец, у меня просто уже не осталось времени. Я словно застрял и бьюсь в чудовищной паутине!
— Так начни перерезать нити одну за другой, — пожал плечами отец.
— Нити паутины… звенья кольчуги… ты всегда тяготел к этим метафорам, — с досадой произнёс Люциуса. — Но одно слабое звено — это ведь не фатально… а иногда и бессмысленно. Чтобы враг оказался беспомощен, нужно ослабить многие звенья одновременно. Но мои руки пусты… — он покачал головой. — Чем я могу защитить дорогих мне людей от чудовища, выползшего из могилы? Или прикажешь сражаться философскими наставлениями?
— По крайней мере, с врагом ты хотя бы определился, — словно издеваясь, ответил Абраксас. — Лучшее оружие — это время.
— Оно не на моей стороне! — уязвлённо воскликнул Люциус, откидывая назад упавшие ему на лицо волосы. — Отец, всё и так летит в пропасть. И мне остаётся только пить, чтобы не видеть того обрыв, в который мы рухнем с последним ударом часов, — он усмехнулся горько, приложившись к джину — и с отвращением подумал, насколько же патетически прозвучал его монолог.
— Разбитая жизнь так и останется разбитой жизнью, — ответил отец. — А утром к ней добавится ещё похмелье… ты слишком однообразно и тоскливо проводишь свои ночи, в отличие от твоих гостей, насколько я могу слышать. — О да. Люциус тоже слышал, как всё это время где-то наверху вульгарно стонала, не щадя Повелителя, Беллатрикс — вряд ли кого-то ещё она сподобилась бы называть в своём безумном экстазе именно так. Они с отцом синхронно подняли головы и поморщились с одинаковым выражением на лице. — Что бы на это всё сказала твоя милая мать, к которой ты давно не заглядывал? Но ты уже слишком взрослый, мальчик, чтобы я учил тебя подобным вещам. Впрочем, если ты возьмёшь труд оглянуться по сторонам… то заметишь, что стрелки часов ещё далеки от полуночи, — Абраксас достал из кармана часы, посмотрел на них, а затем скрылся, оставив Люциуса наедине с руинами Гластонбери.

1) Гиньоль (фр. Guignol) — кукла ярмарочного театра, изображавшая рабочего с шелковой мануфактуры, которую надевали на руку как перчатку, появившаяся в Лионе в конце XVIII века после после Великой Французской Революции. Создатель куклы, Лоран Мурге (1769—1844) — выходец из семьи рабочих лионских шелковых мануфактур. Потеряв работу после революции, он сначала становится ярмарочным торговцем, а затем зубодёром. Чтобы привлечь клиентов и заглушить стоны своих пациентов, он развлекает толпу сатирическими кукольными представлениями на злобу дня. Сначала он пользуется репертуаром итальянской Комедии дель арте, а потом начинает давать представления собственного авторства, со временем сформировав соответствующий жанр театрального искусства. В более широком смысле гиньоль — это пьеса, спектакль или отдельные сценические приёмы, основой которых является изображение различных преступлений, злодейств, избиений, пыток и прочих вещей, привычных публике из низов.
Люциус стоял, привалившись к стене, и какое-то время бессмысленно и бессильно водил по пустому холсту ладонью: краска на ощупь была шершавой, но как Люциус ни старался, он не смог почувствовать пальцами ни свежего ветерка, гнавшего облака по безмятежному летнему небу, ни зноя.
Навязчивый аромат отцовских зелий не давал ему сосредоточиться и заставить мысли выстроиться в голове: всё рассыпалось, едва собравшись в логичную и хоть сколько-то связанную последовательность. Сколько бы он ни думал о том, что именно пытался сказать отец, это не имело ни практической ценности, ни какого-либо особого смысла. Наверное, он слишком для этого пьян, а, возможно, просто не в состоянии осознать, чем всё это поможет. Люциус ощущал себя золотой рыбкой, бесконечно кружащей в тесном аквариуме и иногда бьющейся о стекло. У Генри Гойла стоял такой, на тумбочке у кровати, пока в конце шестого курса бедная Бесси не всплыла брюхом вверх. Может, она тоже мечтала выбраться из своего заточения, не понимая, что выхода у неё просто нет, и стоит ей оказаться снаружи, как она сможет лишь отчаянно трепыхаться и беззвучно разевать рот.
Почему-то ему так ярко вспомнились слёзы на глазах здоровяка Гойла, что Люциус провёл рукой по лицу. Полночь… хватит. Давно пора спать. Подняться к себе — и там зарыться лицом Нарциссе в волосы и так заснуть, прислушиваясь в её размеренному дыханию. Раствориться в её сонной ночной безмятежности и хоть несколько часов ни о чём не думать. Люциус со вздохом выпрямился и, вняв совету отца, действительно отправился в спальню.
На лестнице преследующий его запах разложения и болезни уступил место тонкому благоуханию роз, и дышать стало легче. Огонёк на конце палочки тускло мерцал, разгоняя густую ночную тьму и выхватывая изломанные очертания обстановки. Малфой-мэнор жил своей невидимой ночной жизнью: скрипел половицами, холодя ноги, сонно дышал ночным сквозняком, гулко зевал ветром в каминной трубе, скрёбся в где-то под потолком, и лишь страстные стоны невестки заставляли этот ноктюрн звучать для Люциуса фальшиво и пошло.
Мерлин… что бы мама сказала ему обо всех непотребствах, на которые он в их же доме вынужден закрывать глаза! Пожалуй, с Кармиллы Малфой, такой, какой она была на портрете, сталось бы прохладно заметить, что подобные крики в столь поздний час не оправдало, даже если бы Беллатрикс убивали — эльфы в доме никогда не жаловались ни на сообразительность, ни на слух. Сегодня же смерть ей грозила исключительно малая, и Люциус поймал себя на опасной мысли, что вместе с творческим псевдонимом их Повелителя на французском вышел бы занимательный каламбур(1), но будь он проклят, если в здравом уме озвучит его Родольфусу.
Он нетвёрдой походкой поднялся на третий этаж, погасил огонёк Люмоса и, сжав ручку неплотно прикрытой двери, бесшумно её отворил — да так и застыл на пороге спальни, буквально онемев, оглохнув и практически задохнувшись от зрелища, во всей своей откровенности открывшегося его глазам. Пожалуй, в первый момент Люциус даже не осознал, что именно видит: в комнате было темно, и он мог разглядеть лишь смутные, плавно движущиеся, переплетённые между собой очертания на фоне призрачно белеющих простыней. Затем они сложились в две слабо фосфоресцирующие фигуры, бездумно, свободно и страстно увлечённые тем, что сложно было истолковать двояко. Какое-то бесконечно растянувшееся мгновение Люциус пытался себя убедить, что просто ошибся спальней, но стоило глазам окончательно привыкнуть к полуночной темноте, и он не смог не понять, что в их постели его жена даже не отдавалась другому, а жарко брала своё.
Люциус с трудом смог вдохнуть густой, напоённый магией и нежной сладостью роз прохладный воздух, и это, видимо, привело его немного в себя — достаточно, чтобы остатков его ошеломлённого, затуманенного усталостью и алкоголем разума хватило для внезапного осознания, что он всё же не оглох, а на спальню наложен целый каскад заглушающих заклинаний. Плохо повинующимися губами он прошептал:
— Финита, — и звуки обрушились на него как океанский шквал.
— …со мной! Ты со мной, со мной… — разносилось, отражаясь от стен, пульсируя и мешаясь с отзвуками чужого сбитого экстатического дыхания.
Это срывающееся и хрипловатое, полное страстной истомы, грудное, вибрирующее на самых нижних своих регистрах меццо-сопрано, вот уже двадцать лет отзывавшееся резонансом в каждой частичке самого Люциуса, словно разбудило его, причиняя ни с чем не сравнимую боль. Он не видел лица её любовника, но, с трудом прозревая мрак, различал, что тонкие пальцы его жены утопали во взлохмаченной светлой гриве; пряди рассыпались призрачным серебром по её обнаженной коже, словно мерцая в наполняющей комнату темноте. И Люциус вдруг отчётливо, так, будто был свидетелем этой сцены с самого её начала, замирая от потрясения, осознал, кто именно находился сейчас в их постели.
Возможно, он не слишком часто видел себя со спины, но жест, свой собственный жест не узнать не мог. Знал ли кто-то, кроме него в целом свете, как нравилось Циссе, когда в самые страстные их моменты левая его ладонь покоилась под её головой, и каким наслаждением было пальцами зарываться в спутанные густые волосы на её затылке? Даже сейчас, незримо наблюдая со стороны, Люциус ощущал, как жар охватывает уже его самого, и сладкие томительные мурашки стремительно разбегаются по всему его телу, когда Нарцисса так знакомо и будоражаще ведёт ногтями вдоль его собственного позвоночника, и он-второй — тот, что сейчас с ней в постели — выгибается, подчиняясь её рукам, проникая и сливаясь с ней глубже.
Заворожённый представшей перед ним картиной, Люциус замер в дверях, не в силах пошевелиться. Ужас и возбуждение смешались в нём: созерцая эту неестественную мистическую гармонию переплетённых тел, Люциус практически осязал прикосновения пальцев и касания губ, которые Цисса щедро дарила ему-другому; чувствовал сковывающую, лишающую его воли влажную мучительную пульсацию там, где его жена и его двойник сплавились воедино. Рычащие и глухие стоны сплетались со временем, и, как само время, исчезали, просачиваясь меж пальцев и оставаясь лишь в его собственной памяти; как оставались будто выжженными под веками Люциуса силуэты любовников на супружеском ложе. Они были бесконечно прекрасны какой-то потусторонней, чуждой ему эстетикой, и от этой запредельной и страшной в своей беспощадности красоты по венам Люциуса медленно растекался лёд.
Разве он поднимался сюда уже этой ночью? Почему же тогда он так смутно помнит этот момент, а может быть, он его просто выдумал? И главное, он не помнит, не помнит, сколько раз пробили тогда часы и когда же он снова очутился в собственном кабинете!
Нарцисса выгнулась, оставляя глубокие царапины на его… их спине, и, запаздывая на какие-то доли вечности, как за вспышкой молнии запаздывает майский гром, чуждые и неуместные здесь, в этом времени и пространстве отзвуки разнузданных криков Беллатрикс достигли комнаты. Остатки хмеля слетели с Люциуса, и он в смятенье попятился, возвращая заглушающие на место, не в силах больше видеть, слышать и ощущать. Липкий холодный ужас полз по его коже от ступней по лодыжкам вверх, достигая желудка. Это было… неправильно. Чудовищно неправильно: ни один живой человек не должен видеть себя со стороны. Ни один живой… Мерлин…
Он вдруг понял, что снова не дышит — и, с трудом сглотнув застрявший в горле твёрдый комок, заставил себя сбежать, сбежать от приторности сгоревших роз, смешанной с характерным запахом двух разгорячённых тел в момент наивысшей близости, отсекая себя от них плотно закрытой дверью. Прислонившись к стене, Люциус трясущимися руками поднёс хрустальный графин к пересохшим губам и сделал несколько судорожных глотков, чувствуя, как джин обжигает горло и пытается растопить ледяную глыбу его в желудке, и это было последнее, что он сколько-то ясно осознавал.
Люциус не помнил, как и где отключился — как не помнил и того, как попал обратно в собственный кабинет, и даже не помнил, как в нём проснулся: всё что осталось с ним, был лишь окрашенный в розовое туман, наполненный ароматом роз, трав, дыма, и тихо звучащий в его ушах шёпот, повторяющий тысячами оттенков и полутонов родного голоса его имя…
Окончательно он пришёл в себя уже в душе — и какое-то время непонимающе смотрел на льющиеся с небес горячие струи, прикрываясь от них рукой. Голова была пустой и лёгкой — словно он и не пил накануне. Пустой графин из-под джина обнаружился в напольных часах — неподвижных и тихих; а вот одежда его была раскидана по всему кабинету. Так бывает, когда раздеваются впопыхах, спеша заняться куда более приятным и важным делом — но ведь он же… Люциус растерянно вздрогнул и не стал развивать эту мысль.
Завтрак он, как выяснилось, пропустил — но голода практически не испытывал, так что потребовал чашку чая к себе в кабинет, и когда руки перестали подрагивать, привёл себя в надлежащий порядок, проверил корреспонденцию, а затем спустился в библиотеку, где и обнаружил собравшееся там общество, к которому очень скоро присоединилась Нарцисса. Этим утром она казалась ему безмятежной как дымка, стелющаяся над водой, и это его, признаться, слегка пугало.
Но об этом Люциус умолчал, как умолчал в рассказе о зловещем своём двойнике обо всём, что могло бросить тень на его семейную жизнь и его супругу, ограничившись общими и удивительно гибкими фразами, лишь обозначив в их спальне чужое присутствие и мирный сон, а затем кратко подвёл итоги:
— Я, пожалуй, не возьмусь всё это описать хоть сколько-нибудь подробней, скажу лишь, что я словно распался надвое и провалился во времени, господа.
Но даже это произвело на его гостей гнетущее впечатление.
— Мистики, вашу мать, — хмыкнул Долохов, скептически оглядывая притихшее общество. — Знаешь, Малфой, — он небрежно поскрёб впалую и небритую щеку, — джин на голодный желудок способен на разные чудеса, но если утром твои мозги не обратились в пульсирующую овсянку, то верю, верю, что ты не привиделся сам себе. Но на кладбище на пару с двойником ты ползти собрался, по-моему, рановато. Как по мне, объяснение тут куда прозаичней — но вот что приятней, сказать не могу, — Долохов подобрался и сбросил тот обманчиво расслабленный вид, с которым и сидел с начала беседы.
— Пожалуй, — Люциус скривил губы, — любые неприятности, вписывающуюся в нашу обыденную реальность, я сейчас предпочту тому, что лезет мне в голову.
— Сидите как магглы — уши развесили, по галеону глаза, будто все разом запамятовали, какова на вкус оборотка, — Долохов раздражённо нахмурился. — Я уж молчу об иллюзиях. А вот трансфигурацию, знаю, вспомнят уже не все, да что там трансфигурацию… Мало, мало я вас гонял — нас вон и школьники если поднапрягутся — затопчут... Развлекаемся тут полгода, словно выбрались на курорт… про остальных вообще молчу…
Возможно, Долохов просто ворчал после бессонной ночи, но его замечание Люциуса задело, и, похоже, не только его самого — Мальсибер отвернулся к камину, а челюсть Родольфуса напряглась. Люциус уже хотел было ужалить Долохова в ответ, но стоило ему почувствовать на себе тяжёлый взгляд, как всю его собственную решимость затянуло водоворотом того же чёрного, как холодные, внимательные глаза Долохова, цвета сомнение.
— А мог этот неизвестный кто-то, — неуверенно предложил Эйвери, — побывать и у Лорда в комнате? Сначала мантию утащил, а потом… Это же всё объясняет! Наверняка же за домом следят — вот у меня под деревом у коттеджа обычно дежурят двое.
— Посторонний попасть за ворота не мог, — отрезал Люциус, удивлённо посмотрев на Эйвери, но по его спине пробежал тревожащий холодок. — Нет. Исключено. Никак нет! — оборвал он открывшего было рот Мальсибера, а затем, призвав хрустальный бокал, наполнил его водой, чтобы смочить пересохшее от волнения и затянувшегося рассказа горло. — Я уверен! — он сделал глоток. — У нас тут не Хогвартс, многое завязано на крови, и даже под оборотным зельем ни один чужой человек…
— А если этот посторонний не то чтобы совсем чужой? — на лице Роули сверкнула какая-то хитрая мальчишеская улыбка, хотя мальчишество было ему давно не по возрасту. — У тебя же племянница в Аврорате, дочка Дромеды Блэк. Да что вы на меня смотрите, будто я один в курсе, что она — премиленький такой метаморф на службе Волшебной Британии, — Роули даже развёл руками. — Ну вот, прикинулась нашим дражайшим Люциусом, пробралась к нему в спальню и там… И что я такого сказал? — уточнил он, когда Люциус практически захлебнулся.
— Знаешь, Торфинн, — произнёс тот, прокашлявшись и стараясь выкинуть нарисованную Роули картину из головы и никогда-никогда о подобном не думать. — В один замечательный день кто-то достанет палочку и прикончит тебя на месте, и последними твоими полными недоумения словами будут: «А что я такого сказал?»
— Нет, а что я такого сказал, а? — переспросил Роули куда серьёзней, хотя, как в очередной раз смог убедиться Люциус, серьёзное лицо признаком ума не являлось.
— Этак вы и до каких-нибудь фениксов договоритесь, проходящих сквозь стены, но вряд ли подобного визитёра домовые эльфы могли пропустить, — оборвал перепалку Долохов, высушив лужицу на паркете. — Скажу один раз — чушь это всё. К тому же у меня есть все основания полагать, что этот ночной… весельчак, мать его, — кто-то из тех, кто вчера прохлаждался здесь, в доме, — он умолк, положив палочку на колени, а затем пристально вгляделся в напряжённые лица вокруг.
1) La petite mort (фр. «маленькая смерть») — французское выражение, обозначающее оргазм. Подразумевает оргазменную потерю себя.
По мнению авторов, “Le petit vol de mort” мог бы стоить Люциусу не только головы, но и других важных частей тела.
Они все смотрели на него выжидающе — как смотрели всегда, а ведь многих из них он помнил ещё мальчишками, блюющими над первым своим мертвецом. Когда-то — очень давно, точно в другой жизни — подобные взгляды его… не то чтобы развлекали… самолюбие щекотали — да. И чего уж там, вызывали усмешку — так усмешка ведь не оскал. И сколько теперь того самолюбия у него осталось, под глухой стылой азкабанской тоской? Да и времена те, где они? Сгинули уж давно, обратились английским туманом, да разбились волнами о серые стены тюрьмы. Многое, многое стояло между этим его «давно» и «сегодня». И этому «многому» Антонин не давал имён, даже думать не смел, насколько его хватало — душу не травить лишний раз, да не сглазить. Выходило не слишком. Да и ночка у него выдалась ещё та — хоть бери и с утра напейся. Но кто же ему теперь даст.
Антонин почесал небритую щеку: вот так отлучись куда, а у них уже доппельгангеры с полтергейстом. Только их ему сегодня и не хватало. Мало ему Лорда с пропавшей мантией — нашёлся на его голову смертник, и ведь не спустишь такое никак. И никак жужжащую в черепе мысль не отгонишь, что нашей кто за галлеон пяток этих мантий, Антонин бы и сверху столько же приплатил, а то и сам бы вдел нитку в иголку — лишь бы от него отвязались. Оставили бы в покое, дали, что ли, забыться, погоревать. Но было ли такое когда? И не будет — а случись, стало бы скверным знаком.
Антонин вздохнул и рассказ свой продолжил:
— Собирался я этой ночью выйти под обороткой — дело у нашего повелителя нашлось до меня. Так как раз последняя порция у нас оставалась. Снейп говорил, свежая у него в пятых числах поспеет, а нам пока и без надобности, — махнул он рукой. — Так вот, подхожу я к шкафу вчера, открываю дверцу — а фиала там как и не было. Пришлось так идти, — он скрестил ноги под креслом и на мгновенье прикрыл глаза.
Пусть план и пришлось перекраивать на ходу, дело не предвещало ничего из ряда вон: расправляться с неугодными и зарвавшимися было ему не впервой. И Антонин расправлялся: быстро, чисто, и без всяческих угрызений совести. Это не мальчишек натаскивать по ночам магглов резать, а сволочь жадную наказать, и, к тому же, неблагодарную. Ну и арабов с турками Антонин никогда особенно не любил: этого он помнил с семидесятых, а тот их, похоже, успел подзабыть. Ничего-ничего, недолго тебе, Джавад-эфенди, на чужое кровавое золотишко по кабакам ходить. Хоть бы привычки, что ли, сменил…
Этой турецкой кофейне на Бордон-стрит было лет пятьдесят — открылась после войны, ещё той, с Гриндевальдом, да так и работала, и кофе уже внук владельца варил. Удобное место, Сохо вон в двух шагах. Свои там вели дела, а чужих туда не пускали — волшебный мир тесен, диаспоры же ещё тесней… Но внутрь ему и не надо, он тут у стеночки подождёт.
Погода для подобного дельца выдалась на удивление удачной: сгустился такой туман, что и отсутствие оборотки не казалось уже проблемой. Антонин даже капюшон откинул и маску снял: всё равно в таком молоке ни зги не видно. Да и живых он сегодня не был в настроении оставлять. Найдётся потом, кому объяснить, как погиб почтенный Джавад Челик и без клубящейся в лондонских небесах Тёмной метки: жадность его сгубила.
Позицию Антонин выбрал хорошую — у стены противоположного дома, так, чтобы цель вышла аккурат под фонарь — и стал ждать. Вот тут-то всё и пошло не так: то ли старый он совсем стал, то ли так вымотался, что чуть там было не задремал, да и пахло откуда-то так хорошо — домом, выпечкой, цветущим шиповником где-то в саду… Так или иначе, видно, расслабился Антонин, задумался о своём, и едва не пропустил, как Джавад из кофейни вышел, да не один. С партнёром своим они всё раскланивались, проститься никак не могли, а с ними ещё и телохранитель, кто его разберёт чей, он-то и успел Протего где надо поставить, и завязалась у них дуэль.
Ох, поганый расклад против троих-то биться: тут и зелёным сверкало, и красным, прошивая туман. Половины не видно, только успевай отскочить да на звук ударить. Выгнали они его на проезжую часть, и тут из окружающего их молока вдруг как выскочат ещё двое. Антонин-то их знать не знал, а вот они его сразу узнали, вытаращились:
— Всем стоять! ДМП проводит оперативное задержание! — откуда только взялись, видно же, что без формы. Как искали? Как нашли? Не могли же они его пасти всё это время? Эх, дураки, бить надо было в спину — и молча.
Вот и Джавад с компанией палочки опускать не стали — и началась у них пляска смерти, мать её, тотентанц! Засверкало праздничным фейерверком со всех сторон, пусть бы и перебили друг друга, да вряд ли ж ему так свезёт. Рассёк Антонин палочкой наискось воздух, и приятель Джавада грудью его проклятие и поймал. Даже пурпурное пламя опасть не успело, как Антонин режущее вдогонку послал: ну, помогай Мерлин, меньше одним. Отвлёкся — едва отталкивающее не пропустил, в последний момент пригнулся, кто же знал во что оно там в клубящейся белой мгле попало.
Что-то будто бы взорвалось, и на них, слепя фарами, из тумана вынесло маггловсковский автомобиль. Магглы внутри кричали, но туман глушил их вопли, и, казалось, что они раздаются намного дальше, чем было на самом деле. Его развернуло, завертело, и бросило прямо на ДМПшников. И тут в центр улицы прилетело ещё и взрывное, выбивая асфальт, и Антонина отбросило ударной волной. Он перекатился и, не раздумывая, аппарировал за спины противников — для Джавада с телохранителем это был приговор.
Как же всё вышло по-идиотски! Но задание Антонин выполнил — разобрался с кем надо, да и придавленных автомобилем ДМПшников он от греха добил: всё равно видно было, что не жильцы, не тащить же ему их в Мунго — крови-то на асфальт натекло.
До магглов ему дела не было, но со сломанной шеей и с пробитой головой не живут. А ведь даже Антонин помнил — в автомобилях надо было пристёгиваться. Он потыкал палочкой наполовину выброшенное на капот тело и устало похромал прочь.
На мгновение он остановился, глядя, как начинают растворяться в густом тумане за его спиной сегодняшние мертвецы, и вдруг вспомнил считалочку из своего детства, про месяц с ножиком, и про собственный, припрятанный за голенищем. Резал и бил он сегодня достаточно, пора было выходить, выбираться из этого молока, пока стервятники не слетелись. Как там было? А за месяцем луна, чёрт повесил колдуна — нет уж, увольте, да и луны сегодня не наблюдалось.
Аппарировал он наугад — и оказался у витрины маленького цветочного магазинчика. И задохнулся, будто напоролся на свой же нож — потому что магазинчик этот он прекрасно знал. Он узнал бы его из сотни, тысячи, из миллиона — на всём свете не было другого такого. Видимо, поэтому его сюда и принесло — стоило расслабиться, как его выбросило в одно из тех немногих мест в этом гиблом городе, которое было для него не просто местом.
Сейчас, так поздно, магазинчик давно был закрыт. Здесь, как ни странно, тумана почти что не было, и Антонин прекрасно видел своё отражение в тёмной витрине. Стоял и пялился на него — и вдруг его буквально перекосило от отвращения. Он стянул с себя чёрную мантию и, уменьшив, сунул в карман брюк, оставшись в одной несвежей рубашке и штанах с подтяжками — но теперь, по крайней мере, он мог смотреть на того себя, что отражался здесь. Он и смотрел: тощий, с небритой мордой старик с отвратительно затравленным и уставшим взглядом — и вспоминал ощущение рук своей Янушки на заросших щетиной щеках, и вкус её поцелуев(1).
Понимание, как же отчаянно ему хотелось домой, его оглушило. Вот только куда «домой»? Дома у него никакого не было. А Малфой-мэнор… домом был не ему. Будто не видел он, как хозяева на него глядели украдкой — словно у них в гостиной палатку медведь разбил, или ещё какой зверь пострашнее, и не выгонишь его никуда. Только кормить. Будто он сам не был в том же подвешенном положении, что и они! Хотя нет, конечно же, не был: не его сыну приходилось возвращаться с каникул к одичавшим уголовникам в дом.
Идти сейчас Антонину больше было и некуда — но туда не хотелось до тошноты, до спазмов в охрипшем горле. Лучше бы здесь остался — вот прямо на мостовой бы и лёг и… да хоть тут бы и жил. А что, как будто мало в Лондоне бездомных бродяг. Кто бы ему удивился? Но нет, нет, конечно — ему даже это не светит. Мало того, что он в розыске, и в лицо его должен знать каждый книззл, нужно было ещё доложиться Лорду. Но тот ждёт его в условленном месте только утром, когда солнце уже взойдёт. У Антонина ещё несколько часов было в запасе, и он мог тратить их, как хотел. Вот, например, привести себя, наконец, в порядок: пусть он вышел из боя целым, но что невредимым — похвастаться он не мог. Порез на ноге, и вот попятнало выбитой взрывом асфальтной крошкой. Рана ещё на руке ныла, дёргала и неприятно жгла… чем же его угостили таким? Или это просто ожоги?
Нет, надо было куда-то пойти, где-нибудь отсидеться… и Антонин пошёл, не слишком задумываясь, и не сразу понял, что идёт так хорошо ему знакомой дорогой — ноги сами привели его к её дому. К их дому… где давным-давно уже жили другие люди. Но он понял это, только обнаружив себя стоящим у подъезда и глядящим на те самые окна, в которых сейчас горел тусклый свет. Это больше не был их дом — просто здание и знакомые окна… но он всё равно стоял и, задрав голову, как дурак, смотрел, и сердце его щемило.
А потом взял и да аппарировал на чердак. А что, место не хуже других, да и тайничок он в своё время там обустроил… так, ничего особенного, но на крайний случай там хранились деньги, зелья и старый, но надёжный портключ в Карпаты. А ещё запасная палочка, нож, и чем, уходя от погони, можно было брюхо набить. Ну и комплект маггловской одежды ещё и одеяло.
Здесь было темно и пыльно. Антонин зажёг на палочке крохотный огонёк — не ярче свечи, чтобы себя не выдать, и долго, медленно обходил чердак, отмахиваясь от паутины, и оглядывался, пока не наткнулся взглядом на вырезанные на балке буквы. Глубокая, потемневшая рана в дереве: «Т+Я». И задохнулся. Ему уже тогда было ужас же сколько лет — а всё равно, как влюблённый пацан, вырезал ножом тут их с Янушкой инициалы… и оно не делось ведь никуда. Конечно: балки же не деревья, они не растут.
Сколько он стоял так, Антонин не знал, но усталость и раны давали знать о себе, и он, в стремлении добраться до тайника, принялся расчищать натащенный сюда за прошедшие годы хлам. Провозился он, по ощущениям, довольно долго — а когда закончил и снял досочки с тайника, обнаружил, что всё в нём совсем не так, как он оставлял.
Первым, что Антонин увидел, было письмо. Сложенный в несколько раз и зачарованный лист бумаги раскрылся в его руках, едва он дотронулся до него. Сердце Антонина бешено заколотилось, и он тяжело осел, едва увидел и узнал почерк.
«Здоров будь, Антонек.
Сам вот не знаю, буду ли я ещё жив к тому моменту, когда ты это прочтёшь. Надеюсь — жив. Но если уж нет, то, во-первых, прости подлеца, разорил твой тайник, но бежать мне пришлось без всяческой подготовки. Ничего лучше мне в голову не пришло, а уж когда смог нормально соображать — поздно было. Он вернулся, клятый этот немёртвый хер. Вернулся, и метка пылает так, что я мечтаю засунуть руку по самую шею в прорубь. Водка в твоей фляжке оказалась дрянь, но хоть руки трястись перестали.
Мне страшно, Антонек, ты знаешь, я тот ещё трус, но пусть меня черти утащат заживо, чем я снова к нему вернусь. Я же стал большой человек, веришь-нет, директор в Думштранге, а теперь бегу, словно какой-то каторжник. Пересижу здесь до утра, а потом твоим портключом сам знаешь куда, а там… Кое-что умею и я, пусть-ка ублюдок попробует меня отыскать. Может, и схоронюсь где.
В моей жизни было, кажется, не так много смысла, но кое на что я сгодился: Иванна прекрасно устроилась в Калифорнии. В Штатах они теперь. Сын твой закончил уже Ильверморни и, кажется, станет законником. А вот кем станет твоя дочь, пока непонятно. Я ведь тогда писал, девица у тебя родилась, но в записке много ведь и не скажешь, да и кто такое доверит сове. Алискою её звать, Алисией. В Салем вот поступила. Она, как мне пишет каждое Рождество Иванна, весьма своенравная барышня, и этим похожа, скорей, на тебя. Алекс — тот больше, по её словам, перенял внешнее сходство. Хотя она в этом уже не уверена.
Это было во-первых. А во-вторых, Антонек, если ты это сейчас читаешь, надеюсь, вспомнишь, что для тебя — так же, как для меня — это чужая страна, и эта война — чужая. Не клади себя на алтарь безумца. Лучше быть трусом, но при этом живым, а отчаянных храбрецов и без нас хватает. Большинство из них давно уже сгнило в земле.
Дадут небеса, может и свидимся, а нет — помяни меня, дурака. Больше, наверное, некому.
Твой не слишком хороший друг, Игорь».
Дочитав письмо, Антонин некоторое время сидел, уставившись перед собой в пустоту, и в его сознании было сейчас так же пусто.
А потом в этой звенящей пустоте начала выкристаллизовываться простая и ясная мысль — зачем? А действительно, на кой дьявол ему всё это надо?
Ну вот в самом деле? Что дальше? Удастся запланированный на Министерство налёт или нет — кто его ещё знает. Даже Руквуд предпочитает отмалчиваться, отвечая только по существу. Может, они там все и останутся, а если нет — что потом? Он снова наберёт молодёжь и снова будет её тренировать? Или планировать карательные налёты?
Что ему, Антонину Долохову, до этого всего лично? Удастся Лорду то, к чему он всё это время шёл, или нет, Антонину по большому счёту не было до этого никакого дела. Он даже работал уже не по найму, а потому что деться ему было некуда, а закончить так, как закончил Игорь, он не хотел.
Но, если задуматься, что его держит в Британии? Конечно, он в розыске — потому и прячется у Малфоев, но ведь Игорь прав: что на этом проклятом острове он вообще забыл? Да, его тут не держит уже ничего, кроме Лорда и метки, черневшей под рукавом. Совсем ничего…
Шумно выдохнув, Антонин сложил письмо пополам и, положив его пока что на пол рядом с собой — позже он, конечно, его, сожжёт, но… пусть это будет немного позже — и снова заглянул в свой тайник. Что ж… Игорь многое позаимствовал — и жаль, что ему всё это не помогло. Это было единственное, о чём Антонин до боли под рёбрами сожалел. Он потряс фляжку и тихо хмыкнул. Что-то ещё плескалось внутри — да и чего бы было ему не плескаться, если пространство внутри Антонин вдумчиво расширял. Всё остальное Игорь унёс с собой, оставив ему половину аптечки, нож, а в качестве извинения зачарованный мешочек сушёных слив и — Антонин почти прослезился — семечки. Обычные чёрные семечки в бумажном кульке. Вот сукин сын!
Антонин и не помнил, когда даже видел их в последний раз, в Белграде, что ли? Или в Болгарии? Насыпал себе тогда целый карман. Как же здесь на него с ними потом смотрели: в Англии таким только птиц кормить.(2)
Антони лузгал семечки, роняя шелуху на теряющийся во тьме грязный пол, и мрачно осознавал, что дошёл до очень опасных мыслей. Не будь у него метки на руке, он бы уже давным-давно собрался и свалил отсюда к морганиной бабушке, если у этой потаскухи она была… а лучше в Штаты. В Калифорнию, как он теперь знал. Просто, чтобы увидеть Янушку и детей… и дочь. Дочка, значит… И ей уже… сколько? Пятнадцать? А он даже и не видел её ни разу.
А потом будь что будет.
Здесь у него нет ни дома, ни-че-го.
Антонин мрачно вылил на ожоги и раны настойку бадьяна — благо, они были неглубоки — а потом долго сидел на чердаке, прямо на пыльном полу, цедил из фляжки дрянную водку, закусывая по случаю сливами. Он снова и снова смотрел на метку под закатанным рукавом — единственное, что приковало его к этому острову цепью.
Антонин просидел на чердаке до рассвета — а когда стало совсем светло, вновь скрыл тайник, завалил хламом, и, как был, в пыли и паутине, спустился с чердака и вышел через парадный вход, напугав каких-то магглов своею рожей и, похоже, шокировав запахом перегара… стоп. Он свернул в крохотный переулок, и спохватившись поколдовал над собой, приводя в порядок — зачем злить рептилию? Не Лорда — его змею: она резкие запахи не любила. Он накинул чёрный балахон, и, скрыв под капюшоном потемневшее от недосыпа лицо, отправился встретить Лорда в Солсбери, а потом кое с кем там потолковать.
В Малфой-мэнор они с повелителем возвращались вместе, обсуждая предстоящие в ближайшие дни дела. У Тёмного Лорда тоже явно выдалась непростая ночь, и пусть по нему было не видно, но кем бы Антонин был, если бы не умел подмечать чужую усталость. Однако, Лорд был настроен вполне благодушно, если к нему это понятие применимо — не столько в плане благости, размышлял Антонин, сколько души, провожая его до комнаты, и только собирался уйти, как услышал:
— Антонин, войди, и скажи, что разум мне ещё верно служит.
Антонин бы поспорил, но всё что он мог — войти, и пошло-поехало. Нет, ну кто настолько со своей головой не дружит? Мантия?
— Крысы! — на грани слышимости цедил Лорд, и Антонин, не слишком скрывая мрачноватой ухмылки, смотрел, как застыл на пороге таскавшийся с ними Петтигрю. Крыса и есть. — Питер, не попадайся мне на глаза ближайшее время, — словно прочитав его мысли, озвучил Лорд. — Долохов, за мной. Молча.
Они спустились в библиотеку практически в тишине — с их пути разбегались из рам портреты, и на спине Антонина, кажется, начал скапливаться холодный пот. Он не хотел, чтобы в этом доме в ближайшие дни справляли поминки.
Когда Лорд покинул библиотеку, мрачная тяжесть случившегося давила Антонину на плечи, и он долгое время молчал. Он молчал, внимательно разглядывая всех собравшихся здесь, и первым, не выдержал, как обычно, Мальсибер:
— И что потом? — он нервно поёрзал в кресле.
— Ну что «что»? Восемь трупов — и один я, красавец, — Антонин раздражённо хмыкнул. — Не эльфам же за мной, как за некоторыми, подчищать. Все, кому не повезло меня опознать, уже ничего не расскажут. Вот, будет Аврорату работа — понять, кто же там и кого. Ну и самого пару раз зацепило. Нижайший поклон доброму человеку, который, пока я там глотки рвал, развлекался под обороткой. Ох, и выпишу я ему личную благодарность.
— Считай, что нашёл, — отозвался глухо Родольфус. И продолжил в затопившей библиотеку тиши: — Последнюю порцию оборотного зелья взял я. И я же был в комнате Лорда. И да, я действительно рылся в его белье. Оно у него, как это ни странно, есть.

1) Об этой стороне жизни Антонина Долохова подробности можно почерпнуть в тексте "Дьяволы не мечтают"
2) Не только у нас, но и в странах Восточной Европы любят пощёлкать семечки: в Болгарии, в Сербии. В Белграде блюдца с семечками стоят даже в бильярдных клубах. Болгары тоже лузгают из весьма увлечённо — даже в кино ходят с семечками вместо попкорна. И на свидании с девушкой при входе в кинозал болгарин может вручить пассии кулёчек. Возможно именно это и не позволило сойтись Краму и Гермионе. А вот в Англии их проще всего найти разве что в составе птичьего корма.
Слова Родольфуса упали как падает камень в старый парковый омут: вода почти беззвучно принимает его в себя, и круги медленно расходятся по затянутой ряской поверхности. Один-другой-третий… Родольфус со странным чувством смотрел на застывшие и потрясённые лица, и целую вечность никто не мог подобрать подходящих слов. Даже Долохов глядел на него ошалело и едва не смахнул со своих колен палочку, когда, наконец, тяжело прикрыл ладонью лицо.
Разорвал эту гнетущую тишину, как всегда голос Мальсибера:
— Но у него же нету волос! — он произнёс это с таким искренним удивлением, что губы Родольфуса сами собой искривились в горьковатой усмешке:
— Чешуя и ногти тоже вполне подходят, — что ж, хотя бы голос его прозвучал спокойно, но за этим спокойствием крылась застарелая обречённость. А что, что ему ещё оставалось, кроме того, чтобы убить собственную жену и отправиться за ней следом? Лестрейнджи не приемлют разводов. Так было и так будет впредь.
Мальсибер нервно хихикнул, Эйвери почему-то смутился и покраснел, а Рабастан спросил, кажется, по своему обыкновению, не дав себе труда обдумать, что именно говорит:
— И что? Что ты сумел найти?
Родольфус сделал таинственное лицо и лишь выразительно приподнял брови, чувствуя, что устремлённые на него взгляды и выражения лиц будто бы вознаградили его за всю утреннюю неловкость, скорбные мины и устремлённые в пол глаза.
— Но как же… Лорд? — растерянно проговорил Мальсибер.
— Это же, выходит, тогда… — неуверенно начал было Эйвери — и умолк, смешавшись и покраснев ещё больше. Пожалуй, только в глазах Роули застыло какое-то потрясённое восхищение, а на лице Трэверса — неожиданный интерес.
— Лестрейндж, — заговорил, наконец, Долохов. — Я всякое повидал… Но… Ты сколько вчера, признавайся, выпил?
— Я вчера вообще не пил, — устало проговорил Родольфус. — Не лезло в горло. Пил? — горько повторил он, будто вскрывая рану. — Что вы все понимаете… Понимаете вы, как это — тринадцать лет слышать голос любимой женщины и не иметь возможности просто её коснуться? Даже теперь… Я давно для неё словно мебель — но ведь я из плоти, крови, костей и жил. Мордред меня побери, я всё-таки не железный! Пусть хоть так, — его голос упал до шёпота. — Пусть, пусть, так она получила то, о чём грезила столько дней. И ей… ей было действительно хорошо… Может быть, как никогда со мной… Но я… я не могу без неё.
Голос его оборвался, и Родольфус умолк, глядя куда-то в пространство и сжимая пальцами лакированный край шахматного столика с такой силой, что ногти практически побелели.
Он помнил прошлую ночь настолько ярко, словно проживал её прямо сейчас. Он помнил, как за ужином Белла снова пила и прожигала ненавидящим взглядом Яксли. Мелочная, иррациональная ревность, но Родольфус её понимал. Понимал эту её жадность до внимания Лорда, это её презрение к тем, кто не ищет и не ценит его, понимал — и от всей души ненавидел.
Когда этот застольный фарс подошел к концу, и Белла в гневе удалилась к себе, он выждал какое-то время и отправился вслед за ней, благодаря небеса за то, что в этот вечер его брат, кажется, не слишком нуждался в нём, и выглядел если и не хорошо, то, по крайней мере, не хуже обычного, а значит мог обойтись без него.
Когда он поднялся к ней, Белла прекратила уже бушевать и сидела, забравшись в обуви на постель. Как избалованный капризный ребёнок, она дулась молча, позволив ему несколькими Репаро восстановить разбитые вещи вокруг. Он тоже молчал, выжидая, когда она сама первой заговорит. И, как бывало уже не раз, приготовился к долгим и мучительным разговорам о том, что думал, делал и говорил сегодня Лорд. Говорили он с Беллой сегодня, похоже, много, и это разговор на пользу ей не пошел…
Каждый раз, выслушивая рвущиеся из Беллатрикс откровения о том, на что она готова для их повелителя, и о том, что она ему безразлична, Родольфус испытывал болезненную, горьковатую нежность, отвратительную на вкус, как похлёбка у нищего: Белле не с кем было поговорить об этом, кроме него, и она говорила, доверяя ему самое сокровенное.
Она мучилась и страдала, страдала по-настоящему от своей неразделенной любви — а он… он слушал её, понимая, что медленно сходит с ума, упиваясь этими редкими и нечаянными моментам даже не близости, а того, что пока ещё готова была дать ему женщина, которую он имел несчастье любить и называть женой.
Для неё же… Для неё он давно уже стал некой данностью, почти природным явлением, чем-то сродни фамильяру, не имеющего собственных страстей и желаний. Он был оплотом надежности; тем, у кого она искала понимания, утешения, даже защиты, порой от самой себя, но… не любви. Похоже, он давно утратил в её глазах если уж не человеческие, то мужские черты.
А ведь было время… нет — он знал всегда, с самого начала, что она его не любила его — но когда-то между ними были доверие, нежность и даже страсть. Временами ему казалось, что она вожделеет его не только из-за своего неуёмного темперамента, требовавшего банальной разрядки, но что её губы голодны именно до его поцелуев, а тело жаждет его объятий и ласк. Его, его, своего законного мужа, просто потому, что это был именно он — и даже если он ошибался, они всё равно были близки, пускай даже не так, как Родольфусу бы хотелось.
Но всё это было прежде — в той, другой жизни, до Азкабана. А теперь…
Какая ирония! Когда их разделили решетки и стены, они с Беллатрикс стали ближе друг другу, чем за долгие годы брака — может быть, потому, что лишь там начали по-настоящему разговаривать. Иногда подолгу, часами… Впрочем, они все, все, кто оказался там, разговаривали, заполняя этими разговорами бесконечно однообразные дни. Отчасти потому, что там не было иного способа сохранить себя, отчасти потому, что слушать бесконечный и несмолкаемый рокот волн в тишине было невыносимо.
Какое-то время Родольфус даже тешил себя странной мыслью, что тюремщики знали толк в медленных и жестоких пытках, посадив их с женой в соседние камеры, так, чтобы они могли только слышать друг друга, в этой холодном и давящей серости. Потом ему это казалось уже милосердием, но правда была такова, что их просто не думая запихнули поближе, как запихнули рядом её кузена, чтобы не разделять семью. Впрочем, Родольфус был ему благодарен — после того, как Белла изливала своё раздражение на него, её безумие утихало на время, и они могли говорить. И каждый раз его душа рвалась на куски — если бы мог, он бы пробил ту стену… однажды.
Он держался за эту мысль все те годы, что они там провели. Белла же изо всех сил держалась за веру — исступлённую, фанатичную веру в их повелителя. Так неистово веруют, пожалуй, лишь, в божество — и она как мантру, твердила что он вернётся. Она верила, что Тёмный Лорд вернётся за ними и всех их спасёт — Родольфус нет.
И оба они ошиблись.
Да, стена тюрьмы обвалилась в ревущее море, но, то, что шагнуло к узникам через выщербленный проём, не могло спасти никого, да и не слишком хотело. Но Белла не желала этого понимать.
Впрочем, Родольфус был благодарен судьбе уже за короткую передышку. В том захолустье, где они прятались сразу после побега, пережидая время самых ожесточённых поисков, было свое аскетичное очарование. Голые стены, местами в плесени, прогнившие деревянные балки на потолке… чадящий камин, а ещё разыгравшийся ветер, с грохотом сотрясавший тяжелые старые ставни… но время, проведённое там, Родольфус хранил глубоко внутри, греясь воспоминаниями об эти днях — там и тогда у него всё ещё оставалась надежда.
Там, затаившись от мира, и потихоньку вновь привыкая к свободе, они все чувствовали себя потерянными. Беллатрикс, когда они оставались вдвоём, буквально жалась к нему, замечая изломанные тени в углах доставшейся им комнаты под самой крышей и не желала оставаться одна. Она грела о него озябшие руки, когда их не видел Лорд, но расцветала восторженной и жестокой улыбкой в его присутствии. Улыбкой, уродующей её черты, как уродуют детские лица обиженные гримаски.
Какой-то разумной частью Родольфус прекрасно осознавал, почему, увидев её впервые за много лет, Рабастан шарахнулся от неё, и, прижавшись к спине Родольфуса, едва слышно тонко и жалобно заскулил, перепугав его этим до смерти: ещё одного безумца Родольфус, наверное, просто не вынес бы. Но нет, обошлось — Рабастана безумие миновало, а вот Беллатрикс… его Беллу — он отчётливо понимал это — приняло в себя целиком.
Но Родольфусу не было это важно — он любил её, её всю, и какая разница, какой Беллатрикс стала за эти холодные мёртвые годы среди дементоров? Или это случилось с ней раньше? Когда она потеряла себя? После того Хэллоуина, перечеркнувшего всё, к чему они так долго шли?
Плевать.
Он просто не мог неё насмотреться: смотрел, как она вздрагивает во сне, как засовывает в рот вьющийся тёмный локон, растерянно перебирая вещи, что прислала её сестра — Мерлин, как же они висели на ней, её старые платья… и не только на ней, конечно. Лишь одевшись в своё, Родольфус понял, насколько они измождены — все… И всё же она была самым восхитительным и прекрасным, что он видел за все эти тринадцать лет, и он не желал ни на миг закрывать глаза. Тогда он надеялся, почти верил в то, что без каменной стены между ними они с Беллатрикс… не перестанут быть.
Наверное, он тоже казался им всем безумцем — он видел это в усталом взгляде Нарциссы, украдкой вытиравшей глаза, когда думала, что этого никто не заметит. Родольфус был благодарен ей за заботу, и в ответ искренне старался не возненавидеть приютивший их дом, в котором теперь обречённо сходил с ума.
Когда плесень на стенах сменилась набивным шелком Малфой-мэнора, Беллатрикс получила то, о чём мечтала всегда — её повелитель был теперь рядом с ней. И она могла находиться при нём неотлучно, всегда, каждый миг… или хотя бы пытаться. И всё рассыпалось, крошилось вновь, как крошатся стены в покинутом доме, куда они не в силах были пока вернуться.
Может быть, фундамент подмыли дожди, может быть, поработали древоточцы, но вчера… вчера выдержка окончательно ему изменила — наверное, был и его терпенью предел, за которым начинается хаос. Родольфус заканчивал с канделябром, этим нелепым серебряным канделябром с павлинами, когда настроение Беллатрикс резко сменило галс.
— Лестрейндж, — сказала она, — Тебе самому от себя не противно? Мерлин, ну почему ты такой слизняк. Неужели у тебя нет ни капли гордости?
— У меня-то? — отозвался он эхом, как делал всегда, но… наверное, голос его подвёл. Скулы Беллатрикс неожиданно побледнели, а в глазах резко зажглось нечто неадекватное и знакомое.
— Так вот, вот что ты думаешь? Думаешь, я… я не достойна, да? И он не позволил отправиться с ним этой ночью? Убирайся, — прошипела она. — Предпочту спать одна… чем с…
Что он мог на это сказать? Ничего — и молча откланялся, поставив мордредов канделябр на место, закрыл за собой тяжелую деревянную дверь, и, досчитав до пяти, услышал, как он врезался неё со всей дури. Ему было её ужасно жаль, но сил возвращаться в ад, вырвавшийся вновь на свободу, у него просто не было. Видеть её такой, понимать, кем он сам стал для неё, было больно — и порой эта боль переставала быть выносимой. И тогда он уходил — как и в этот раз. Пожалуй, в доме было только одно место, где он мог бы найти приют в это час — но вино просто не лезло в горло, и он отправился бесцельно бродить призраком самого себя.
Он поднялся на чердак, к совам, и какое-то время слушал тихое клокотание в темноте. Прошелся длинными сонными коридорами — иногда прислушиваясь к странным звукам за запертыми дверями — в какой-то неестественной, обволакивающей его со всех сторон тишине, они звучали особенно громко. А где-то тишина была такой осязаемо-плотной, пожирающей звуки внутри себя, что холодок бежал по спине. Это был чужой дом, и Родольфус никогда не был жаден до чужих тайн. Самому бы не попасться сейчас кому-нибудь на глаза, устало подумал он, прислонившись лбом к казавшемуся ледяным стеклу в музыкальной гостиной.
Снаружи давила тяжёлая мрачная чернота, и Родольфус терялся от странного ощущения, что тонкая, почти невидимая преграда вот-вот исчезнет, и он выпадет, растворится разлитой в саду чернильной тьме. Он отшатнулся и тяжело выдохнул — наважденье ушло, как во время отлива уходит море, оставляя равнодушный и покрытый мусором берег. Родольфус ощущал себя полым, будто пустой кувшин, стенки которого покрылись узором трещин, и он вот-вот распадётся на черепки. Даже камень со временем устаёт, и горы обращаются пылью, насколько ему еще хватит здравого смысла и сил?
Есть ли у него гордость, спрашивала она? Да, он бы предпочел, чтобы этот кувшин вдребезги разлетелся о стену, потому что внутри него остались лишь тлеющие угли. Если он способен держать ревность, сжигающую его, под контролем, это не значит, что та не выжигала его изнутри. И было этой ночью что-то такое разлито в воздухе, что всколыхнуло в душе эту муть.
Родольфус провёл пальцами по оконному переплёту, и только сейчас заметил белеющие на широком подоконнике листы бумаги. Рисунки, незаконченные рисунки брата. Он вгляделся в них уже в коридоре: резкие, нервные, пугающие штрихи; странные, не принадлежащие никому из известных живых существ глаза, венчавшие изломанные костистые крылья; болезненные суставы когтистых лап — и везде, везде линии то и дело обрывались с надрывом. Почти все рисунки были исчёрканы словно в детской ярости: Рабастан когда-то, Родольфус уже и не помнил, когда, делал так, если у него что-то не выходило. Ему было тогда лет шесть или семь, может быть даже восемь… А затем он бросал их в камин…
Отчетливо потянуло дымом, и в какой-то момент Родольфусу показалось, что воздух вокруг загустел, а затем тоненько, на одной скорбной ноте зазвенела струна прислонённой к столу гитары. Мерлин, даже дом жалеет его…
Родольфус и сам не понял, как оказался вновь в коридоре, и тот огромной и мрачной змеёй изогнулся куда-то в сторону, словно маня его за собой, и он, сам не зная зачем, пошел, механически переставляя ноги и сжимая рисунки в руках. Чудовища на них практически шевелились, завораживая и одновременно вызывая у него тошноту. Возможно, подумал Родольфус вдруг, Белле с годами в нём стало недоставать интригующей смеси экстравагантности и уродства. Эта мысль была возбуждающей и отталкивающей одновременно, и он тяжело провёл рукой по лицу.
Да, в горле действительно пересохло — сколько можно убегать от себя? Наверное, он просто пытался оттянуть тот момент, когда от вина мысли в его голове как смола загустеют… Конечно, напиваться стоило бы, как делал хозяин дома, чем-то позлей, но Родольфус, истязая себя, предпочитал растягивать этот процесс до рассвета. Он так глубоко задумался, что не сразу понял, что спустился на первый этаж и забрёл в одну из подсобных комнат. Ту, куда всегда можно свернуть по дороге к камину и центральном холлу, и которую если что — авроры не сразу найдут.
На стене висели плащи, в подставке для зонтиков стояло несколько узловатых тростей и пара узких клинков, на стене среди неприметных шляп висел арбалет, на узком столе были разложены какие-то амулеты, но самым главным обитателем комнаты был массивный аптекарский шкаф со стеклянной дверкой. Флаконы, фиалы, и бутылочки выстроились в нём в строгих армейских порядках — что ж, ничего удивительного: в Волшебной Британии шла война.
Лишь одна полка смотрелась сейчас сиротливо. Флакон был один, с плотно притёртой пробкой и тонкой полоской пергамента, на которой убористым почерком было написано «Оборотное зелье, два часа».
Последняя порция, повздыхал Родольфус — новая дозревает у Снейпа в котле и будет едва ли в конце недели.
А значит, это всё, что осталось тем, кто захочет отправиться по делам или просто вдохнуть немного свободы…
Такая заманчивая возможность не быть два часа собой…
Всё, всё неожиданно сошлось в этой комнате. Сложилось, словно Родольфус много дней работал над сложным планом, в котором не хватало одной, последней детали, и она, наконец, нашлась; со щелчком встала на место, и теперь всё стало кристально ясным.
А еще, кажется, он только что лишился остатков благоразумия и действительно решил совершить самое изощрённое самоубийство за всю многовековую историю их семьи.

Далеко-далеко, на другом континенте, в засушливой юго-западной Африке есть большая река Окаванго, единственная река, которая никуда не впадает. Родольфус читал о ней: начиная свой путь в Анголе, по большей части та, причудливо извиваясь по гористой местности сотни миль, текла в никуда, почти пропадая в песках и донося совсем немного воды до великих болот за пустынею Калахари. Но иногда, когда сто и одно обстоятельство сходятся воедино, когда звёзды выстраиваются в особом порядке, когда дни над пустыней облачны, а дожди особо обильны, она достигает впадины, где тысячу лет назад простиралось солёное озеро. В мае дожди заканчиваются, воды реки Окаванго поднимаются высоко — и Родольфус чувствовал, что стоит посреди древней впадины Макгадикгади, утопая в них по колено.
Флакон, практически жёгший пальцы, Родольфус сунул в карман, не раздумывая, вместе с рисунками брата, которые до сих пор держал. И так же, не раздумывая, ринулся, словно через африканскую реку вброд, в пустующую сейчас комнату Лорда.
Дверь открылась легко — их повелитель охранными чарами себя особо не утруждал, зная, что никто в здравом уме не сунулся бы к нему без приглашения. К тому же всё, что он действительно сколько-нибудь ценил, было при нём неотлучно. Но Лорда здесь не было — недаром Беллатрикс битый час убивалась. Так что охваченный безумным и опасным азартом Родольфус переступил порог без особого пиетета, поплотней прикрыл за собою дверь и, наложив на всякий случай простейшие заглушающие, неистово принялся за обыск.
Сперва он перетряхнул бельё на аскетичной кровати Лорда — и тут же обнаружил искомое, стараясь гнать от себя подальше абсурдную в своей ирреальности мысль, линяет ли их повелитель. Это была то ли иссохшая плёнка облезшей кожи, то ли полупрозрачная чешуя — Родольфус даже не взялся определить, что перед ним оказалось, просто ссыпал всё на один из странных рисунков брата, завернул и спрятал к флакону в карман. Почему-то найденные следы уже совсем нечеловеческой природы их повелителя не вызвали у него никаких эмоций вроде естественного и очевидного отвращения, которое должен был бы испытать любой вменяемый человек, обнаружив подобное у кого-то в постели. Родольфус не чувствовал ничего, кроме смутного горячечного возбуждения от удачной охоты.
Но этого было мало, мало подумал он, и тут же вломился в ванную и зарылся в бельевую корзину, а затем, словно охваченный жадностью вор, обшарил заодно шкаф и все бельевые ящики, разжившись обломком ногтя. Вот тогда-то он заодно прихватил и мантию. Вернее, он, не думая, бросил её себе на плечо, чувствуя, что время уже поджимает, и лишь в коридоре, запирая дверь за собой, осознал, что именно только что сделал.
Наверное, предстань он перед предками в тот момент, у него были бы серьёзные затруднения: одна часть наверняка бы его проклинала за попранную вассальную верность и вероломство, вторая кричала «плевать, если этот мальчишка добычу взял», а третья… третья качала бы головой, сокрушаясь, как низко пали потомки, куда ни ткни.
— К Мордреду, старые перечники, — ответил бы им Родольфус. — Вам ли понять, что у меня на душе! — Назад поворачивать было поздно — и какая разница, что будет завтра.
Пусть воровство и было ниже его достоинства, но как-нибудь он это переживёт, тем более, остальное пережить будет куда сложнее. Так рассуждал почти летящий по сумрачным коридорам Родольфус, даже не пытавшийся замаскировать свой трофей — только сунул его подмышку. Но даже встреть он кого-нибудь, наверняка от него в этот час просто бы отвели глаза. Но он никого не встретил — коридоры были пустынны, словно в доме все вымерли или просто не жили.
И хотя рубашка предательски взмокла от волнения на спине, он ни разу не сбился с шага, а сами его шаги терялись в ночных звуках дома, раздававшихся странно глухо, словно из-под толщи воды: тихо скрипел доски, вздыхали во сне на своих портретах нарисованные Малфои, и Родольфус всем своим существом стремился сейчас скрыться с глаз. Для воплощения своего безумного плана ему требовалось убежище, и он, спустившись по широкой лестнице, пересёк гулкий холл и взялся за медную ручку двери, ведущей к винному погребу.
Стоило ему приоткрыть дверь, как лица его коснулось дыхание близкого подземелья: потянуло стылой влагой старых камней, и едва уловимый аромат спелой ежевики и роз, круживший Родольфусу голову и заставлявший быстрее бежать в его теле кровь, стал почему-то сильнее.
Родольфус дотронулся рукой до шершавой стены, отгоняя от себя наваждение, засветил висящий под потолком светильник и стал спускаться. Этот путь он уже хорошо заучил: вниз, вниз, по старым вытертым ногами ступеням; затем направо, мимо покрытых пылью бутылок, в небольшой закуток за бочками с кальвадосом; к узенькому столу, на котором воском оплыла уже не одна свеча; к старой, отполированной за годы и потемневшей от времени табуретке.
В этом убогом приюте Родольфус, проводил, бывало, никем не замеченный, целые ночи — и порой оттуда видел и Люциуса, кажется, даже не подозревающего о таком соседстве.
Впрочем, Родольфусу ли было его упрекать? Сам он не то чтобы пил — часто просто сидел часами, уговаривая за ночь едва ли бутылку. Да и дело ли — напиваться хорошим старым вином… Если б он действительно запил, кто бы знал, чем это всё могло кончиться; что сталось бы, если б Родольфус Лестрейндж отпустил себя. Но Люциуса он понимал, и осуждать не думал. И тревожить бы тоже не стал — зачем? Не плакаться же им в жилетку друг другу — гордость у них обоих ещё была.
Но сегодня Родольфус в погребе был один — и, возблагодарив Мерлина, он почти что упал на свою табуретку, схватил со стола недопитую со вчера бутылку, и сделал пару глубоких глотков, а затем извлёк из кармана свою добычу.
В свете свечей флакон зловеще сверкнул, рука у Родольфуса дрогнула, и он поспешил поставить его на стол, а затем стёр испарину, выступившую на лбу. Решение он уже принял, но сомнения налетели на него в последний момент: а вдруг эта не то кожа, не то чешуя, принадлежит не Лорду, а этой его змее? Мало ли с кем тот делит ложе — пусть даже для неё они и были слишком мягкими и светлыми. Моргана и Мордред, что же он вообще творит? Но другого шанса не будет. Ему уже всё равно умирать — Лорд не простит такого, так что пойди что не так, он хоть никого не перепугает: хорош он будет, если начнёт ползать по комнатам и шипеть. Или вот ноготь окажется, скажем, домовика…
Напряжённо подрагивающими руками Родольфус откупорил пробку и, последний раз взглянув на зловещий рисунок брата, ссыпал с него содержимое, и какое-то время глядел, как зелье бурлило и пенилось, обретая неприятный белёсый цвет.
Затем Родольфус снова приложился к бутылке, а потом выпил эту дрянь залпом. И тут же, согнувшись практически пополам, сполз с табурета на пол. Сколько раз ему уже доводилось пить это зелье — и каждый раз ощущение, будто внутренности становятся шевелящимся клубком змей, вызывало у него омерзение. Впрочем, сейчас это было почти что аутентично, ухмыльнулся он сам себе, ловя ртом, ставший плотным и почему-то горячим воздух.
К омерзительному вкусу перепрелой капусты во рту Родольфус давно привык, но на сей раз это варево показалось ему раз в сто отвратительнее обычного — увы, другой порции у него не было, и он невероятным усилием воли заставил себя удержать всё внутри.
Кожу жгло всё сильнее, вместе с кожей чудовищно жгло желудок, к горлу поднялась душащая его кислота, и Родольфус закашлялся; его, всё же, стошнило, однако, превращение шло. Утерев рот, он слезящимися глазами смотрел на свою же руку, и видел, как вытягиваются и белеют его и так не слишком загорелые пальцы, а ногти утолщаются и сереют.
Получилось.
У него получилось!
И хотел бы он знать, сколько времени будет работать это зелье с такой… составляющей. Час? Два часа, как хвастливо обещал на этикетке Снейп? И не выйдет ли так, что он вообще застрянет в этом облике навсегда? Вернее, до первой встречи с… оригиналом? Достаточно ли в Тёмном Лорде осталось ещё человеческого, чтобы Родольфус смог превратиться назад? Впрочем, это он узнает достаточно скоро — всё равно назад пути уже нет.
Голова кружилась, и он поднялся с трудом; постоял какое-то время, опираясь руками на стол, а затем сумел взять в руки палочку и превратил днище ближайшей бочки в большое круглое зеркало. Удивительно, но видеть в тёмном подвале он стал значительно лучше, хотя краски вокруг стали куда бледней, и всё вокруг будто подёрнулось красноватым пеплом.
Родольфус провёл длинными узловатыми пальцами по лицу, коснулся шеи. Потеряв один волос, ещё не становишься лысым, писал древний грек Евбулид, потеряв второй волос — тоже; так когда же начинается лысина, подумал Родольфус водя пальцами по гладкой как квоффл голове. Впрочем, внутренний голос издевательски озвучил и другой знаменитый софизм — о том украшении, каким он бы вполне мог похвастаться по милости Беллатрикс(1). Родольфус немного нервно расстегнул воротник мантии, которая стала ему явно коротковата, но висела в плечах, а потом и вовсе разделся, избавляясь от пропитанной потом рубашки и ощущая босыми ногами холодный каменный пол.
Родольфус разглядывал в зеркальной поверхности чужое, странное тело. Тело Лорда, а теперь, на время, целиком лишь его: тощее, словно экспонат анатомического театра, жилистое и длинное. Будто обычного человека взяли и слегка вытянули, исказив человеческие пропорции, так, что инаковость теперь слишком уж откровенно читалась в них. Обтянутое бледной, как у покойника, кожей, пронизанной синими жилками, на которой кое-где виднелся змеиный узор; местами можно было даже почувствовать, как рельефно проступает и чешуя. На ощупь кожа была холодной — куда более холодной, чем Родольфус себе представлял.
И голой.
Абсолютно лишённой волос.
Не только на голове; их попросту нигде не было — даже в паху, как Родольфус успел убедиться. И там его взгляд задержался дольше всего.
Болезненное, полубрезгливое любопытство заставило Родольфуса оттянуть плоть и его губы тут же растянулись в кривоватой ухмылке: м-да, даже до стандартов античной скульптуры повелитель, на первый взгляд, не дотягивал. Сам Родольфус, даже не будучи возбуждён, казался, пожалуй, несколько представительнее. Не удивительно, что его ботинки оказались Лорду великоваты. Впрочем, он мог бы об этом задуматься куда раньше — Лорд имел привычку ходить босым, вот только мало кто решался разглядывать его стопы. Мордред, он совсем не о том думает, одёрнул себя Родольфус. Хотя… с какой стороны посмотреть: ему же ведь придётся воспользоваться тем, что имелось. Но в поединке решает не длина палочки, а насколько ты с ней искусен, и уж он-то сегодня этот тезис докажет наверняка. Но стоило ему подумать о той, ради кого он всё это сейчас изучал, ему перестало быть хоть сколько-нибудь забавно — он вновь испытал болезненную глухую злость. Неважно… ей всё это будет совсем неважно.
Родольфус привычно хрустнул костяшками — ощущение вышло совсем чужим, странным. Он поднял руку и несколько секунд внимательно разглядывал длинные… действительно длинные и тонкие пальцы, вдруг обратив внимание, что держит палочку совсем не так, как держал её Лорд. Да — нужно потренироваться. Белла очень хорошо знает своего повелителя… как и палочку, понял он. Значит, на её глазах колдовать не стоит. Хорошо же ему придётся тогда постараться, чтобы она поверила… Может, стоит завязать ей глаза — тогда это снимет большую часть вопросов.
Он задумчиво поскрёб ногтями тощую, как у скелета, грудь, а затем набросил на плечи мантию — вот так чародеи и ходили в древние времена. Родольфус ещё раз посмотрел на себя в зеркало и изобразил на чужом лице холодную, полную превосходства усмешку. Да, вот так — всё справедливо: Лорд украл его жену, и сегодня он возвращает себе то, что его по праву.
— Бэ-э-элла, — протянул он — и вздрогнул от собственного же голоса. Нет, не так — Лорд никогда не говорит с подобными пошлыми интонациями. — Бе-елла, — повторил он — и опять поморщился. Не то. — Белла!
Родольфус сделал зеркальной всю стену, и некоторое время прохаживался, глядя на своё отражение и стараясь воспроизвести движения Тёмного Лорда. Может, в нём и не умер великий актёр, но он Лестрейндж — и сможет быть убедителен. По крайней мере, в тёмной спальне, если завяжет жене глаза. Главное — не встретить никого по пути.
Ну что ж, его выход.

1) Евбулид известен и еще одним парадоксом, построенном на логической ошибке. «Что ты не потерял, ты имеешь. Рогов ты не терял. Стало быть, ты рогат».
Наверное, сейчас где-то в его сознании должны были раздаться визгливые звуки флейт, а затем хор должен был монотонно затянуть свою песнь, предваряя грядущее действо. Родольфус последний раз высокомерно улыбнулся своему отражению с чужим лицом — белым, как гипсовые античные маски, — а затем, уменьшив и спрятав свои же вещи в рукав, избавился от зеркал и заставил свечи с шипеньем погаснуть.
Ощущая под босыми ступнями холодный камень, он торжественно поднимался по лестнице, ведущей из погруженных во тьму подземелий к бледному проблеску света, гордо расправив плечи, будто играя на публику, вот только единственным зрителем в этом театре был он сам. Впрочем, уже достигнув двери, Родольфус вышел из роли и тихо выругался, стоило ему взглянуть на свои же ноги. Мерлина ради! Видимо, он, подсознательно не желая облачаться в чужое, и, похоже, не слишком свежее, не задумываясь, набросил свою же мантию. Если где-то на не видимой глазу орхестре(1) пел сейчас хор, то маски на нём явно были звериными, и Родольфус почувствовал, как его захлестнула злость. Он в ярости на себя зашипел — более чем натурально — и его холодная змеиная кровь почти закипела, как закипает эфир, стоит просто нагреть в руке колбу…
Время, отпущенное ему, утекало сквозь пальцы, и он словно в бреду судорожно вытряхивал из рукава свои вещи, возвращая им привычный размер и пытаясь понять, что есть что. Затем, прямо там, у двери пытался переодеться, наступая на длинные полы лордовой мантии. И только уже подбирая с пола и снова пряча в рукав свою одежду, он сумел взять себя в руки.
Родольфус хищно пересёк тёмный и тихий холл, взлетел по широкой лестнице на третий этаж и только у двери Беллатрикс затормозил, будто наткнувшись на невидимую преграду. Будь он четырежды Тёмный Лорд, он бы не взялся гадать о реакции тревожно спавшей за дверью женщины. Палочку она не выпускала, кажется, ни на миг, словно спасаясь этим от душащих её по ночам мутных и тягучих кошмаров, и не всегда, проснувшись, понимала, кто перед ней.
Не пугала её разве что только сестра. Самому же Родольфусу нередко приходилось прижимать её утром к постели, чтобы Беллатрикс не выцарапала ему глаза, прежде чем сможет осознавать реальность.
Ворвись он сейчас — это могло бы быть последнее, что он сделает в этой жизни. И что ему остаётся? Вежливо постучать? Как же всё нелепо выходит! Родольфус захотел беспокойно взлохматить волосы, но лишь провёл рукой по лысой сейчас голове, стирая выступившую на лбу испарину. А он-то думал что, такие как Лорд, не потеют…
Родольфус прикрыл глаза и нервно выдохнул через змеиные ноздри-щели, снова позволив злости направить себя. Пожалуй, это была единственная эмоция, заставлявшая это чужое тело просто идти вперёд, отбрасывая все эти внутренние шепотки сомнений и заглушая надоевший ему до зубовного скрежета голос разума.
Я, Мордред меня дери, Тёмный Лорд, напомнил он сам себе. Лорд Судеб, проникнувший в тайны смерти дальше, чем кто либо прежде! Мне не нужно ничьё разрешение. Я беру всё, что могу и хочу, пусть даже собственную жену, которая ещё не знает об этом. И я не намерен топтаться под дверью!
— Беллатрикс, — его голос прозвучал сухо и холодно в сгустившейся тишине, — за ужином мы не закончили. Я вхожу. Позволь себе принять от меня эту небольшую любезность, — добавил он саркастично. — Я знаю, что ты не спишь.
Тусклую полоску света под дверью он счёл достаточным приглашением и широким жестом её распахнул, неумолимо пересекая порог спальни, раз за разом страдавшей от ярости Беллатрикс. Родольфус с доставшейся ему вместе с телом грацией перешагнул валявшийся на полу канделябр, а затем чинно прошествовал прямиком по осколкам, оставшимся от хрустальных подвесок и застывшему воску свечей, не ощущая боли. Густая, замешанная на мрачном азарте злость растекалась по его венам. Наверно, сейчас он мог с равной вероятностью поцеловать её или свернуть ей шею, но всё же Родольфус остановился за целый шаг, видя, как под его тяжёлым и пристальным взглядом теряется Беллатрикс.
Её влажные волосы были спутаны, а на бледном, припухшем от слёз лице с широко распахнутыми глазами застыло такое глубокое изумление, что не будь Родольфус так холодно напряжён и зол, он бы наверняка нервно кашлянул, особенно когда она неосознанно подтянула к груди одеяло.
В комнате повисла странная тишина, которую не нарушал даже грохот стучавшей в ушах крови, и Родольфус позволил себе этот краткий момент осторожного тайного любования, давая ей время немного прийти в себя. Роскошь, которой бы настоящий Лорд не позволил.
Запахи, витавшие в неподвижном воздухе, дразнили его: лёгкий запах её влажных волос, аромат притираний и мыла, уютный запах камина и, кажется, свежих роз. Он подумал о её искусанных нервно губах, когда Беллатрикс с неверящей полуулыбкой слегка запрокинула голову.
Родольфус буквально в движении воздуха ощутил, что она задышала чаще, когда он подошёл к ней, и, взяв властно за подбородок — как любил делать Лорд — наклонился и впился губами в губы. Перед глазами всё словно заволокло пеленой; он помнил, как в первый момент она не решалась ответить, а потом, словно опьянев с одного поцелуя, что-то хищное, незнакомое пробудилось в ней. На таком расстоянии ей лицо расплывалось, двоилось перед его глазами, и всё равно в его памяти был выжжен восторг, плескавшийся в её расширившихся зрачках.
Как же она на него смотрела! Никогда Родольфус не видел такого лихорадочного, больного блеска, такой эйфории в глазах жены — и он, не выдержав этого предназначенного не ему взгляда, взмахом палочки, скрытой в его рукаве, заставил погаснуть свечу и потухнуть угли в камине. Комнату затопило тьмой, и только тогда Родольфус позволил себе отпустить всё, что его ещё как-то сдерживало — это был его единственный шанс, и он намеревался получить всё, что только мог.
Наверное, он и правда сошёл с ума в эту ночь, к тому же его подпитывала мстительная обида… Впрочем, Беллатрикс никогда не нравилось, когда он сам был с ней слишком нежен. Она с наслажденьем стонала, даже зная, что на её теле останутся засосы и синяки. И он сам низко рычал, когда ощущал, как её ногти впиваются в его спину. Он слышал её глухой, торжествующий смех, и ему казалось, что его кожа снова плавится, будто бы он влил в себя свежую дозу оборотного зелья.
Он помнил, какой же Беллатрикс казалась ему горячей. И дело было не только в её темпераменте: её кожа в первый момент едва ли не обжигала его ладони, и только тогда он понял, насколько же сам казался ей ледяным. Его… нет, украденное им тело было слишком холодным — во всех смыслах, и ему явно требовалось куда больше времени для всего, но вошедшую в раж Беллатрикс это не волновало. Она была ненасытна, и в какой-то момент Родольфус вдруг осознал, что одного только энтузиазма ему надолго просто не хватит, тем более, он остывал так же быстро, как сама она вспыхивала.
Пожалуй, это была бы отличная месть, если бы он позволил всему так неловко закончиться, вот только он сам уже не мог повернуть назад. Это был его личный вызов, последний шанс, так что Родольфусу пришлось быть очень и очень изобретательным с этой его новой природой; и он мог себя похвалить, когда нашёл верное применение нечеловечески длинным пальцам их Повелителя. Теперь Беллатрикс издала звуки, в которых, кажется, не осталось ни капли достоинства, но достоинству здесь и сегодня не было никакого места.
Родольфус видел и ощущал её всю: для него Беллатрикс светилась в ночной темноте багряным и рыжим, как отсветы пламени. Он хотел её целиком, и сам не мог ей насытиться, даже когда роскошная малфоевская кровать начала ритмично поскрипывать под их общим весом. Ему казалось, что он не продержится и пары минут — сколько же мечтал он об этом? Сколько раз он просыпался ночью от горячих томительных снов — и понимал, что это лишь сон, далеко не сразу? Как долго он гнал от себя тоску… и теперь, когда это, наконец, случилось с ним наяву, он просто не ожидал, что мордредово чужое тело так себя поведёт.
Ему казалось, что страсть выест, выжжет его изнутри, становясь с каждой секундой, с каждым его движением сильнее, но достичь кульминации Родольфус никак не мог; Белла же, похоже, шла на рекорд, но в этом дуэльном раунде тоже не могла одержать пятой, финальной победы. Родольфус уже почти сдался, когда неожиданно ощутил, как у него слегка зачесался нос, а кожу на голове стянуло, словно волосы начали прорастать сквозь неё. Кровь в его теле побежала быстрее, отливая от мозга и приливая туда, где ей полагалось быть, и от недавней почти что вялости вдруг не осталось следа; он перестал бесполезно скользить, с каждым движением испытывая привычное и знакомое тесное ощущение близости.
И явно не только он.
Родольфус услышал — нет, сперва просто почувствовал, как напряглось тело его жены, затем услышал её громкий и какой-то яростный стон, и мир на мгновенье вспыхнул и закружился… он даже, кажется, закричал — коротко, гортанно — и замер, зажмурившись и зарывшись лицом в разметавшиеся по простыне густые влажные кудри.
Он почти провалился в расслабленную посткоитальную дрёму, каждый мускул обратился в желе, но тут Беллатрикс, завозившись, прижалась к нему, тихонько вздохнула, и, засопев, обняла — так, как привыкла. Она всегда засыпала сразу после того, как силы у них кончались, и Родольфус, почти не думая, притянул поближе подушку, подкладывая ей поудобней под голову. А потом по привычке одним движением завернул жену в одеяло и услышал, как она сонно пробормотала:
— Эй, великан, ты опять, опять не подоткнул ноги… ну дует же! — и трогательно поджала ступни. Ещё не до конца осознавая, что делает, Родольфус осторожно укутал их, чувствуя, как внутри него что-то мучительно зазвенело, практически его оглушив и оставив его абсолютно беспомощным. «Эй, Лестрейндж, у тебя манеры как у горного великана» — это было первое, что она сказала ему, после того, как они впервые остались вдвоём. Когда-то она называла его наедине только так… Когда-то… Могла ли она сейчас… или… в ней просто сказалась привычка? Почему-то Родольфус чувствовал, будто украл сегодня что-то у самого себя, и от жалости к самому себе его замутило.
Нет, всё же мутило его вовсе не от душевных мук, понял он, а затем пришла острая резь в желудке — и такого при обратном превращении он что-то раньше не замечал. В худшем случае ощущалось разве что жжение, но сейчас что-то явно пошло не так.
Вслепую нашарив палочку у постели и с трудом прошептав «Акцио», призывая одежду, он, шатаясь и едва не убившись о валявшийся на полу канделябр, выбрался в коридор, где, едва не теряя сознание, успел закрыть за собой дверь и прислонившись к ней, сполз мучительно на пол.
Нужно было убираться отсюда, пока какой-нибудь услужливый домовик не явился узнать, всё ли с гостем хозяев в порядке. В порядке он не был, и Мерлин благослови Нарциссу и Люциуса, что они убрал портреты своей родни из этого куска коридора — хорош бы он был, скорчившись перед ними нагишом на полу.
Он встал на одной силе воле и плохо помнил, как добрался до маленькой гостевой спальни рядом с комнатой Рабастана, в которой иногда ночевал в те дни, когда нужен был ему рядом, и во все остальные, когда Беллатрикс снова и снова была не в себе. А потом… потом… несколько часов — до рассвета — просто выпали из его памяти, и Родольфус обнаружил себя лежащим на ковре у кровати мокрым от пота и слёз и до озноба замёрзшим. Всё тело его онемело от неудобной позы, и он, едва способный соображать и с трудом понимавший, что именно накануне сделал, стянул покрывало с кровати и завернулся в него. Нужно было согреться, пусть он и смутно догадывался, что трясёт его больше от пережитого потрясения, чем от холода. Видеть ему сейчас никого не хотелось, и он снова закрыл глаза.
Однако сон к нему больше не шёл, и он, полежав немного в странном оцепенении, поднялся, как был, отыскал в шкафу среди прочих вещей свой халат, выглянул в коридор, и, убедившись, что дом ещё спит, с трудом добрался до ванной.
Стоя под горячими струями, он растирал ладонями плечи, продолжая стучать зубами от нервного напряженья и холода. Через какое-то время его перестало трясти, и навалилась слабость. У Родольфуса не нашлось сил даже побриться; он бы и не рискнул — руки его до сих пор тряслись, да и в зеркало смотреть на себя было слегка жутковато, словно он боялся увидеть там чужое лицо.
Вернувшись в свою скромную комнату, он растопил камин и, глядя, как медленно разгорается пламя, а тени танцуют в углах, заметил смятую чёрную мантию, валявшуюся на полу. Родольфус провёл рукой по лицу и нервно, как слабоумный, хихикая, привалился к стоящему рядом креслу.
Впрочем, смех тоже быстро ушёл, как уходит в песок вода без остатка. Родольфус, с кряхтеньем поднялся и почти рухнул в кресло, и какое-то время сидел, прикрыв глаза и слушая треск поленьев, а ещё стоявшую в комнате тишину.
Она была не такой, как этой ночью — он долго подбирал верное слово — скорее, обычной, когда люди ещё просто спят. Неожиданно память подкинула ему тот момент, когда в своих полуночных скитаниях его занесло в другое крыло, и он проходил мимо комнаты Трэверса. Внутри что-то еле слышно шуршало — и даже в том состоянии, в котором он пребывал, Родольфус ускорил шаг, потому что этот шорох был… каким-то пустым и нездешним. Он не смог бы объяснить это внезапное понимание и самому себе, но тогда он был в этом уверен, словно его снова коснулось дыхание Азкабана. Впрочем, сейчас, в рассеянном утреннем свете, эта мысль показалась ему слегка дикой … Хотя то, что он сотворил этой ночью — ему ли о странностях говорить?
Однако с мантией нужно было что-то решать, и он уже был готов отправить её в огонь, когда в последний момент вспомнил о походной скудности своего гардероба — им только лишь предстоял визит в собственное поместье. Он вытряхнул свои вещи из рукава и, щёлкнув пальцами, бросил всю кучу на руки тихо возникшему у кресла домовику, а затем распорядился подать себе крепкого чаю — изжога всё ещё его донимала.
Завтрак он пропустил, оттягивая момент, когда нужно будет выйти из комнаты: как только он вновь увидит свою жену, все мучительно сладкие воспоминания этой ночи вопьются в него словно осколки стекла. Родольфус не знал, что будет теперь с ними дальше, и хотел до последнего насладиться оставшимся в его памяти взглядом жены, не думая и не вспоминая, на кого же она смотрела. К тому же он просто не представлял, как ему себя повести. Только сейчас, прокручивая в голове всё пережитое шаг за шагом, он неожиданно понял, что всё время, пока они с Беллой были вдвоём, дверь в спальню была открыта, и приступ нездорового нервного смеха снова накрыл Родольфуса с головой. Это было так уморительно, несбыточно, невозможно, что, он, кажется снова плакал, не отдавая себе отчёт.
Немного придя в себя, он всё же заставил себя выйти из комнаты и спустился в библиотеку, как делал это уже много дней. Тем более что в такой ранний час он никак не ожидал там кого-либо встретить, разве что Рабастана, который с рассветом всегда вставал.
Но ошибся, натолкнувшись сперва на почти скульптурную группу из дремлющего в кресле Мальсибера и рисующего его Рабастана. Кивнув тихо брату, Родольфус замер у стеллажа с греками и наудачу вытащил что-то из классических сочинений. На ощупь книга была приятной. Родольфус пальцами оценил бумагу — для волшебного мира слишком уж хороша! И он бы не удивился, обнаружив на первой странице тщательно заколдованные издательство и тираж. Впрочем, все в этом доме отлично владели навыком избирательной слепоты, чтобы не придираться к качественным изданиям.
Даже Лорд.
Так что же ему досталось? Овидий «Метаморфозы» — прочёл на обложке Родольфус и почти застонал, ощутив, как подкрадывается к нему уже третий за утро приступ истерики, оставляющей после себя пустоту. Так что, когда на пороге библиотеке, негромко беседуя, появился, неся с собой ароматы недавнего завтрака, Торфинн Роули в компании несколько нервного Маркуса Эйвери, Родольфус только рад был скоротать время за шахматной партией, позволив себе на время выкинуть из головы все посторонние мысли и сосредоточиться на этой малой войне.
Когда и как появился Трэверс, никто не заметил, однако Родольфус бы нисколько не удивился, если бы он был тут всё это время: в конце концов, они с Гектором делили одну спальню семь лет — за это время ко многому привыкаешь. Затем подтянулся и бледноватый Люциус, поспешивший отвести неловко глаза, и задумчивая Нарцисса — она смотрела сочувственно.
Родольфус ответил им мрачноватой и грустной усмешкой, отмечая про себя выражение лиц всех, кто этой ночью был в доме. Что ж… по крайней мере, их он действительно удивил. А уж как поразится Лорд, когда обо всём узнает…
Или если.
Не то чтобы он был готов запросто на них вывалить это всё, но много ли времени дают обычно приговорённым? Может быть, это последнее, что Родольфус Лестрейндж может поведать миру — не записку же им оставлять.
1) Орхе́стра (др.-греч. ὀρχήστρα, от др.-греч. ὀρχέομαι — «танцевать») — основная древнейшая часть античного театра. Круглая (затем полукруглая), окаймлённая амфитеатром площадка, на которой выступали хор и актёры и происходило основное действо трагедий и комедий древнегреческого театра. В центре же на небольшом возвышении был расположен жертвенник богу Дионису (фимела), подчёркивавший ритуальную основу театрального действа.
Кресло перестало казаться ему удобным в середине скуповатой исповеди Лестрейнджа, и Ойген Мальсибер всё откровеннее порывался если и не вскочить, то усесться на самом краешке. Всё эти внезапные дикие откровения ну никак не вязались у него с холодной и молчаливой твёрдостью, прочной, как белые скалы Дувра, к которой он за эти годы привык. Но столько скрытой боли и искренности было в выплеснутом на них признании, что Ойгену стало физически неуютно, словно он сам был в чём-то перед ним виноват. Может быть, в том, что не видел, не хотел вглядываться в то, на что можно взять и приклеить ярлык «Не моё дело»?
Бастет, они с Родольфусом и не были никогда друзьями, но участия и поддержки тот заслужил как никто. И пусть, казалось бы, самого-то Ойгена случившееся этой ночью никак не касалось, но он не мог и не хотел отгораживаться и закрывать глаза. Вся эта история словно мрачный морской прибой выбрасывала на берег водоросли вперемешку с обломками погибшего корабля. И нужно бы было бежать и пытаться отыскать выживших, но Ойген будто застыл перед обгладывающими берег волнами в полной растерянности. Это море рисовалось Ойгену неприятно свинцово-серым, но другого он представить не мог. Больше не мог — те, другие воспоминания выцвели и поблёкли, как старые колдографии.
— При такой преступной неосмотрительности, вам действительно повезло, что Лорд отсутствовал до утра и вернулся усталым в той мере, чтобы фатальные для присутствующих последствия не наступили сразу.
Наверное, если бы эти слова произнёс сам Тёмный Лорд, реакция собравшихся этим утром в библиотеке мало бы отличалась от той, какую, по мнению Ойгена, сейчас наблюдал с некоторой долей научного интереса Августус Руквуд. Он стоял на галерее, опоясывавшей второй этаж, опершись резные на перила, и осторожно протирал стёкла своих очков.
«Сколько он уже там?», «Зачем?» и «Что слышал?» — читались на лицах незаданные вопросы, однако самого Ойгена его появление почему-то скорее приободрило, и даже несколько успокоило: посреди всех творившихся странностей пожилой невыразимец казался ему крохотным островком нормальности, на котором сиял маяк если не здравого смысла, то знания. И пусть Ойген, даже не слишком стараясь, ощущал расползавшееся вокруг грозовое облако из сомнений и мрачных тревог, сам он был почему-то уверен, что прямо сейчас Руквуду и в голову не придёт закатать рукав, касаясь палочкой метки, и он точно не отправится прямиком к Лорду, закончив со своими очками.
Голос Руквуда звучал спокойно и ровно. Так, как все эти годы звучал в тюрьме, отражаясь от толстых стен, когда он кому-то напоминал поесть или сообщал текущую дату, пока они все блуждали вне времени. Эти его негромкие «до Рождества осталось пять дней» или «сегодня шестое июня, с днём рождения, мистер Мальсибер, во сколько вы родились?». Может, и сейчас он даст им совет? Возьмёт и так же спокойно расскажет, что же им делать со всем ночным бардаком. Лестрейнджу особенно — вот уж кто бы мог ожидать… Да нет, всё же всем. Да, всем — Ойген уверенно выбрал бы быть заговорщиком, а не трусом.
— Как я уже говорил, вам, Родольфус, сказочно повезло, — невозмутимо продолжил Руквуд, кажется, не обращая внимания на буравящие его взгляды, полные тяжёлого недоверия. — Этой ночью Лорд потратил много сил на важные ритуалы, и, по всей вероятности, будет восстанавливать их до вечера. Поэтому мантию стоит непременно найти и вернуть как можно тактичней. Где, вы думаете, она сейчас?
— Полагаю, где-то в самых глубинах прачечной, у какого-нибудь эльфа в тазу, — от Ойгена не укрылось, как нервно Родольфус покрутил свою палочку в, казалось бы, расслабленных пальцах, глядя на Руквуда снизу вверх.
— Вот на эльфа вину и свалим, — преувеличенно бодро предложил Ойген, надеясь разрядить обстановку, которой тот словно бы не замечал или не придавал ей значения. — Мало ли там белья теряется в стирке, — но, кажется, с весёлым настроем он слегка пережал: его слова прозвучало несколько неуклюже, к тому же он зачем-то привстал, но на полпути передумал.
— А чего этот ваш лопоухий смертник в шкаф вообще полез? — резонно вопросил Долохов; лицо Ойгена поскучнело, он начал было задумчиво набирать воздух в грудь, как делал это когда плыл на уроке с ответом, но его сумели опередить.
— Ну, так моль же и прочая дрянь вроде докси, — бесхитростно хмыкнул Роули, вновь отправляя в атаку шахматного коня. — Мало ли… Раскладывал какие-нибудь саше с лавандой, а мантия с вешалки и упала — вот он в стирку её и забрал, — Руди, ты же, кажется, говорил, что те тряпки не слишком свежие?
Родольфус кивнул, прикрывая чёрного короля пешкой.
— Эльфа жалко, конечно, — с едва уловимой печалью выдохнул Рабастан, — но, по-моему, это выход. Эльфы ещё заведутся, а ты у меня один, — он впервые за утро светло улыбнулся брату и тот поднял ладони, признавая его правоту.
— Люциус, мы всё возместим, — Родольфус посмотрел сперва на задумчивого Малфоя, а потом снова бросил внимательный взгляд на доску, где всадник на белом коне бесшумно снёс жертвенной пешке голову. — В конце концов, это просто деньги. Кого тебе жаль меньше всех?
— Да любого… в смысле, — меланхолично кивнул Малфой, — мне всё равно. В конце концов, бывает ли служба выше? Спасение своего сюзерена… родни своего сюзерена… вот это всё, — он сделал в воздухе сложный жест, отгоняя как дым не значащие уже ничего сомнения.
— Ну вот, как всё удачно складывается, постель ведь тоже сегодня меняли, да? — оказавшись всё-таки на ногах, Ойген пожал плечами — он чувствовал, как с них свалилась некая почти что материальная тяжесть, словно до этого прижимавшая его к бренной земле или, вернее сказать, к мягкой обивке кресла. — Эльф ведь как лучше хотел. Они бывают такие настойчивые: перестарался слегка, а может, на что-то отвлёкся. Вряд ли Лорд устроит ему допрос, и уж точно в голову не полезет — это… это же просто бр-р-р… — он картинно взмахнул руками, опираясь о подлокотник бедром. — У них такое загадочное мышление! И даже не факт, что бедолаге Авада светит. Так, засунет руки в камин, может, этим и обойдётся.
— В самом деле, пусть повесит эту мантию в шкаф с другими постиранными вещами, а потом начнёт биться головою об пол, — сказал Рабастан немного нетерпеливо. — И делу конец, да же?
— Руди, ты не помнишь, как выглядел тот несчастный, который явился к тебе с утра? — спохватился вдруг Ойген, выцепив важную мысль за хвост. — Память бы на всякий случай ему подчистить… — и заметил, как Руквуд одобрительно и согласно кивнул на своём втором этаже.
— Эльф как эльф, — с сомнением отозвался Родольфус. — Не слишком старый. Точней не скажу — не помню. Да и я не в том состоянии тогда был…
— Гридди, — твёрдо произнёс Люциус. — Старик точно знает, кто, где, когда и чем занят, — пояснил он, — и со стиркой тоже он разберётся.
— Хозяин Люциус звал старого Гридди? — эльф возник с негромким хлопком и прянул морщинистыми ушами, склоняя голову.
Люциус отдал соответствующие распоряжения, приказав тщательно обыскать прачечную и вернуть уже чистую мантию Лорда вместе с другими вещами туда, где ей положено быть. Но прежде велел прислать к нему эльфа, который забирал вещи с утра у его свояка. И заодно распорядился проверить в шкафах саше. Не сейчас, позже, — всё равно Лорд пока отдыхает, незачем его тревожить раньше времени.
— Вот и славно, — добавил он, когда эльф исчез.
Настроение у всех поднялось, и Ойгену стало казаться, что под высоким потолком просторной библиотеки словно разошлись облака, совсем распогодилось, и тревога стала как-то меньше давить. Посчитав, что можно уже спуститься, Руквуд подошёл к стеллажу и начал аккуратно расставлять книги, невесомо парившие рядом с ним — и тут заговорил снова:
— А с вашим мистическим двойником есть более, нежели зловещий дух и, по совместительству, вестник смерти, логичное объяснение. Так, по крайней мере, говорит нам статистика — и я лично не раз и не два сталкивался с подобными ситуациями по работе.
— Даже представить себе боюсь, — тихо произнёс Роули, закатывая глаза.
— Появление двойника, — невозмутимо продолжил Руквуд, ставя на место последний том, — возможно при перемещении самого наблюдателя по оси времени. Считается, что видеть самого себя нехорошо, но если двойник из прошлого тебя не заметил, это, пожалуй что, не критично. И даже если вам с этим не повезло, такое тоже… случается — главное не вступать с ним в контакт. Люциус, он вас видел? — уточнил Руквуд, повернувшись, наконец, лицом к остальным, и Ойген заметил, как устало дёрнулся уголок его рта.
Ночью Руквуд явно не спал и выглядел слегка нездорово — видимо, упомянутые им ритуалы дались ему куда тяжелей. Ойгену было его даже немного жаль — Руквуд никогда ни на что никому не жаловался, и даже в меру своих оставшихся после побега сил взял на себя ответственность за лечение, когда Северус в те первые дни их свободы мог разве что зелья им передать. И не то чтобы они все были рады, замечая, что руки у Руквуда переставали дрожать только когда он начинал колдовать, и то, скорее благодаря многолетней практике и, наверное, силе воли.
— Нет, — почти неохотно, растягивая слова, процедил Малфой. — Мой… двойник был… сильно увлечён важным делом. Ему… явно ему было не до контактов, — и умолк, будто проглотив собственную усмешку.
— Увы, — Руквуд раздумчиво потёр подбородок, глядя не столько на них, сколько перед собой сквозь пространство, — нельзя точно пока сказать, кто из вас был более ранней версией, однако я склоняюсь к тому, что вы могли видеть себя из будущего. Люциус, я настоятельно бы советовал вам непременно вспомнить, как именно вам удалось переместиться, — продолжил он, игнорируя явное нежелание Малфоя продолжать разговор, а затем немного потерянно оглянулся, и Ойген кивнул на кресло, где давно не мог усидеть, и теперь пытался устроиться как-то иначе: то облокачиваясь рукам на спинку, то отходя на шаг. Руквуд опустился в него, благодарно кивнув в ответ, и Ойген буквально почувствовал, как немолодой уставшей спине стало легче. Руквуд же на мгновенье прикрыл глаза и сложил пальцы перед собой, упираясь острыми локтями в мягкие подлокотники. Как же они все усохли за эти тринадцать лет, подумал Ойген, глядя сейчас на него. Да и сам он только недавно перестал напоминать в зеркале, как ему казалось, фестрала. Что тут о Руквуде говорить — вот уж кому надо к тёплому и живому морю… Как тогда… (1)
Ойген сам не заметил, как вновь примостился у спинки кресла на самом краешке подлокотника, но его никто и не думал сгонять — Руквуд был занят лекцией:
— Так вот, я говорил о способах возможных перемещений. Чаще всего это происходит с помощью маховика времени. Но не думаю, что один из них вдруг оказался здесь. Всё же, этот прибор никогда в гражданском обращении не был… По крайней мере, неподотчётный нам… — он на мгновение замолчал, и Ойген почувствовал, что в этом спокойном и ёмком «нам», сдобренном странной горечью, не было места собравшимся этим утром в библиотеке. Как и не было больше этого «мы» и «нам» уже много лет — с тех пор, как Августус Руквуд подписал собственное признание, и всё же для него они оставались константой.
— В исчезающе редких случаях можно заподозрить и зелье времени, но это крайне маловероятно: его сложно приготовить, да и рабочие образцы начали испытывать примерно с середины шестидесятых с сомнительным, я бы сказал, успехом. Так что, учитывая, насколько редкой относительно магических эманаций и вибраций в тонком эфирном слое выдалась эта ночь, в таком старом волшебном доме действительно могла иметь место темпоральная аномалия. Можете ли вы вспомнить больше подробностей, Люциус? Это крайне важно, — Руквуд настойчиво посмотрел на непосредственного участника необъяснимых ночных событий, и Ойген проникся к тому сочувствием — это не кончится быстро.
Малфой выразительно потёр висок и поморщился.
— Вспомнить бы, где у меня хоть что-то против похмелья ещё осталось, — почти проворчал он, щурясь, словно слишком уж яркий свет, лившийся через окна, начал внезапно резать ему глаза. — Какие уж тут подробности… — Да, Малфой несколько переигрывал, но Ойген его вполне понимал. — Простите, Руквуд, я вчерашнюю ночь и ту помню, скорее, частями. Всё, что память услужливо сохранила — я уже рассказал.
И всё же что-то было не так: может быть в интонации, может быть, в позе Люциуса или выражении измученного лица. На какой-то застывший миг, Ойген готов был поклясться, что оно осветилось внезапным, неожиданным озарением, будто что-то щёлкнуло в склонённой к плечу голове, как и бывает, когда Руквуд спокойно, понятно и просто рассказывает о сложных вещах.

1) Об этом странном визите на побережье можно узнать из истории «Парадоксы восприятия».
По какому-то невероятному совпадению, а может быть потому, что Ойген и сам привык, мучимый любопытством, искать ответы в чужих глазах, он пересёкся с Малфоем взглядом. И, пусть тот сразу моргнул, Ойген, как бы это ни было некрасиво, успел уловить в чужом сознании смазанные картины, и ему стало стыдно. Он даже голову отвернул, но было поздно: он уже знал, что Люциус думал о покойном отце — не удивительно, что он не успел закрыться. Да и от кого тут закрываться, на самом деле? Ойген увидел то, что увидел, почти случайно, и уже об этом жалел: когда он сам вспоминал родителей, даже Северус вежливо делал вид, что ему куда интереснее собственные манжеты — а тут…
В том кратком воспоминании старший Малфой был ещё бодр и крутил что-то круглое, мерцавшее металлическим матовым светом в его руках, и устало, задумчиво улыбался тихой улыбкой, предназначенной самым родным. И вроде бы, сущая ерунда, но Ойген знал, что такие вещи ценнее любых сокровищ, особенно когда начинаешь их забывать.
Обиженным Люциус не казался, вместо этого он какое-то время тёр отрешённо висок, а потом, словно стараясь сгладить углы, снизошёл до вполне ожидаемого признания:
— Не то чтобы об этом принято говорить гостям, но вообще, — добавил он, словно бы заранее извиняясь, как извиняются, когда между делом светски посвящают кого-то в чужие дела, — у нас в мэноре примерно каждые сорок лет действительно происходит... странное, — и иронично взглянул на Трэверса, оседлавшего стул.
— С такой жизнью удивительно даже не то, что странное у вас происходит каждые сорок лет, — хохотнул Долохов, — а что оно бывает всего-то раз в сорок лет, а не дней, как положено, — Ойген шутки не понял, а вот Эйв, кажется, улыбнулся, правда, немного испуганно.
— Ну, мы уже точно выяснили, что ночь простой не была, — Малфой даже не думал спорить. — Вероятно, в самом деле, на всех нас влияли какие-то аномалии — к тому же, ещё полтергейст! — он вновь обернулся к необычному сегодня до тревожности Трэверсу и озадачил его примерно тем же вопросом, ответ на который был любопытен и Ойгену: — Но скажи-ка нам, Гектор, а почему ты, собственно, вообще решил, что этот полтергейст был непременно наш? И как, позволь уточнить, ты…
— Ну что значит «почему наш»? — Трэверс посмотрел на Малфоя даже с какой-то жалостью. — Люциус, это же ваш дом! Какому полтергейсту ещё быть в старом фамильном особняке, как не вашему? Не ты ли ещё какое-то время назад чуть себя кулаком в грудь не бил, расхваливая вашу защиту? Как ты там говорил, многое завязано на крови… — приправленные фамильным высокомерием интонации он изобразил превосходно.
Ойген бросил вопросительный взгляд на Эйва, и тот, подтверждая всё сказанное, согласно кивнул. Решительно так кивнул — аж два раза.
Едва заметно улыбнувшись ему в ответ, Ойген тут же поёжился: в самом деле, какому ещё тут быть полтергейсту… Почему-то мысль о том, что это именно местный, практически родной этому дому полтергейст, казалась почти утешительной, но ощущение смутной жути и не думало уходить.
— Люциус, уж насколько это не моя тема, — подхватил Роули, — но даже мне очевидно: ход чужим духам сюда закрыт. Изничтожит же на подлёте. Да и Гектор всё-таки в этих вещах получше нас всех разбирается. А уж после этих ужасов с примесью загробного эротизма, которые хоть в журнале каком печатай…
— Это я и пытался спросить, — перебил его, недослушав Малфой, и состроив на лице недовольную, но опять же немного наигранную гримасу, обратился вновь к Трэверсу: — Гектор, а как ты вообще от этого — готов признать его даже нашим — полтергейста отбился?
— Ну, — Трэверс смотрел на него удивительно ясным взглядом, — у нас в семье справлялись и не с таким, когда части семейной коллекции добывали, — он снова небрежно зарылся правой рукой в свою почти белую в ясном утреннем свете гриву, и Ойген с трудом отогнал от себя унылое чувство, что Трэверсу нестерпимо хотелось курить, хотя бы ради того, чтобы просто снять нервное напряжение и на время выкинуть лишние мысли из головы. — Главное, чему выучил меня дед — у любой твари, к какой бы, скажем так, она культуре ни относилась, насколько бы тёмной и загадочной ни была, всегда имеется своя слабость. И если её найти, — он выпустил волосы и задумчиво посмотрел на свои удивительно аккуратные ногти, — можно не только её уничтожить или даже поймать, но и подчинить своей воле, — улыбка его стала неприятной и острой, — при должном везении — и, конечно, если удастся выжить. Но ведь как-то же я при дементорах выживал, — добавил он, — и даже рассудка за тринадцать лет не лишился.
То, как Малфой скептически хмыкнул, Трэверс просто проигнорировал, как и смешок, который Роули спрятал в кулак, маскируя за кашлем, а вот Ойгену шутить совсем не хотелось. Он хорошо помнил, как это — выживать с дементорами. И точно знал, что там, в Азкабане, у каждого заключённого был свой метод.
«Трэверс, выходите из этой вашей пародии на самадхи, пока ещё можете. Сделайте усилие над собой», — говорил ему Руквуд, когда еда оставалась нетронутой пару дней. Ужасное расточительство. Но дементоры в такие дни навещали его без всякого интереса, когда к Ойгену они стекались так, что в камере становилось от них совсем темно, непроглядно. И хотя сам он под конец едва ли не… Нет, даже сейчас он не мог бы сказать «подружился», но он научился общаться с ними, понимать их — и дорого дал бы за то, чтобы вычеркнуть это из собственной памяти(1).
Хотя бы на время.
Но забыть у Ойгена не выходило — и каждую ночь они прокрадывались к нему во снах, принося с собой солёную азкабанскую стылость. Как и сегодня, когда он проснулся за полночь от странного леденящего ощущения, и долго не мог понять, что не так, пока кто-то не поскрёбся в окно, а потом где-то вдали, кажется, закричали.
Ойген напрягся и сразу нащупал палочку.
Эта его целебная женщина… Рина спала и тихо дышала во сне, а он замер в постели и, как в детстве, боясь даже пошевелиться. Он понимал, что ему это чудится, но слишком уж сильно навалилась тревожащая уверенность, что если он как-нибудь выдаст себя сейчас тому или тем, кто за ним наблюдает, случится что-то непоправимое. Он не знал, сколько он лежал так, покуда не успокоился настолько, что смог напомнить себе, что никаких монстров в его камеру… нет же, комнату… на свободе, в особняке… не просочится, а те, что когда-то заходили без стука, не имели привычки выть. Стряхнув с себя странное оцепенение, он зажёг у постели свечу, поднялся, завернулся в халат и заставил себя встать и дойти до окна, скрытого за тёмными и такими надёжными шторами.
Он отвёл осторожно ткань, но ничего страшного не увидел. Он не увидел вообще ничего — такая темень разлилась за окном, и лишь тусклое пламя свечи отражалось в стекле, увенчанное сияющим ореолом. Какое-то время Ойген стоял, зайдя за тяжёлые шторы и вглядываясь в темноту, а затем приоткрыл сворки и понял, что с той стороны в стекло просто стучали ветки.
Ночной воздух пьянил разлитыми в нём цветочными ароматами. Ойген вдохнул и почувствовал, как откуда-то слегка тянет дымом, но этот запах совсем не тревожил его, скорей, нравился, напоминая что-то такое из детства… Как жгли по весне в Пьемонте костры среди виноградников, вспомнил он — когда вдруг ударяли заморозки, и нельзя было позволить уже проснувшимся лозам замёрзнуть.
Прислушавшись, Ойген понял, что крики раздавались отнюдь не в саду. Кричали — протяжно и громко — кажется, в прямо в доме. Он прислушался: завывающий с ветром голос доносился из каминной трубы, звуча откуда-то сверху — из спальни прямо над ним или выше… И он, зная, кто жил по ту сторону потолка, в самой роскошной из гостевых спален, предпочёл представить себе притулившуюся на крыше банши, чем гадать, отчего же она так кричит — судя по интонациям, это было вполне очевидно. Ойген стоял, вдыхал сладкий и дымный воздух, стараясь не думать о криках, к которым богатое воображение само дорисовывало в голове фривольные и комические картинки — и жуткое ощущение, будто где-то по дому бродила смерть, начало его покидать, истаивая внутри, как тает лимонный сорбет на солнце. Он почти почувствовал эту сладость на языке и очень тихо позвал:
— Диззи, Диззи!
Из всех эльфов этого дома Ойгену больше всего нравилась старая домовуха Нарциссы, а той, похоже, нравился он, и она относилась к нему особенно нежно.
Ничего не случилось — ни звука, ни движения воздуха — но Ойген ощутил рядом её присутствие.
— Мастер Ойген, — проговорила она из угла, едва слышно, — Диззи принесёт вам сладкий чай и печенье.
— Спасибо, — прошептал он в ответ, не желая разбудить Рину. И почему-то позабыв о заглушающих чарах, так же шёпотом попросил: — И захвати ещё половину цыплёнка.
Он вдруг понял, что голоден — за ужином еда с трудом лезла в горло, а после он почти сразу лёг спать; Рина же ужинала здесь, без него. Хотя обычно он не любил есть в одиночестве, сейчас ему совсем не хотелось компании, и Ойген устроился на диване со своею полночной едой. Он забрался с ногами, кутаясь в плед и халат, и постепенно успокаивался, согреваясь горячим чаем. Когда тарелки уже опустели, он какое-то время ещё посидел, пока не почувствовал, что уже клюёт носом. А затем забрался обратно в постель и погладил Рину по волосам, с нежной щемящей грустью понимая, что скоро им придётся прощаться. Обняв её, Ойген мирно уснул, успокоенный теплом её тела и тонким запахом роз, разлитым по комнате.
И, конечно же, проспал утром завтрак — но, даже выбравшись из кровати, всё равно ощущал себя сонным и расслабленным, словно пригревшийся на одеяле кот. Однако проваляться весь день, пусть даже рядом с Риной, ему не хотелось, и он решил подремать у камина в библиотеке, зная, что утром заглянет Эйв.
Однако же доспать ему сегодня не удалось — но он не жалел. С каждой минутой происходящее становилось всё загадочнее и любопытней, и он ощущал азарт, прогонявший любую сонливость.
К его чести, Малфой от язвительных комментариев воздержался, выражая снисходительный скепсис разве что миной, застывшей у него на лице, и стараясь не фыркать. Да и остальным, судя по выражению лиц, молчание обошлось недёшево, однако справились все. Даже Ойген.
— Ну, так всё-таки! — не выдержал он. — Трэверс, что же ты сделал-то с ним, с полтергейстом, если сейчас тут сидишь, а?
— Ну… способы-то стары как мир, — начал туманно Трэверс, устроив голову поверх рук с какой-то расслабленной обречённостью. — И, конечно, связаны с внутренней силой волшебника. Не мне вам рассказывать… В их основании — любого… каждого — всегда лежит жертва. Та или иная, — добавил он с пугающе нежной полуулыбкой, от которой Эйв вздрогнул и побледнел, а сам Ойген опять вспомнил свои «разговоры» с дементорами.
— Верно ли я понял из ваших слов, — вновь заговорил Руквуд, и его рассудительный тон помог развеять ощущение подбирающегося где-то между его лопаток тревожного холодка, — что описанный вами ранее полтергейст олицетворял собой начало, скорее, женское?
— Женское, — задумчиво согласился Трэверс, взглянув на них из-под полуопущенных век, и этот взгляд казался Ойгену почти осязаемым.
Нет, явно не одному ему:
— Ну, какие у нас тут дамы, среди наших-то призраков? — Малфой утвердил на лице холодную и вежливую улыбку. — Многие поколения в этом доме рождаются исключительно сыновья, и даже историй, из которых мог бы выйти полтергейст какой-нибудь леди, я что-то припомнить и не берусь.
— Алкиона Малфой, — внезапно произнёс Рабастан Лестрейндж. Очень серьёзно произнёс — настолько, что скорее его интонации, нежели сами слова заставили в этот момент всех удивлённо поднять на него глаза. — Я видел её портрет, — пояснил он. — У Роули. Последний раз, когда я там был, он висел в северной части дома. У окна, за которым всегда штормит.
Почему-то от этих слов Ойгена словно коснулся тот же призрачный едва ощутимый холод, который — как он только сейчас осознал — разбудил его этой ночью, и он невольно заёрзал на своём подлокотнике, не замечая, как Руквуд слегка подвинулся, давая ему чуть больше пространства. Да нет, сказал Ойген себе самому, в каждой семье есть история… а то и целый ворох пыльных легенд, на которые можно списать появление чего угодно. И далеко не все они имеют хоть какое-нибудь отношение к реальности, но тому, как воинственно выпрямилась у Эйва спина, Ойген верил куда больше, чем хозяину дома: наверное, будь Эйв собакой, он был бы похож на бигля, взявшего лисий след.
1) Об общении Ойгена и дементоров можно узнать из работы «Затмение»
Не то чтоб Малфой был воплощением английского стоицизма, но на памяти Торфинна он исключительно редко позволял себе грязно ругаться вслух. В конце концов, для таких вещей у него всегда был МакНейр. Вот только Уолли МакНейр второй день торчал в Дартмуре на болотах по службе, и Торфинн никак не мог для себя решить, какое именно выражение крутится у хозяина дома на языке за этой его вежливой и прохладной маской; впору было задуматься, можно ли этой самой вежливостью калечить. Да, Асти Лестрейндж всегда умел знатно всех удивить, и чувство момента было у него превосходным. Это же надо так на старую мозоль наступить и смотреть с таким задумчивым интересом — ладно хоть эскизов не делает. Правда или вызов, Люциус? Что же ты скажешь?
Пауза затянулась, Малфой молчал. Эх, если уж начали этим утром вытряхивать из шкафов скелеты… одним больше, одним меньше — погода за окошком явно уже не сменится: Уилтшир — не острова. Да и прав Мальсибер — нужно до вечера как-то себя развлечь.
— Был такой, — бодро подхватил Торфинн подачу. — Был, — повторил он и, извиняясь, развёл руками, глядя Малфою в глаза простодушным и чистым взглядом, на который почти все велись. — До сих пор висит там же, чуть дальше гостевых спален у северного окна. — Не то чтобы у них этих спален было так много, да и, признаться, живописи, по сравнению-то с оружием на стенах... — Не могу сказать, что прямо девчонка мечты, — добавил он, пожимая плечами, — но что-то цепляет в ней, да… Хотя вот по опыту своему скажу: на таких если кто западает — то жди непременно беды.
— Ну, спасибо, — уронил недовольно Малфой, явно подумывая, не освежевать ли Торфинна столовым ножом к обеду. — У нас-то её портрета и вовсе не сохранилось, и она не слишком горела желанием здесь висеть. — В прошлый, раз, когда Малфой пытался с ней побеседовать, она прохладно его отшила, давая потомку понять, насколько в доме чужих людей ей комфортней.
Пожалуй, это вообще был самый странный из портретов, имевшихся там — хотя у них в доме с портретами вообще не особо складывалось. «Умер так умер, — говорил ему в своё время отец. — Уж лучше остаться в песнях, чем мозолить родне глаза, да и люди, сам знаешь, мельчают…» Мама его портрета так и не заказала, да и сам Торфинн предпочитал разглядывать старые отцовские колдографии. Однако многих из предков история сохранила, и портрет светловолосой и светлоглазой девицы мог бы легко затеряться меж них, если б не многие «но», которые её окружали.
— Не то чтобы у этой печальной крошки не было поводов, — Торфинн выразительно повёл бровями, — если легенду принять в расчёт.
— Что за легенда? — с любопытством подался вперёд Мальсибер, рискуя свалиться на Руквуда.
— Да таких легенд в каждой семье… — начал было Малфой, но тут на тропу войны вышел Эйвери, спасайтесь все:
— Прости Люциус, я про неё тоже слышал. Она ещё достатутная, да? Кажется, она попадалась мне в сборниках «Поучительные предания» и «Поразительное во все времена», а ещё в старых хрониках на французском. И, опять же, в «Мрачных мистериях и зловещих загадках», но год я не назову. Если я ничего не путаю, речь в ней шла про того из Малфоев, которого мы сегодня уже все вспоминали. Ну, тот, кто хотел стать консортом при королеве-девственнице Елизавете, — затараторил с привычным книжным энтузиазмом Эйвери, не замечая, как Малфоя начало слегка перекашивать. — Про него ещё пишут, что она ему отказала, и он тогда взял и проклял её, — немного смутился Эйвери, — и замуж она так ни за кого и не вышла.
— Ну, спорю, девственницей она тогда уже не была, — Торфинн вновь хохотнул: молодец Эйв; выдал так выдал. — Хотя тут можно и к первоисточнику обратиться, а?
Малфой лишь устало поморщился и безнадёжно махнул рукой:
— Это же просто слухи. Мало ли кто что болтает!
— Слухи, ставшие настоящей легендой и частью нашей истории, — возразил ему Эйвери, непривычно для себя горячась. — Ну, вот как с чудовищем Слизерина… — Малфой едва различимо дёрнулся, и, хотя Эйвери в силу своей беззлобности не имел в виду ничего такого, однако эту историю явно не стоило ворошить.
— Да не о том речь, — вклинился оживлённо Торфинн, отодвигая не слишком давние Хогвартские страшилки на задний план. — Не сфартило твоему тёзке, мало ли как бывает, — он вновь хохотнул. Малфой глянул на него почти что с мольбой, но сворачивать с темы уже было поздно: — Он не стал унывать, и потом вполне удачно женился — и после парочки сыновей обзавёлся заодно дочкой.
— Троих, — сухо поправил его Малфой. — Сыновей у него было трое, но один скончался ещё во младенчестве. Такие уж времена.
— В данном случае это для нас несущественно, — отмахнулся Торфинн. — Так вот, эта самая дочка, Алкиона Малфой, считалась завидной по тем временам невестой: богата, умна и к тому же весьма недурна собой, — он театрально вздохнул и возвёл глаза к потолку.
Пожалуй, давно покойную мисс Малфой Торфинн честно смог бы назвать красивой, будь она слегка пофигуристее, и сохранись в её лице меньше фамильной холодности и больше красок — одна из этих анемичных девиц, но многим такие нравятся. Впрочем, красок недоставало всему полотну: бледная Алкиона Малфой в выцветшем за без малого четыре столетия светло-голубом платье сидела у распахнутого стрельчатого окна, за которым серое, набухшее дождём небо грозило раскрошиться и рухнуть вниз, в мрачное штормовое море, тяжело перекатывавшее высокие тёмные волны, которые беззвучно бросались на острый мыс, разбиваясь рваными брызгами белой пены. Единственным ярким пятном на картине был бархатный красный молитвенник с окованным золотом уголками, который она то держала в руках, то опускала к себе на колени.
Палочка и молитвенник — вот уж воистину символы благочестивой ведьмы, впрочем, ему ли судить? Торфинн в своё время знатно наслушался от своей норвежской родни баек о могучем конунге именем Иисус с дружиной из двенадцати могучих берсерков, которого предали и прибили к носу его собственного драккара. А он потом взял и воскрес. И предал предателей лютой смерти за что Один взял его в Валгаллу живым — куда до него проходимцам-Певереллам… Так что же там было с этой девицею дальше? Ага.
— Когда ей одиннадцать стукнуло… вполне себе возраст, — Торфинн задумчиво посмотрел, как чужая ладья расправляется с его собственной и теперь прикидывал, как ответить: съесть её королём, что ли? Партия подходила к концу. — Папаша-Малфой сговорился с одним из Роули, — он шутовски поклонился, не вставая со стула, — что отдаст её замуж за Тидрека, наследника тех же примерно лет. Сейчас-то с помолвкой так бы спешить не стали — особенно не зная наверняка, что детишки симпатичны друг другу. Да и в те времена, — он поглядел на Родольфуса, — тоже немногие рисковали: а то проклянёт жениха невеста и живи потом… если выживешь, — ухмыльнулся он и добавил уже серьёзней: — Впрочем, брак тогда был вовсе не про любовь, да и долг свой осознавали совсем иначе.
Впору было заметить, что его вообще осознавали тогда, но уж явно не в их развесёлой компании: совсем не смешно, в кого ни ткни сейчас пальцем. Сам хорош.
— Про такие долги я и от деда ещё наслушался, — резковато заметил Трэверс, приподнимая немного голову, но не меняя позы. Тоже, что ли, не спал? — Вот уж сколько матримониальных планов я сорвал ему своей беспокойной персоной …
— Избавь нас всех от подробностей, — Малфой закатил глаза.
— А я бы послушал, — Мальсибер сделал очередную попытку свалиться, — Трэверс ты нам расскажешь потом, правда, же? Ну… разное же говорили… — он дождался кивка и поёрзал на своём подлокотнике: — А я вот тоже, как видите, не успел... А у нас долг никогда пустым звуком не был… Может, моим тогда бы и не пришлось... — Мальсибер поник плечами, и будь Торфинн проклят, но даже Руквуду его, кажется, было жаль. Как кота мокрого за окошком.
— Да, да, — согласился поспешно Малфой, — и все мы здесь понимаем, что, если, имея выбор, и выбирать, — то кого-то своего круга. Я о тех отношениях, которые куда-то ведут. Иначе… — он позволил этой мысли трагично повиснуть в воздухе.
— Ну, родители их и рассуждали примерно так, к тому же, Тидрек и Алкиона попали на один факультет, и даже, в целом, поладили — чем не заявка на долго, счастливо и, как полагается, в один день, — Торфинн кивнул сам себе, уходя из-под нападения чёрной пешки и объявляя шах чёрному королю. — В общем, — он снова развёл руками, — кто бы мог тогда ожидать, что уже в свои осьмнадцать лет, к окончанию Хогвартса, Алкиона возьми и влюбись буквально до смерти в… маггла. Нет, конечно же, не бродягу, а третьего сына, вполне себе знатного рода… вроде, Аддингтоны, или как-то так, — он кинул вопросительный взгляд на Эйвери, и тот, подумав, кивнул. — Да и где бы она бродягу нашла, хотя сами понимаете — третий сын… Но, поскольку помолвка была уже в силе, и никто даже в страшном сне не планировал её разрывать, эти горе-влюблённые сговорились бежать в Новый Свет и там уже пожениться — и в такую же, как нынешняя, безлунную ночь сели они на корабль… — он осуждающе покачал головой и вздохнул: — Представьте себе на утро шок всей родни и ближайших знакомых.
Лица всех присутствующих помрачнели — им не нужно было и представлять. Почти все тут помнили скандал в доме Блэков, когда средняя сестра Нарциссы и Беллатрикс, наплевав на гордость семьи, сбежала с этим своим грязнокровным дружком с Хаффлпаффа — говорят, очень уж злобно дымился у них тогда гобелен. А уж что сталось бы, будь этот Тонкс просто магглом…
Люциус вновь поморщился и угрюмо замер; Родольфус мучительно потёр свой висок, словно там до сих пор звенело от криков его жены, и ответил на шах: чёрный король, обнажив свой меч, сурово шагнул вперёд, и коня пришлось отводить поскорее. Больше двадцати лет прошло, и ведь до сих пор, нет-нет, а тема эта вспыхивает и гаденько так дымит, неприятно. Вон, даже Асти тихонько выдохнул.
Но сбить себя этим мыслям Торфинн не дал, и, просчитывая ходы, с увлечением продолжил:
— Папаша-Малфой — он был, конечно, в ярости — настиг с сыновьями влюблённых уже где-то в море, и они предали всех, кого встретили на борту, мучительной и жестокой смерти. Начав с горе-жениха, возможно, успевшего стать если не горе-мужем, то уж явно горе-любовником, и заканчивая несчастными колонистами. Вот уж уплыли в поисках новой жизни… Не повезло… Корабль пошёл ко дну, а беглянку домой вернули и заперли в собственной спальне — нельзя же просто взять помолвку и отменить, тем более со стороны жениха были готовы сделать вид, что ничего, в общем-то, не случилось. А она не была готова, — шутливый тон изменил Торфинну и его голос прозвучал мрачновато. — Не на всё можно закрыть глаза, и Алкиона свела счёты с жизнью, прокляв своего отца и братьев, и весь род Малфоев на все времена.
Торфинн умолк. В горле слегка запершило, и он призвал хрустальный бокал с водой и ломтик лимона, который просто закинул в рот: ему вдруг стало совсем невесело, и он даже пожалел, что вообще всё это вспомнил. Поганое чувство. Продолжать совсем не хотелось, тем более, ситуация на доске заходила в тупик, и тут на помощь снова пришёл начитанный Эйвери, храни его Мерлин и Один наш Всеотец.
— Мне попадалось несколько версий её проклятья, — он нервно зарылся пальцами в свои кудри, почти повторив недавний жест Трэверса. — Ведь свидетелей не было — так что в источниках разное пишут, четыре же века прошло, — он полувопросительно взглянул на Малфоя с такой трогательной надеждой в глазах, что тот, печально откинувшись на спинку дивана, помолчав, до ответа всё-таки снизошёл:
— Половину ужасов просто присочинили для красоты. Она всё же была Малфой — и не стала наш род изводить под корень, и, конечно, никого в чудовищ не превращала. Шестиноги-МакБуны и заросшие волосами сердца — это совсем не к нам. В ту ночь она заявила: души с того света скорее вернутся, и воскресшие мертвецы поселятся в этом доме в гостевых комнатах, чем в её семье снова родится хоть одна дочь, — Малфой неестественно нервно практически рассмеялся, оборвав себя в последний момент, и многие от этих слов невольно вздрогнули. — Ну а если так вдруг случится, — голос его зазвучал немного глуше, — то родной отец вырвет ей сердце, а братья заставят кровь в жилах её обратиться ледяным пеплом и осыпаться на постель. Наутро она исчезла из запертой и зачарованной комнаты, и когда туда смогли, наконец, войти, то увидели, что все стены внутри покрыты изморозью, а на постели остался лишь растаявший с восходом солнца солёный лёд. С тех пор в нашей семье рождаются одни мальчики. А историю про Алкиону рассказывают нам в детстве, когда нужно донести… суть вещей. В каждом возрасте её по-своему понимаешь, но приглядней от этого она не становится. Какой только фатальной глупости для семьи не выкинешь в восемнадцать лет… — закончил он несколько патетично.
— Мне жаль, — первым отошёл от истории Мальсибер. — Правда, жаль, — его сожаления прозвучали искренне; до щемящей рези внутри. — И Алкиону, и братьев, её отца, Люциуса. Поэтому история с его неудачной женитьбой так широко разошлась, да? Чтобы не вспоминали другую?
— У нас его имя считается не слишком счастливым, — Малфой благодарно кивнул и нервно погладил палочку. — Наверное, с тех пор нам на роду написан непростой выбор. Даже не представляю, как в таких случаях выбирать.
Торфинн тоже не представлял: стоило стать отцом, и многое в жизни перевернулось. Вряд ли в этой комнате кто-то так же понимал Малфоя, как он. Вот только его плоть и кровь пока опасается разве что пони, а Драко в июне будет уже шестнадцать, и пацан совсем скоро обзаведётся собственным «украшением» на предплечье. Так себе перспектива, и радует разве что только его самого, а родители варятся в своих мыслях заживо и медленно сходят с ума. Ох, сходить с ума — вообще нелёгкая участь родителей, пока дети пытаются тысячей разных способов угробить себя или, как минимум, покалечить.
Он помнил себя в собственные шестнадцать и твёрдо мог утверждать, что мозги в этом возрасте отстают от всего остального. Да что в шестнадцать, он к двадцати-то не думал о том, что можно взять и жениться — он хотел крови, мести… героической смерти в бою… Верно Эвелин говорит: здоровенный оркнейский дурень. Как им был, так и… кхм… кого он обманывает — остался. Как хорошо, что его сыну всего-то пять, а старшая дочка едва-едва доросла до маминой палочки… И как страшно.

Сколько ни пытайся выжать из камня воду, но иногда стоит себе признаться, что выхода просто нет. Можно и дальше продолжить проделывать все эти па исключительно из упрямства — толку-то?
— Полагаю, победителя тут не будет, — Торфинн поднял голову от доски и наслаждением похрустел шеей. — Ничья?
— На сорок втором ходу, — бледновато усмехнулся Родольфус. — Странная вышла партия: тяжёлые фигуры почти все полегли, зато пешек с обеих сторон осталось… — те, побросав свои копья, братались друг с другом, впрочем, как и их короли.
— Чем солдату не радость — дожить до конца войны, — хмыкнул Торфинн, глядя, как на доске фигуры, бывшие врагами пару минут назад, меняются флягами, устроив себе привал. Хороши шахматы у Малфоя — разве что маркитанток нет. — Будто мы сами не в той же лодке, а? — Он протянул Родольфусу руку и тот её крепко пожал. Рука была почти ледяной, и Торфинн в ответ сжал её сильно, с чувством, надеясь, что кровь по ней побежит чуть быстрей. Потом дружески хлопнул Родольфуса по плечу, и почувствовал, что тот сперва вздрогнул, но затем вдруг как-то слегка расслабился, словно внутри него ослабили невидимую пружину, или какая-то тварь разжала челюсти, наконец. Будь они на Оркнеях, дома, Торфинн бы на него плед набросил ещё перед партией и кружку горячего грога сунул бы прямо в руки. Да, что-то много людей сегодня на кладбище собралось... Всё, начни уже выдыхать, Лестрейндж: ну, довела тебя твоя бешеная жена до синих яичек, всякое в жизни случается. Все всё поняли, все — свои. Посиди, сказки послушай страшные, или вон водички попей — полегчает.
— А что Тидрек? — Родольфус, будто прочитав его мысли, призвал бокал, и, залпом его осушив, посвободней уселся на стуле. — Что он думал по этому поводу, если его возлюбленная висит у вас? — он вытянул ноги, всё так же по старой привычке крутя палочку между пальцев.
— Тидрек, говорят, был безутешен, — Торфинн скрестил руки на широкой груди с самым серьёзным выражением на лице. — Он-то любил Алкиону без памяти, как любят всего лишь раз, и так этой свадьбы ждал… А всё, что ему осталось — её портрет и куча бессмысленных сожалений. Нет, портрет, конечно же, знатный: написан стариком Эшвудом; одна из последних его работ. Скалы тот дописывал уже же после того, как она на нём ожила. Видно, именно от портрета Тидрек-то и узнал о тех роковых событиях и страшно затосковал, — Торфинн поскрёб свой кадык выразительным и всем очевидным жестом. — Он выдержал траур в пять лет, добыл боевых трофеев, извёл имевшихся кровников, раздал все долги, а потом и женился. Жёнушку взял из Розье и прожил с нею до самой смерти. А что, — он театрально развёл руками, — я всегда говорил: девицы Розье — самый беспроигрышный вариант, хоть у Гриндевальда спросите!
Эта шутка навязла у всех на зубах с тех времён, когда Торфинн не был ещё женат — лишь официально помолвлен, но доволен, как сытый книззл. Малфой со старшим Лестрейнджем, не сговариваясь, привычно уже закатили глаза, явно вспоминая в этот момент незабвенную старушку Друэллу. От неё за подобные вещи можно было и жалящим получить — дивная женщина, заменившая его Эвелин мать. Можно сказать, тёща у них была одна на троих, и дочерей с племянницей она пристроила так, что другим впору было завидовать, если бы не война… А они ведь с Эваном и свадьбу планировали двойную — гулять так гулять… и нету его теперь. Ни его и ни Майкла. Да и сама Друэлла уже на кладбище. И, казалось-то, хоронили её совсем недавно, кажется, года три прошло? А столько уже успело всего случиться — вот уж как время летит…
Торфинн незаметно вздохнул и продолжил:
— Но любил Тидрек всю жизнь одну Алкиону — потому, как рассказывают, Роули с тех пор ни разу с Малфоями не роднились: именно так Тидрек и завещал, полагаю, в не слишком лестных для них выражениях, но можно его понять. И хотя само завещание не сохранилось, мы с тех пор как-то против желания предка не шли… Впрочем, это, может конечно, всё уже выдумки, и Алкиона просто крепко держала его за то, за что держит обычно жена — потому что портрет и ныне висит именно там, где Тидрек его повесил, и как-то в голову никому не пришло его снять. И каждую безлунную ночь она с него исчезает, чтоб оплакать своего возлюбленного, погубленного её собственной же семьёй. Такая вот мрачная сказочка, — хмыкнул Торфинн, поднимаясь на ноги, чтобы немного размяться. Он отошёл к окну, и с наслаждением встав в пятно света, прикрылся от майского солнца рукой.
Роскошный парк был залит солнечными лучами, буквально купаясь в них — а ведь ещё пару часов назад туман был такой густой, что хоть ложкой черпай. Клубящийся, плотный, почти осязаемый — точь-в-точь как на пустующем этим утром холсте или же проглотивший Оркнеи: луга, людей, дома, скалы, пристань. Крохотные рыбацкие судёнышки в гавани Скапа-Флоу и каменные менгиры, вросшие в землю за сотни лет. Но чем-чем, а туманом, ночью пришедшим с моря, жителей островов было не удивить: совсем скоро его разгонит, развеет, разорвёт на клочки поднявшийся ветер, не перестававший дуть на Оркнеях, кажется, никогда.
Утро обещало быть добрым: спал Торфинн удивительно хорошо, и проснулся даже раньше обычного. Было часов пять утра, и, хотя за окном уже начало светлеть, солнце ещё не встало. Он лежал, подложив одну руку под голову, и слушал ещё не проснувшийся дом. Глаз открывать не хотелось. Дети спали и проспят ещё долго: их в честь праздника уложили поздно, или вернее, смогли уложить… Вот уж праздник так праздник… Можно сказать, двойной: Майский день бывает раз в год, а неожиданных милостей Лорда так вообще можно не дожидаться; и всё же Торфинну повезло, иначе шататься б ему неизвестно где до рассвета.
Такие настали дни: добрая часть авроров усердно ловит сбежавших преступников, а недобрая думает, как бы успеть что-нибудь где урвать, пока на улицах вновь Авады не засверкали. Как раз такие обычно за ним и таскались, и Торфинн иногда позволял даже себя ловить, а потом цинично ждал намёка на взятку, или сам в нужный момент предлагал: главное было выбрать верного человека. Тех, кто всё-таки соглашался, он потом без зазрения совести сливал плетущему министерские сети Яксли, но некоторые имена до времени забывал — самому когда-нибудь пригодится.
Стоило мыслям свернуть в эту сторону, и Торфинн чуть было не сбил себе приятный ленивый настрой, какой появляется в выходные, но в этот момент рядом пошевелилась Эвелин: тёплая, сонная и расслабленная до самой последней косточки. Торфинн осторожно перевернулся набок, вдыхая цветочный запах её волос и задумчиво погладил широкой ладонью по округлившемуся животу — эгей, у них уже шестой месяц…
И она улыбнулась ему, сонно жмурясь:
— М-м-м… Финн… Мне снился такой удивительный, чудный сон, ты знаешь…
— Правда? — он наклонился, целуя её в висок. Вернее, пытаясь поцеловать, но она, потягиваясь, повернулась, его губы попали ей в ухо, и он тихонько подул. Эвелин засмеялась, шутливо его оттолкнув, а потом тут же обвила за шею руками и, притянув к себе, нежно поцеловала куда-то в скулу. — Расскажешь мне? — промурлыкал он, прикрывая глаза.
— Дай подумать… — её пальцы бродили у него в волосах, и он просто млел. — Так и быть, расскажу… Мне снилось, что мы с тобой и с детьми… даже с этой беспокойной малышкой, — она коснулась своего живота и нашла его руку, — качаемся на качелях. Все вместе. Знаешь, такие качели у нас были в детстве, в саду. И вот, мы смеёмся, качаемся, и тут из высокой зелёной травы появляются роскошный пушистый хвост, а затем хитрые-хитрые уши. И словно по волшебству перед нами замирает большой белоснежный лис, а в зубах у него крупная, размером с яйцо жемчужина. Так мне сперва показалось. Но стоило присмотреться, и это действительно оказалось яйцо, отливающее на солнышке речным перламутром… Мягко так… не видела ничего красивей… — она мечтательно улыбнулась.
— Надо чары в курятнике обновить, — шутливо проворчал он, зарывшись ей носом в волосы. — Если какая-нибудь лиса доберётся к нам вплавь…
— Это же сон, — Эвелин повозилась, укладываясь поудобнее в его объятьях, — Между прочим, лисы снятся к сомнительным предложениям. Но слушай, что было дальше: на солнце — весеннем, живом и таком ярком — вдруг промелькнула тень. Я только моргнуть успела, а на пути у лисы уже прыгает задиристая сорока. Стрекочет, наклоняет по-птичьи голову, а и лис никак не решит, что с ней делать и как бы её обойти. И пока он метёт по траве хвостом, сорока, неожиданно вдруг взлетев, это самое яйцо у него выхватывает, да так ловко! И уносит высоко-высоко… Оно трескается в её когтях, и сорока роняет мне его на колени. Яйцо разбивается, рассыпаясь радугой с цветным дождём, и всё вокруг становится таким ярким. Мерлин, Финн, ты был такой смешной, разноцветный, — она запрокинула голову и вдруг зевнула, прикрывая ладошкой рот, и тихонечко рассмеялась. — Тебе очень шло, даже больше, чем тот жуткий цветастый свитер! Хочешь, мы с детьми раскрасим тебя ярко-ярко, и ленточек целая куча у нас осталась, м-м?
— Боюсь, мы их сейчас не добудимся, — он тоже зевнул. — Детей. А днём уже точно не выйдет. Прости, под майским деревом веселиться будете без меня.
— Не хочу сегодня тебя отпускать, — вздохнула Эвелин, взяв его большую ладонь в свои руки и ласково прижимая к своей щеке. — Ни-ку-да…
— Я должен, — он вздохнул виновато.
— Но он же не вызывал? — полувопросительно проговорила Эвелин, осторожно касаясь метки самыми кончиками своих тонких пальцев, и Торфинн подавил ещё один виноватый вздох.
— Не вызывал. — Как же ему всякий раз было мерзко от самого себя, когда она вообще упоминала в их доме Лорда… и всю эту грязь. Но что он мог с этим сделать? Вот теперь? Всё, что он мог, он уже сделал — испортил им жизнь уже в самом её начале. Подвёл маму, сестрицу, её, даже ту кроху, что ещё на свет-то не появилась. — Лучше предвосхитить тот момент, когда я ему действительно буду нужен... он и так подарил нам вчерашний день, — невесело произнёс Торфинн, глубже зарываясь лицом в светлые волосы, приятно щекочущие ему нос. — У него не слишком гибкое отношение к чужим планам. Не хочу без нужды дёргать за рогатый хвост хвосторогу.
Несколько дней назад Лорд неожиданно отвёл его в сторону и сказал:
— Торфинн, тридцатого, если хочешь, можешь… пожалуй… расслабиться и быть свободен... Я же всё понимаю… Нужно побыть с семьёй… — он делал задумчивые и долгие паузы, будто бы размышляя вслух, и от каждой из них по рёбрам тревожно скребло, а внутри холодело. Торфинн знал — любая из этих пауз могла таить в себе нежданный и паскудный такой поворот. — Жена... дети... мать... — Лорд потёр бледными пальцами подбородок. — Я действительно понимаю... В конце концов, это тоже вклад в наше будущее...
— Спасибо, мой лорд! — согнувшись тогда в поклоне, Торфинн старался не думать… да вообще ни о чём. Кроме того, что он, Хель его побери, и вправду искренне благодарен. Да, благодарен! И от радостной пустоты в его голове звенит, а может и от того, как он гаркнул это своё «Спасибо!». Лихо, как у Тони в строю.
Торфинн крепко зажмурился, и под веками заплясали цветные пятна. Надо было вставать, но знал бы кто, как ему не хотелось. Эвелин завозилась вновь, и он почувствовал, как её ладошка накрыла пасть линдворма(1), свивавшего чернильный узор колец у него под кожей.
— Ну, хорошо. Тогда мы можем тебя раскрасить, когда ты вернёшься, — её рука, прослеживая драконье тело, брела по его плечу, груди и спускалась медленно ниже.
— Моё мнение значение имеет? — спросил он почти что ей в губы, чувствуя, как его мозг плавится от этой утренней нежности.
— М-м-м… нет, — она задумчиво улыбнулась, и её улыбка была на вкус лучше, чем всё, что он пробовал. — Определённо, нет, — смогла она тихо выдохнуть, когда им понадобился вновь дышать. — Считай, что во мне говорит женская интуиция, но это сон… Финн, я словно побывала там наяву, и всё ещё ощущаю запах травы и ветер… Мне так хочется воплотить его в жизнь, хоть чуть-чуть — вдруг да и сбудется?
— Что сбудется? — Торфинн, одним глазом посмотрел на часы. — Лисы разорят наш курятник, а сороки растащат, всё, что плохо лежит?
— Ну какой же ты у меня балбес! — она, запрокинула голову, и, кажется, собиралась дуться. — Ты просто не видел, как это было красиво и хорошо. Финн, в такие дни ведьмам простые сны редко снятся. Не знаю, что всё это значит, но мне почему-то кажется, что впереди нас ждёт что-то правильное, хорошее. Понимаешь?
— Хм-м-м… Ты уверена, что это было предвиденье, посланное во сне? — не удержавшись, подразнил он её хитрым тоном. — А не жирненькая баранина и поздний ужин? — Эвелин тихонько стукнула его по плечу, а он, поймав её кулачок, поднёс к губам и коснулся его поцелуем: — Лин, если ты веришь, что сон хороший — значит, оно так и есть.
— Или он предсказывает, что сегодня на завтраке у Малфоев пирог с запечёнными в нём сороками — ты же к ним прямо с утра, как закончишь с делами? — она улыбнулась, скрывая свою тревогу, как делала каждый раз, как он отправлялся к нему, а потом вновь зевнула.
— И они разлетятся по всей столовой, — благодушно ответил Торфинн. — То ещё будет зрелище. А ты спи — рано ещё! Даже солнце пока не взошло. Чего ты вдруг проснулась? Целитель сказал, тебе нужно побольше спать.
— Не знаю, — она пожала плечами, и он, не удержавшись, провёл по ним пальцами с тихой лаской, она их поймала рукой — и вдруг её голос стал очень серьёзным: — Ты знаешь, я всё время о Цисси думаю. Просто не представляю, как она с этим справляется.
— С чем? — нет, определённо, Торфинну совсем не хотелось об этом сейчас говорить.
— Со всем, — Эвелин нахмурилась и, закрыв глаза, прижалась покрепче к нему. — Постоянно видеть… его, выполнять все эти разные прихоти, — она повела плечами и негромко добавила: — И просто — когда у тебя всё время дома… так много чужих людей… Я бы не выдержала… Не справилась бы… Не смогла…
— Конечно, смогла бы. И справилась бы со всем. Мы вместе бы справились, — уверенно возразил Торфинн, искренне про себя помолившись, чтобы ей не пришлось. — Давай ты ещё поспишь?
— Давай, — согласилась она. — Я хотела сегодня навестить с детьми папу…
— Как он? — спросил Торфинн, заворачивая её в одеяло и укладывая поудобнее.
Его тестю понадобился не один год, чтобы оправиться после смерти сына. Пусть Даррен Розье и казался снаружи твёрдым и собранным, как всегда, но Торфинн знал, что внутри него что-то треснуло, надломилось. Он стал чаще болеть, после смерти сестры совсем расклеился, а уж после визита вернувшегося на этот свет Лорда сердце окончательно подвело: неделя мучительной неизвестности в Мунго, и ещё две, прежде чем его отпустили долечиваться домой, под надзор родни и семейных целителей. Иллюзий Торфинн на этот счёт не питал — если тесть как-то ещё пришёл в себя после того, как не стало Эвана, то теперь… Но об этом Торфинн думать сейчас не хотел, да и сам старик твёрдо намерен был успеть подержать на руках свою младшую внучку.
— Ничего, — негромко сказала Эвелин. — Феликс присматривает за ним, выбрался от своих драконов.
— Скажи ему, — попросил Торфинн, — что я хочу, если получится, вечером заглянуть. Ладно?
— Угу, — сонно пробормотала она — и, кажется, задремала, — а он, дождавшись, пока её дыханье не стало совсем спокойным и слишком нежным для того, чтобы назвать его даже сопением, тихо опустился на пол и начал неспешно, как делал это уже много лет, отжиматься, очистив голову от всего, что мешало.
Запах Торфинн учуял ещё по пути в ванную, а когда спустился и тихо вошёл на кухню, намётанным взглядом сразу нашёл на столе блюдо с высокой стопкой овсяных блинчиков: румяных и таких аппетитных, что он едва не истёк слюной. Торфинн стянул самый верхний — ещё горячий — и с наслаждением сунул в рот.
— Блинчики детям, — негромко произнёс за его спиной строгий голос.
— Доброе утро, мам, — Торфинн обернулся и поцеловал в щёку высокую статную женщину с нитями седины в густых волосах, заплетённых в тугую косу. — А мне?
— Тебе вчерашние пироги и какао, — вздохнула мать, — Проглот. Нет бы, дома со всеми позавтракал. Наверняка до второй половины дня этот твой о вас, дураках, толком-то и не вспомнит.
— Ну, пироги так пироги, — Торфинн привык никогда не спорить с матушкой по утрам. Себе дороже. Так что он просто уселся за широкий дубовый стол и, глядя на туман за окошком, подпёр голову кулаком.
Нужно будет успеть проследить, как коров, овец и угрюмых мохнатых пони погонят на выпас Дуг Рэндал и его сыновья, а потом, в самом деле, в птичник бы заглянуть, чары что ли проверить. Ещё документы надо бы посмотреть, и заглянуть до смены на производство — кажется, Мэгги Чалмерс жаловалась на прядильный станок…
Кто бы знал, как непросто ему к сорока стал даваться образ нестареющего бездельника. Почему-то все думают, что это всё очень просто — вести большое хозяйство на островах. Действительно, дел-то — ну, выгнал утром всех этих тварей пастись, вечером согнал… Овец стриги, коров дои… заготавливай сено… и параллельно борись со всеми этими министерскими бюрократами и заключай где-нибудь сделки во время ланча. Шерсть сама себя не спрядёт, не соткётся и точно уж не продаст…
В ожидании завтрака Торфинн смотрел, как вдали из клубов тумана медленно проступали очертания изгороди, сложенной из плоских старых камней. Он достал из кармана халата палочку, и махнув, открыл окно нараспашку. Ветер запутался в занавесках, и в кухню вполз влажный солоноватый воздух, в котором отчаянно нежно пахло какао и блинчиками, а ещё почему-то розами, хотя шиповник цвёл совсем с другой стороны. Может, ещё пару кустов посадить? И поставить большие качели…
Торфинн всё глубже отдавался потоку привычных домашних мыслей, но в реальность его вернул спокойный и скучный голос молчавшего всё это время Руквуда:
— А в какой из комнат заперли, согласно семейной легенде, девушку? — он смотрел на Малфоя с оживившим его черты интересом. — Она хорошо сохранилась? Вы бы позволили мне взглянуть?
Малфой в ответ с плохо скрываемым раздражением пожал плечами. Какая разница? Это же легенда — кто вообще интересуется, в какой комнате обитала доставившая семье столько проблем девица четыреста лет назад?
— В белой комнате северного крыла, — внезапно сообщил пожилой мужчина в пурпурной мантии, чей портрет украшал один из простенков в библиотеке. — На втором этаже, — добавил он, вызвав этими простыми словами неожиданное смятение — потому что все присутствующие прекрасно знали эту комнату и старательно обходили её стороной — лишь лысому гиппогрифу известно, в каком состоянии можно было застать её нынешнего обитателя: Гектор Трэверс не то чтобы жаждал чужого общества и навязывал кому-то своё, и что творилось внутри его спальни, оставалось глубоко его личным делом, как бы сомнительно это не выглядело со стороны. Ну, Торфинн даже не сомневался, что что-то такое с ним тут и произойдёт. Как там? Подобное к подобному тянется само по себе…
— Извини, — Малфой, глядя вместе со всеми на Трэверса, слегка растерявшись, развёл руками. — В то крыло никого обычно не селят, но у нас очень давно не проживало столько гостей за раз.
Трэверс, кажется, не слишком обрадованный то ли пристальным всеобщим вниманием, то ли поводом из которого оно родилось, лишь вяло отмахнулся то ли от извинений, то ли от самого Малфоя как части своего бытия.
— Интересно, — с каким-то детским слегка любопытством спросил его Асти Лестрейндж, — чем ты умудрился её так взбесить? Гектор, ты что-то сделал?
Подпалил бархатный балдахин, угрюмо вздохнул про себя Торфинн, а, может быть, просто принёс с собой слишком много азкабанской тюремной жути. Если так посмотреть, то не слишком-то Трэверс от призрака далеко ушёл. Как и многие остальные… Страшно даже представить, во что превратился б он сам, сложись его собственная судьба иначе, но он не мог и не собирался себе представлять жизнь без своей семьи. Без них её просто не было. Пусть разрисуют его во все цвета, только бы были рады, а любого, кто даже подумает им навредить, он сам покрасит вот этими вот руками во все оттенки багряного и повесит на собственных же кишках.
1) Линдворм (англ. Lindworm, родственное др. сканд. linnormr (змей), норв. linnorm (дракон), швед. lindorm (змей), нем. Lindwurm (змей)) — мифическое драконообразное существо, представленное в североевропейской традиции. Именно он считался в скандинавских странах королём змей. Дракон и само слово норв. drеki же напрямую происходит от латинского drako. И пришло уже вместе с латынью, намного позже — веке в XI (окончательная христианизация Норвегии, литература на латыни, формирование скандинавского шрифта).
Трэверс, запрокинув голову, громко смеялся, и у этого смеха были острые, царапающие края. Люциус поморщился, испытывая в глубине души неприязнь, граничащую с досадой. Меньше всего ему хотелось сейчас продолжения этого разговора. Напрасно он… они с Нарциссой поселили Трэверса в тех пустующих комнатах, но кто же мог знать? На них будто бы налетела буря, и они отчаянно пытались не позволить этому злому ветру сорвать последние паруса, устраивая одичавших за тюремной решёткой беглецов на постой в их пережившем три визита авроров ковчеге.
— Асти, дружок, — Трэверс стёр выступившие от смеха слёзы, — я полгода живу в девичьем будуаре, сплю на её кровати, хожу по её ковру, дышу её пылью — Люциус, извини, — а нас с этой мисс даже друг другу толком и не представили. Странно, что она меня подушкой не придушила, пока я спал. Признаюсь, всегда удивлялся, как меня в своё время терпели соседи по комнате и в особенности твой брат…
— Не удивлялся, — покачал головой Родольфус. — Тебе было искренне наплевать, даже когда Слагги искал тебя по ночам, пока ему это не надоело.
— Прости, — Трэверс стал вновь серьёзен, — Я испортил лучшие твои годы в роли старосты. Всё портить — мой уникальный дар.
Родольфус скривился, но ответить ему не дал мелодичный бой старинных напольных часов: час дня, время ланча.
Люциус бездумно покрутил старинный перстень на пальце, чувствуя, как слегка нагрелся металл, забирая часть его раздражения. Это была досадная, непростительная оплошность, но тогда всем явно было не до старых семейных легенд: не то чтобы Люциус забыл, почему в белой спальне на втором этаже много-много лет никого не селили, скорее не придал этому особенного значения. Честно сказать, он даже не обратил особенного внимания — всё оно было целиком занято Тёмным Лордом, лишившейся разума Беллатрикс, а ещё стенающим Рабастаном и Мальсибером, выкашливающим лёгкие на постель. Остальные ещё как-то держались и хвала Мерлину, что хотя бы Гиббонс и Джагсон имели возможность вернуться куда-то к себе, и у Люциуса стало на две головных боли меньше.
Зато ему предстояла новая: Трэверса нужно было переселить. Куда-то подальше от очередных неприятностей, так, чтобы он, как и прежде, поменьше мозолил глаза… Может быть, четвёртый этаж? Небольшая спальня рядом с боковой лестницей по дороге к совятне? Ох, нет, там же тот проклятый ковёр с грифонами, оторвать который от пола за последние лет двести никто не сумел. И всё бы ничего, но в лунные ночи они имели обыкновение устраивать безобразные свары, вздымая ковёр волнами и наполняя воздух пылью и перьями, которые неизвестно откуда брались. С другой стороны, это же Трэверс, какая ему разница? Впрочем, пусть сам решает, чья компания больше ему по душе.
Люциус посмотрел на часы, задвигая куда более важную мысль поглубже. Как бы ему ни хотелось схватиться сейчас за неё — нужно было проявить осторожность. Нет, нет, не время сейчас, и ни в коем разе не думать о времени… Ему нужно немного уединения, и прочная дверь его кабинета. Прочная старая дверь, скроющая его от всех посторонних глаз.
Стрелки сместились, показывая четыре минуты первого, когда перед ним с деликатным хлопком возник старый Гридди:
— Добрая хозяйка Нарцисса просит хозяина Люциуса и гостей дома Малфой изволить к ланчу, — поклонился он церемонно, а затем так же деликатно исчез.
— Прошу вас, господа, — Люциус поднялся первым, когда двери библиотеки приглашающе сами собой распахнулись, и первым воспользовался этой оказией Трэверс, стремительно очутившийся на ногах: он бездумно похлопал себя по карману мантии, и легко, будто тень, скользнул в полумрак коридора. Люциус только глазами успел его проводить, пропустив тот момент, когда Рабастан, оставив свои рисовальные принадлежности на столе, крепко сжал плечи брата; они вышли молча, но молчание это не было напряжённым.
Почти одновременно с ними из-за шахматного столика поднялся и Роули, но вместо того, чтобы с голодным видом двинуться к выходу, замер у кресла Долохова, будто дожидаясь приказа. А ведь он, размышлял Люциус про себя, завтракал часов шесть назад, если не больше — на островах, он знал, просыпаются рано — а Долохов, так вообще, похоже, со вчерашнего дня питался исключительно свежим воздухом и туманом.
Роули открыл было рот, но Долохов поднял руку и они, безмолвно переглядываясь о чём-то своём, красноречивым и долгим взглядом провожая Лестрейнджей. Молчаливый такой диалог из одних междометий: лицо Долохова вымученно отражало всё, что тот думал о безумствах во имя любви под покровом ночи и дурости в, казалось бы, взрослых уже головах. Мысли же Роули явно свернули в другую сторону, и ночные события он видел в ином ключе: на любовном фронте он был заслуженным ветераном, романтике никогда не чужд, а дури у него и своей хватало. Что ж, взявшие в руки меч от меча чаще всего и гибнут, а тем, кому не хватило душевных сил, погибают от гнусных болезней.
Долохов похлопал сухопарой ладонью по испещрённому странами и континентами глобусу, недра которого полнились марочным алкоголем, затем хищно поднялся на ноги, зацепившись взглядом за Люциуса, хмыкнул, покачав головой, и вышел с Роули в арьергарде — неизвестно, когда ещё выдастся случай нормально поесть.
В библиотеке осталось лишь четверо: сам Люциус, Руквуд, сидящий всё ещё у камина, балансирующий на подлокотнике Мальсибер и ещё Эйвери, подвинувший своё кресло к ним. И все они слушали негромко, словно пожилое уже колдорадио, вещавшего что-то им старого тайноведа. Сам Люциус успел расслышать разве что последнюю фразу Эйвери, и то, лишь потому, что тот чуть запальчивее и громче её произнёс:
— …мне кажется, что мы просто порою не замечаем магию. Понимаете… Ну, она настолько влилась в нашу с вами повседневную жизнь, что мы к ней привыкли, как к салфеткам у себя на столе, и воспринимаем её как должное…
— Эйв, ну не каждый же день происходит такое. Бастет, ну здорово же, что настоящие таинственные чудеса всё же случаются! — воскликнул Мальсибер, спрыгивая, наконец, со своего подлокотника. — Но они от нас никуда сегодня утром не убегут. Мистер Руквуд, в самом деле, пойдёмте есть полезный и вкусный ланч, а? Я чую его отсюда. Вперёд, Эйв, нас ждут паштет и грудинка. Заодно напросимся к Трэверсу в гости — не может же он нас к себе не пустить!
Эйвери не нужно было звать за стол дважды, и Люциус даже моргнуть не успел, как тот выбрался из своего уютного кресла, а за ним с едва уловимой неловкостью поднялся и Руквуд:
— Вкусный и полезный, вы говорите? — он устало, по-доброму усмехнулся, и вся троица прошествовала к дверям.
Люциус следовал прямиком за ними, замыкая их шествие, но когда они уже вышли в холл, извинился перед всеми негромко:
— Господа, я предпочту решить наш небольшой эльфийский вопрос до еды. Мне нужно отдать эльфам некоторые распоряжения — и принять печальное решение, кем из них я готов пожертвовать во имя семейных уз. Прошу меня извинить, — и, коротко им кивнув, поспешил на второй этаж по широкой парадной лестнице.
Отступление прошло как по нотам, и он стремительным шагом, минуя многочисленных предков, перешёптывающихся в тяжёлых позолоченных рамах, преодолел бесконечно долгое расстояние до своего кабинета, и, застыв у напоённого летним зноем пейзажа, провёл пальцами по холсту. Аномалия… да… То, чего не должно и не может быть… Как же он сразу не понял, а ведь отец намекал ему так ясно и так очевидно…
Мысли Люциуса плясали в безумном танце, перепрыгивая с одного на другое, и пытаясь объять разом всё. Он ведь знал, всегда знал, что отец хранил какую-то тайну. Тот всегда был очень тщательным человеком… А эта его феноменальная, порою пугающая пунктуальность? И способность предугадывать, где ему стоит быть, или быть, там, где он действительно нужен — например, отыскать их с Уолли в лесу во время заседания Визенгамота…(1)
Сколько же отец оставил ему намёков, подсказок, ключей! «Лучшее оружие — это время» — можно ли было ещё очевиднее указать, ткнуть практически носом? Да, он не вложил маховик времени — что же могло быть ещё — прямо ему в ладони, но Люциус понимал. Он должен был сам ещё тогда догадаться, спросить… Или нет? Ни в коем случае не спрашивать ни о чём — даже когда отец слёг внезапно. Сколько бы он пробыл тогда у него в руках? Нет, нет, отец верно всё рассчитал; сделал для них всё возможное, чтобы семейное достояние не досталось Лорду... Неужели… неужели отец стал мешать? И, выходит, драконья оспа…
Стоп, сказал Люциус сам себе. Стоп. Этим мысли не просто вредны, а опасны и толку от них сейчас будет мало. Можно сколько угодно копаться в прошлом, но потом, не в эти утекающие сквозь пальцы минуты. Ему нужно собрать, сгрести в одну кучу все имеющиеся кусочки головоломки и сложить их, выстроив у себя в голове цепочку вчерашних событий. Прямо сейчас, но не здесь.
Он запер за собой дверь кабинета, крепко зачаровал, и, закрыв глаза, припал к ней спиной. Итак, акт первый: у отца был, был самый настоящий маховик времени, и Люциус даже смутно его представлял, чувствовал его приятную тяжесть в своей руке и прохладную гладкость металла. Что это? Воспоминание или морок? Акт второй: они встретились в ночном коридоре с отцом, как в одной из трагедий Шекспира, но, увы, на сцене вместе с Люциусом дуэтом выступал крепкий терновый джин. Мордреда ради, от него до сих пор гадко горчит во рту. Акт третий: постыдное бегство из собственной спальни от самого себя, всё в той же компании — звучит как плохой каламбур.
И куда же это его привело? Правильно, вещи свои он нашёл в кабинете, а значит, с большой вероятностью, дело было примерно так: он был пьян, напуган и возбуждён — всё уронил со стола, своротил пару полок… — так мог он случайно наткнуться и на тайник? Найти, то, что было спрятано столько лет, а потом бездумно воспользоваться?
Люциус болезненно сжал переносицу пальцами и застонал — наверняка, в тот момент ему это даже казалось отличным планом; таким же отличным, как и парочка до него. И он ещё в мыслях пенял сегодня Родольфусу! Ох, Мерлин, оба они хороши… Вот только ему придётся держать язык за зубами — в эту тайну нельзя никого посвящать. И в первую очередь мистера Руквуда, с его долгим невыразимым прошлым: вопрос доверия есть вопрос интересов, вот только Люциус не взялся бы поручиться, в чьих интересах тот действует и кому же в действительности лоялен. Нет, «подотчётность» маховика отнюдь не та тема, что Люциус планировал с кем-нибудь обсуждать, а значит, всплывать ей не следует. Нигде. Никогда. И ни при каких обстоятельствах. По крайней мере, покуда сам Люциус точно не вспомнит, где сей перешедший ему вместе с имением артефакт имеет место быть спрятан — не лежит же он прямо сейчас у него в кармане?
Люциус с нервным смешком прошёлся руками по мантии, проверил карманы, но, как и думал, ничего не нашёл, и его надежда на то, что в этот раз всё будет просто, увяла, увяла будто тронутая морозом в разгар весеннего дня. Однако спокойная и размеренная тишина кабинета не позволила долго жалеть себя, и Люциус осмотрелся: бумаги и книги были разбросаны по полу, из угла доносилось мелодичное стрекотание часов, кисти на тяжёлых бархатных шторах мягко шуршали, покачиваясь от ветра, врывавшегося через распахнутое окно вместе с лучами солнца, скользившими по тёмному старому дереву тёплыми золотистыми бликами.
Он какое-то время любовался учинённым им беспорядком, силясь вспомнить хоть что-нибудь. Нет, так никуда не годилось, нужно очистить сознание, и позволь разуму сделать всё за него. В голове стало пусто, темно и тихо, но ясности не добавилось ни на кнатт. Люциус сжал в раздражении кулаки и выдохнул через зубы, прежде чем бездумно броситься переворачивать вещи, валявшиеся на полу, затем принялся судорожно обыскивать ящики своего стола сверху вниз. Один, второй, третий…
Мелкие предметы и бумаги парили в воздухе; более крупные складывались на столе в стены и башни какой-то чудовищной крепости, грозившей, едва что-то пойдёт не так, развалиться до состояния беспорядочной груды руин; Люциус же, содрогаясь от нетерпения, продолжал сеять хаос вокруг себя.
Где же он? Где? Люциус механически проверял полки шкафов и зеркальные недра бара. Куда отец его спрятал? Вчера он смог, смог на него наткнуться — куда же он тогда его дел? И зачем? Что, что, что такого он вчера делал здесь? Люциус ослабил верхнюю пуговицу и откинул волосы, налипшие на лицо: скорее всего, он просто вернул всё на место и нужно вновь отыскать тайник. Вспоминай, вспоминай, Мордред тебя побери! Что, что кажется, прежде всего, необычным?
Старые напольные часы начали громко бить: хрипло, гулко и ужасно не вовремя, хотя прежде ни разу не отставали, и Люциус, замерев, медленно перевёл на них взгляд.
Да ну нет, невозможно!
Но… с отца вполне сталось бы… Такая ирония…
Приблизившись напряжённо к часам, Люциус, даже не удивился, увидев на стеклянной и всегда идеальной дверце мутные отпечатки пальцев. Он осторожно коснулся стекла, пачкая его ещё больше, и отпечатки почти совпали, разве что новые выглядели свежей.
— Акцио ключ от часов, — сипло прошептал он, а затем, вставив его в замочную скважину, с щелчком повернул, и створка слегка приоткрылась.
Пустой графин под монотонно отмеряющим время маятником постыдно бросился Люциусу глаза, подтверждая его догадку. Отстать они могли только если им кто-то помог, и Люциус посмотрел на часы так, будто видел их в своём кабинете впервые. Какие секреты скрыты у них внутри? Он внимательно рассматривал матовый циферблат с латунными римскими цифрами и ажурное кружево бесконечно путешествующих по кругу стрелок, а затем коснулся рукой малого циферблата, показывающего фазы луны. На памяти Люциуса тот никогда не работал, но ведь никто никогда почему-то не пытался его починить…
Возможно ли это? Его пальцы подрагивали, когда он, будто бы по наитию перевёл стрелки часов на полночь, а затем сдвинул мёртвый до этого времени указатель на символ с чёрной луной.
Внутри что-то заскрежетало и щёлкнуло; циферблат открылся, и Люциус, нервно сглотнув, просунул пальцы в тайник, и через мгновение ощутил знакомое прохладное ощущение. Узнавание шокировало, практически его оглушило, и он почувствовал, как слёзы наворачиваются на глаза. Намотав платиновую цепочку на палец, Люциус нежно оглаживал впившегося в свой хвост змея на крышке отцовских часов. Он завёл их ласкающим, нежным движением, и они открылись в его руках, как ни разу ни открывались прежде, сколько бы в детстве он ни просил их у отца подержать, явив истинное своё нутро, лучившееся золотистым светом от запаянного в стеклянный сосуд песка, закручивающегося в крохотные спирали.
Бесконечно застывшую вечность Люциус стоял и смотрел на то, что держал в руках, пока они предательски вдруг не дрогнули, да так сильно, что он испугался, что выронит маховик. Люциус метнулся к окну и положил часы на единственную в кабинете поверхность, свободную от вырвавшихся из чрева шкафов вещей, и замер у подоконника, глядя на прихотливую и не такую уж старинную, как ему прежде казалось, вещь. Сорок четвёртый год судя, по механическим внутренностям и ещё гравировке: кто же этот «Т. Г.»? Вряд ли он об этом теперь узнает, если только отец не решит сам ему когда-нибудь рассказать.
Он задумался, не вернуть ли свою находку снова в тайник. Но, по некоторому размышлению, положил его всё же в карман жилета — пусть будет с ним. Люциуса разрывало на части — он хотел тут же пойти к отцу и вывалить на него все обуревавшие его в этот момент вопросы, и остаться подольше здесь, и сбежать куда-нибудь из поместья, чтобы просто собраться с мыслями, навести порядок в душе. Скажем, в свой сейф в Гринготтсе.
Моргана и Мерлин, он правда его нашёл! И теперь…
Теперь нужно успокоиться, окоротил Люциус сам себя. Навести тут порядок, закончить с эльфами и неспешно спуститься в столовую к ланчу — у него впереди всё время мира, но в таком виде показываться нельзя.
Призвать кувшин со стола, не обрушив при этом шатких фортификаций, было задачей почти что невыполнимой, и Люциус всё ещё подрагивающей рукой достал свою палочку и наколдовал в воздухе облачко густого, готового пролиться влагою на паркет тумана. Умыл им разгорячённое до красноты лицо, а затем с наслаждением подставил ласкающему майские травы ветру, проникавшему в кабинет из распахнутого окна.
Он прикрыл отяжелевшие от пережитых им потрясений веки и сделал пару глубоких вдохов, возвращая себе привычное душевное равновесие. Но стоило ему только открыть глаза, как тут же пришлось вновь зажмуриться, спасаясь от слепящих солнечных зайчиков, которых кто-то бездумно пускал в внизу.
Люциус с трудом проморгался, выглянул в сад, прикрываясь рукой… и застыл, уставившись на застывшую в тени роскошного куста белых роз фигуру своего двойника, издевательски крутившего в руках бликующее на солнце зеркальце, словно пытаясь его привлечь.
Воздух стал густым и горячим; тоненько зазвенел в ушах на высокой противной ноте, резонирующей в висках, так, что это было едва выносимо. Люциус нервно сморгнул, воззвал ко всем пришедшим на ум высшим силам, покрепче сжал палочку, но тут же выдохнул, испытывая нечеловеческое облегчение, стоило только на солнце наползти облакам.
Умиротворяющий бальзам — вот что ему явно нужно. Мерещится уже Мерлин что: вместо двойника под окнами его кабинета задумчиво застыл Гектор Трэверс с серебряным портсигаром в руке.
Некоторое время Люциус стоял и смотрел на него, удивляясь тому, что вообще мог спутать того с собой. Тот как раз успел по-пижонски от палочки прикурить, затянулся и, с наслаждением запрокинув голову, выпустил сизый дым в небеса.
Спутать их можно было исключительно сослепу в темноте — они почти что ничем друг на друга не походили, разве что причёской и то со спины. Но сейчас, на свету, седая лохматая грива Трэверса смотрелась полностью белоснежной, как снежные шапки в горах.
К тому же, он был немного выше и жилистей, но, по крайней мере, не таким измождённым, как ещё в январе — зелья и привычная нормальному человеку пища делали своё дело. Как же всё-таки неудобно вышло с проклятой спальнею Алкионы…
Нет, определённо, с нервами нужно что-то решать, и точно притормозить с вечерними возлияниями. Люциус оглянулся на разгромленный кабинет, и ему неожиданно стало стыдно за графин, всё ещё сиротливо стоявший в часах, и он тут же поклялся себе, что сегодня к спиртному даже не прикоснётся, но в закрытом кабинете придётся, конечно же, посидеть, чтобы не выходить из роли. И ему будет над чем вечером поразмыслить на трезвую голову, к тому же он слишком многое задолжал самой важной женщине в этой жизни...
Он погладил змея на прохладной крышке часов в кармане жилета, остро ощущая всем своим существом: телом, душой, и всем, что делало его Люциусом Малфоем, что на краткий миг время для него замерло, а затем, словно сорвавшись с цепи, побежало. Это впечатляло. Давило на Люциуса, словно толща океанской воды. В этом можно было утонуть, сражаясь за глоток воздуха в попытке вынырнуть на поверхность. Но теперь, глядя на платиновые стрелки, он будет знать, что отсчитывает его уже не до мучительного финала — теперь у него был шанс и самое безжалостное оружие против его врагов, и врагов его дома.
Круг замкнулся, и Люциус Малфой сделал в этой войне главный выбор.
А может быть, и не только в войне...
1) Об этом случае можно прочитать в истории "«Путь в ничто», или Об особенностях восприятия терминологии"
Он как-то слышал от одного глубоко учёного человека, что мысли и намерения просто возникают в мозгу. Что ещё они могут делать? Правда о нас ещё более странная, чем многие думают: иллюзия свободы воли сама является лишь иллюзией. Так выбираем ли мы, на какой из десятков, сотен тысяч путей сворачиваем под этими бесконечными небесами?
Смотреть на жгучий ультрамарин, раскинувшийся от края до края неба над его головой, было слишком болезненно, и Гектор Трэверс прикрыл глаза, чувствуя, как они начинаю слезиться от этого беспощадного и живого цвета. Сможет ли он когда-нибудь снова привыкнуть к этим слепящим, неестественным краскам после подёрнутых пепельной серостью Азкабана едва различимых полутонов, и нужно ли вообще привыкать?
Он сделал очередную затяжку, но это не принесло ему облегчения. Руки подрагивали, а вместо привычной скребущейся под рёбрами пустоты там бился и трепетал, словно жутковатого вида птица, безмолвный ужас перед чем-то, чего Гектор не мог постичь. Казалось, что этот глубинный страх брал начало за пределами его тела, и даже лишись он кожи, плоти, костей, тот просто продолжит существовать. Но самое страшное заключалось в том, что в этом непостижимом и безымянном ужасе таилось губительное, роковое очарование, которому нельзя и невозможно было сопротивляться; хотелось припасть к нему и застыть, как застывают, пригревшись в последний раз, путники, замерзающие в горах. Это изматывало, отнимая последние силы, и всё что он мог — цепляться за свой рассудок, ибо не был уверен, что именно сделает, если позволит сорваться себе в эту пропасть, и привычное, дарящее блаженство забытье больше не было для него вариантом.
Гектор поборол искушение затушить сигарету о тыльную сторону собственной же ладони: боль тоже не принесёт ему ничего. Мерлин, так сложно даже просто решить, что ему полагается ощущать. Чувствовать ли ему себя использованным, или же благодарным? Почитать мантры? Сжечь подношения? Благовония воскурить? Впрочем, кто-то уже вчера достаточно постарался, и Гектора до сих пор преследовал оглушительный запах палёных роз, забивавший даже аромат табачного дыма. Он будто бы до сих пор дышал тем туманом, лопатками чувствуя: нечто испытующе наблюдает за ним, как наблюдает сейчас Малфой из окна своего кабинета.
Голова немного кружилась; Гектор вновь затянулся, чувствуя, как лёгкие наполняет дым, и тело нехотя, словно после долгого сидения в неудобной позе, начинает всё-таки расслабляться. Первая сигарета за день творит чудеса: Гектор, не открывая глаз, с облегчением помассировал свой загривок. Ах да, теперь в его спальню начнётся паломничество — может, брать с них по паре сиклей за вход, пока его не попросили оттуда съехать? Нужно будет как-то упаковать всё, чем он успел за эти месяцы обрасти, прежде чем самые любопытные сунут нос в его вещи. Не то чтобы ему было особенно что скрывать, но вдаваться в любые подробности Гектору не хотелось.
Вещи могут рассказать о людях значительно больше, чем люди о них, так что пусть на себя примет удар кальян, который каким-то чудом добыл из его дома крёстный. Вот уж действительно, история — не выдумаешь смешней… впрочем, не он один оказался в подобной сомнительной ситуации.
Лестрейнджи застряли здесь, потому что их родовое гнездо мрачной ноябрьской ночью, когда их троих повязали, перешло в осадное положение. В старые времена в таких вещах знали толк, так что никому из живущих волшебников было его ни найти, ни попасть, ни даже дозваться оттуда эльфов — разве что только хозяину, который застрял в тюрьме, и за тринадцать лет стало лишь хуже. Заклятие, замкнутое само на себя — Гектор видел похожие случаи, даже как-то помогал с подобным отцу, когда тот был жив. Нет такой защиты, которую нельзя было рано или поздно вскрыть, иначе пирамиды стояли бы неразграбленными, нетронутыми медленно разрушались бы древние храмы в бескрайних джунглях Юго-Восточной Азии и затерянные, мёртвые города где-нибудь в гниющей духоте Амазонки. Но всё, что мог позволить себе Аврорат — попытки влиять разве что лишь на местность; найти ненаносимое зачарованное поместье они не смогли, сколько бы ни прочёсывали скалистое побережье Дувра. Нагнать толпу разрушителей заклинаний им не позволили ни закон, ни имеющиеся у Аврората средства — недешёвое удовольствие. Так что разного рода любители порезвились там всласть, но с таким же успехом можно было залепить все замки жёванным «Берти Боттс» на морозе: толку от этого никакого, зато какими потом словами вспомнят тебя вернувшиеся хозяева!
И они, конечно же, вспоминали: оказавшийся на свободе Родольфус, ещё не оправившись и с чужой палочкою в руках, даже не смог нормально аппарировать на границу, не то, что попасть домой. Конечно же, изнутри решить проблему было бы много проще, но каминная сеть была отрезана ещё, кажется, в середине восьмидесятых у всех, у кого не осталось присматривающей за домом родни. Так что нужно было добираться туда метлой, и снимать защиту вдумчиво и послойно — целая экспедиция, на которую Тёмный Лорд позволения не спешил давать, сколько бы Родольфус ни скрежетал зубам.
Возвращение домой вообще забавная штука: знакомые картины, звуки, запахи... единственное, что изменилось — ты сам; Гектор тоже мечтал окунуться в привычные и знакомые с детства вещи, но его ситуация была ещё на порядок нелепей.
Тогда, после их последнего Хэллоуина, он просто сорвался в штопор. Кажется, тогда с ним случилась истерика: смеялся он так, что его едва не прикончила Беллатрикс. Смеялся до слёз из глаз и до боли в рёбрах. До мучительной невозможности сделать вдох. А потом словно завис в абсолютной безграничной и глухой ко всему пустоте, и когда в последний раз выходил в никуда из дома, просто не стал закрывать за собою дверь — ни метафорически, ни буквально.
В относительно привычную для себя реальность Гектор вернулся, когда его ломало в глухой одиночной камере, куда его кинули за подписью Крауча без суда. Он не сразу понял, что это не очередной круг порождённых его подсознанием жутковатых галлюцинаций, и был не так уж не прав. Ну, он всегда считал, что реальность — сон разума, заснятый на бракованную фотоплёнку. Символично, что Барти Краучу хватило одних колдографий, чтобы отправить его в Акзабан, и Гектор лишь смутно догадывался, что именно на них было.
Всё, что он помнил сам, хотя достоверно не мог поручиться, что оно происходило на самом деле, а не только в его голове — это фантастическое ощущение собственной целостности, и то, как пружинит воздух, когда по нему идёшь, с переполняющей, плещущейся за край безграничной верой. Он вышел к аврорскому оцеплению прямо через окно с окровавленными руками, но не помнил, чей дом оставил пустым и тихим за своею спиной. Зато в его памяти сохранились розы, и то, как томительно врезались в сплетающиеся пальцы шипы. Яксли рассказывал, что одну из них, кажется, приобщили к делу, и вот они снова с ним…
Только в этом отрезке жизни они окрашены в нетронутый белый цвет.
Тогда, в ноябре восемьдесят первого года, обыск не заставил себя долго ждать, тем более, Гримсберри-хилл был одним из немногих домов, которые можно было вообще обыскать хоть как-то, и даже что-нибудь там найти. Так они думали, доблестные служители Аврората — ведь даже защиты от аппарации на доме не было никогда. Аппарировать там могли бы решиться разве что только самоубийцы, чьи окровавленные конечности и тела, иногда даже с палочками в руках, оказывались в саду. Волшебная аномалия, которая стала давно нормой жизни — как эльфийские головы над лестницею у Блэков, или грот с волшебным источником у Дервентов, способным снимать любое похмелье и лечить головную боль.
Дом был стар, очень стар, хотя десятки раз перестраивался, обрастал новой кожей, отращивал крылья, башни, лестницы и чердаки, не становясь от этого дружелюбней. Этакий мизантроп от волшебной архитектуры, впрочем, не лишённый своего мрачного уютного шарма для тех, кто к нему привык — Трэверсы грабили чужие могилы, ещё когда на этих берегах не высадились норманны, и они учились выживать в своём доме с детства. С другой стороны, мирной смертью Трэверсы умирали редко, и зачастую семье было нечего хоронить — привычные риски для каждого разрушителя заклинаний, работай он на гоблинов из Гринготтса или же на себя.
Так что попасть в дом силы магического правопорядка, конечно, смогли, но после того, как там сгинули двое авроров, дальше гостиной сунуться просто никто не решился. Потом вмешался и крёстный, официально распоряжающийся имуществом Трэверсов, и следящий, чтобы ничего из дома не растащили, и возник странный такой паритет. Министерские опечатали дом, наставив сигнальных чар, везде, куда добрались, и попробуй Гектор просто войти в собственные ворота, тут бы его и встретили, а пробраться в недоступные никому части дома способом, известным лишь членам его семьи, он пока не тянул. Не то чтобы он как-то особо цеплялся за эту жизнь, но глупо и болезненно умереть в его планы пока не входило. Увы, привычная форма возвращалась с большим трудом, да и палочка досталась ему дурная: сопротивлялась, капризничала, стоило дать слабину, и кажется, тихо его невзлюбила, но к этому он привык. Как и к вынужденному гостеприимству, которое Малфой им всем оказал.
Гектор мог бы, конечно, скрываться у крёстного, вот только в особняке у Ноттов бывало слишком много заметных людей, да и аврорский паб находился всего через пару улиц — волшебников в Гринвиче было не слишком много, и они жили так, чтобы всюду можно было дойти пешком. К тому же, как и всем остальным, Гектору требовалось лечение, и сотрясать воздух по этому поводу он не стал, приняв своё новое положение, как неизбежную данность; словно ещё одно из десятков мест, где ему доводилось жить во время министерских командировок в качестве атташе. Славные дни, когда положенные ему представительские расходы были меньше его же карманных денег в пятнадцать лет.
Ему выделили спальню на втором этаже, и он впервые за много лет ощутил под собою прохладные чистые простыни, и услышал, как уютно трещат в камине дрова. И всё же эта комната не понравилась ему сразу, стоило только переступить порог. Было в обитых светлым шёлком стенах что-то такое… неуловимо мерзкое, даже по сравнению с камерой в Азкабане, так что он по возможности старался в ней просто не ночевать. Тем более, по ночам Гектор спал не так уж и часто — как и многие поселившиеся здесь беглецы. Они чем угодно занимали ночные часы, проводя их в компании, или просто при ярком свете, подспудно ожидая появления чёрных, несущих холод и страх теней. Так что Гектор отсыпался в своей новой обители с рассвета и до полудня, и всё же давящее и мрачное чувство, пронизанное чужим присутствием, постепенно становилось сильней. Однако, он полагал, что сам вполне с этим как-нибудь разберётся — заодно стряхнёт со своих знаний пыль, к тому же дёргать по таким пустякам и без того взвинченного Малфоя ему претило. И уж тем более он не хотел сваливать свои трудности на хозяйку, которую старался самим собой не пугать лишний раз.
Нет, проще было думать о ней как о части окружавшей его обстановки, чем о том, что она дышит, улыбается, говорит, справляется о здоровье; видеть белоснежную кожу её запястий, когда слегка приподнимается кружевной рукав, или плавный изгиб длинной шеи… Гектор провёл тринадцать лет в одиночной камере, и жить под одной крышей с мадам Малфой оказалось одной из тех многих вещей, к которым нельзя подготовиться. Впрочем, вопрос настроений — это вопрос внимания. Мыслями управлять тяжело, но легко управлять глазами — можно было просто не фокусировать взгляд, позволяя ей скользить размытым пятном на самой границе зрения.
Они делали вид, словно не замечают друг друга, и это устраивало и его, и её. Он даже старался не смотреть в её сторону без нужды — слишком от этого было тягуче больно. Нарцисса Малфой словно принадлежала какой-то другой, прежней его реальности, в которую ему самому было ни за что не вернуться. Она была похожа на его давно покойную мать — может быть, только внешне или сестру, которой у него не случилось; она несла в себе всё, чему, не осталось места в его сломанной собственными руками жизни, и он не хотел испытывать вновь судьбу, и не желал ей зла.
Когда Тёмный Лорд позволил ему покидать поместье, это стало настоящим спасением, вот только цепь была достаточно коротка. Было бы даже смешно, не будь это настолько чудовищно ирреальным, когда их вернувшийся с другой стороны бытия повелитель прочитал ему целую лекцию о пагубных и недопустимых привычках в столь сложный и важный момент. Будто только и ждал, что Гектор, ощутив вкус свободы на языке, бездумно сгинет где-нибудь в Чайна-тауне на задворках, растворившись в тяжёлых клубах наркотического тумана. Звучало вполне заманчиво — если бы вместе с ним, упираясь коленями в каменный пол не застыл сгорбившийся и поникший плечами крёстный. Пришлось искать приемлемый компромисс… однако, Гектор и сам не горел желанием снова проснуться в камере или не проснуться на дне реки — впрочем, сложно было сказать, чего же он вообще хотел, и в принципе хотел ли чего-то.
Иногда он просто застывал, устроившись на окне и растворяясь в испятнанной непогодой зелени сада, живущего своей неспешной и загадочной тайной жизнью. У растений было больше здравого смысла, чем у всех вместе взятых вокруг него, и Гектор пытался постичь эту грань философии, таящуюся в шелесте листьев и медленном, незаметном движении пронизывающих землю корней, пока отгоняющие бессмысленные тревоги зелья бродят в его крови. Наверное, самое большее из того, чего бы он смел желать — чтобы его просто оставили вновь в покое, но на горло своим желаниям наступать он научился уже давно. Тот, кто становится пресмыкающимся червём, должен ли сокрушаться, что его хотят раздавить? Глупо жаловаться на то, чего нельзя избежать.
Вчерашний ужин не стал для него исключением, но заставить себя поесть Гектор опять не смог. К тому же, близость мадам Малфой не делала это проще: она таким странным и долгим взглядом наблюдала за тем, как он вымучивал грейпфрут. В какой-то момент Гектор даже начал всерьёз опасаться, что она потребует причитающуюся ей, как хозяйке, долю, и ему придётся кормить её прямиком с ножа, чтобы она не вцепилась ему своими ровненькими зубами случайно в пальцы. Неужели никто этого в ней не видит? И что там по этому поводу говорит этикет: уместно ли будет потом предложить ей салфетку, чтобы утереть с губ горьковатую сладость сока и кровь?
Крёстный сложно на него посмотрел поверх причёски Нарциссы, и Гектор, вздохнув, принялся отсчитывать про себя время, оставшееся до конца этой жутковатой и тошнотворной трапезы. А потом, когда Лорд изволил от них удалиться, влил в себя чашку кофе и просто сбежал. Упав на кровать, он попробовал отключиться, но стоявшая вокруг духота заставила его снова встать. Странно — окно в его комнате всегда оставалось открытым, но воздух словно перестал сквозь него проходить, и Гектор почувствовал, что почти задыхается. Мерлин, он снова что-то не то намудрил с дозировкой. Три капли? Пять?
Гектор сморгнул цветные пятна, танцующие в глазах, и сполз у стены просто на пол. Он не знал, сколько так просидел, но всё же ему стало легче, как бывало всегда, когда очередная растворявшая маслянистую, чёрную, словно дёготь, апатию, дрянь его отпускала. Так, кажется, говорят? Он стёр со лба выступившую испарину: неплохо бы в душ…
Освежившись, он просто сидел со справочником по гербологии у камина, досушивал волосы и уже начинал дремать, когда что-то вокруг него изменилось. Он никак не мог понять, что именно, и воспоминания в его голове странно путались, перемешиваясь друг с другом. Он и сейчас не мог точно себе ответить, подчиняясь каким порывам решил отправиться в сад — будто его направляла чужая воля. Нет, конечно, он помнил цель: Asphodelus ramosus в дальней и не слишком посещаемой части сада как раз цвели, словно в загробном мире.
Не то чтобы его интересовали сами цветы, но на их корнях обитал один особый грибок — или не грибок, скорее, пожалуй, плесень… невероятно чувствительная к магии, и очень нужная ему в одном важном зелье. Что бы о нём ни думали, но Снейп был не единственным, кто знал, с какой стороны подходить к котлу. Пусть Гектор и не замахивался на лавры великого зельевара, но пару противоядий в полевых условиях мог сварить — как и любой, кто хорошо успевал на уроках Слагги. Те же области, в которых он был хорош, носили уже, скорей прикладной характер. Весьма и весьма прикладной.
Эйфория, свобода от самого себя и наступающее за ними забвение — эта тонкая тропка в Элизиум могла понадобиться отнюдь не ему, и нужно было всё хорошо проверить на единственном испытуемом, которому Гектор мог безоговорочно доверять. Увидев впервые за много лет самого себя в зеркале, Гектор удивился вовсе не седине, а тому, насколько ему не шла борода по сравнению с дедом, и он поспешил избавиться от неё, неосторожно изрезав лицо, и лечил потом ранки бадьяном. В этот раз придётся быть куда аккуратней, ведь работать придётся лопатой почти в темноте…
Почему? Зачем? Блажь на грани абсурда, и Гектор не знал, с чего вдруг решил, что это отличный план. Но уже тогда ощутил, что что-то незримо играет с ним, однако просто отмахнулся от собственного предчувствия — его влекла разлитая за очерченными границами окон тьма. Над поместьем нависла ночь, а с нею наступил час духов, призраков и грабителей старых могил.
Второй этаж… в общем, невысоко и вполне удобно. Можно не брести через спящий дом, рискуя кого-нибудь встретить, а сразу оказаться внизу — достаточно аппарировать, стараясь не угодить в заросли под окном. Гектор выбирался так уже не впервые, и даже не понял, как очутился уже внизу и отправился за лопатой — садовый инвентарь у мадам Малфой был просто на высоте.
В саду одуряюще пахло цветами, и едва ощутимо дымом, словно где-то вдали жгли костры — этот запах буквально вгрызался в него, мешая ему мыслить здраво. Гектор смутно помнил, как добрёл до зарослей асфоделей, тяжесть лопаты в своих руках и запах разрытой, пробудившей почвы. Кажется, уже тогда начал сгущаться туман, и Гектора придавило чужим, запредельным взглядом, словно что-то смотрело в упор, оценивало его, взвешивало на незримых весах и признало лёгким.
То, что было с ним дальше, Гектор уже вспоминал с трудом — но такое вполне обычно для жертвы, замороченной древним мстительным полтергейстом: чем сильней становился запах, тем меньше его волновало всё, что творилось вокруг. Аромат роз накатывал, приносимый ветром, полностью завладевая им — и вновь отступал. Гектор брёл, ведомый потусторонней волей, словно в бреду, пока не упёрся в стену. Аппарировать он не мог, и, будучи в каком-то полузабытьи, не рассуждая, схватился за прочные плети ползущего по стене плюща и просто полез наверх.
Подъём по старой изъеденной временем и погодой кладке казался Гектору бесконечным, словно он пытался забраться не к себе на второй этаж, а покорял неприступную азкабанскую стену, и свинцовые волны бились об острые скалы внизу. Но он всё же смог подтянуться в конце на руках, и устало перевалился через собственный подоконник. Света он зажигать не стал. Всё, на что хватило остатков сил — разве что только раздеться, и, отправив ботинки, почему-то висящие у него на шее, в подкроватное небытие, затаиться от всего мира под одеялом, даже не понимая, спит уже или нет.
Где-то надрывно кричала женщина, и сперва он решил, что её с особой жестокостью убивают, однако вскоре к рисунку криков добавились и сладостные мольбы, и Гектора передёрнуло — фантасмагория становилась каким-то пошлым ночным кошмаром, и он был не властен над ней. Крики то затихали, то становились громче, утягивая его в бездонную лунатическую черноту, путая и без того спутанное сознание, и он куда-то проваливался и падал, пока не достиг илистого мягкого дна, скрытого под тихой толщею океана.
То, что было потом, он не мог и не готов был заново пережить, даже вспоминая об этом. Пожалуй, сейчас, днём, стоя под ярким весенним солнцем, Гектор мог бы цинично попробовать рассуждать, как же ему повезло, что это была покойная Алкиона. Даже думать страшно, что бы было, столкнись он с каким-нибудь жутким жаждущим крови обидчика стариком — Гектор, кажется, даже помнил портрет, о котором рассказывал Роули… и светлые локоны, мерцавшие призрачным серебром.
Он мог бы упорно твердить, что не меньшим везением было, что древнейший из способов сработал, как работал не одну сотню лет, и эту безумную ночь он всё-таки пережил, отделавшись магическим истощением, и глубокими царапинами на бёдрах, плечах, спине — всего лишь немного боли. Не значащий ничего ущерб. Он мог смело врать посторонним, но не сможет соврать себе.
Гектору было страшно, страшно, как когда-то в далёком детстве, когда он умел бояться и чувствовал себя брошенным в темноте. Мучительно страшно. Так, как не было в Азкабане, ибо свои кошмары ты носишь внутри себя, и он вполне успел притерпеться задолго до того дня, как за ним захлопнулась с лязгом решётка. Но сегодняшний долбящий клювом отверстие в его грудной клетке страх вызван был ощущением, что он вновь и вновь обречён терять то, о чём Гектору бы и в голову ни пришло молиться.
Нет и не будет ужаснее ничего, чем прикоснуться к подобным силам, ибо когда они покидают тебя, в итоге не останется уже ничего, кроме ощущения бесконечной потери, смириться с которой выше человеческих смертных сил. Знал ли он, что достижение вышей точки, сам момент экзальтации, станет для него откровением, как становился для всех, кто шёл до него по этому же пути…
Каждое обжигающее его призрачным холодом прикосновение мёртвых губ с привкусом соли, цветов и пепла, каждый вздох, разделённый с той, кому не нужно дыхание, каждое их движение, мучительно медленное или ошеломляюще резкое будто вскрывало его, как мог бы вскрывать его труп прозектор, вынув и взвесив органы, а затем вернув их назад.
Гектор был беззащитен, наг и беспомощен перед ней. Он терялся в их рваном дыхании, ибо, испив его, она начала дышать, и её дыхание опаляло. Он плавился, растворялся в балансирующей на границе агонии нежности, и не думал, что сможет когда-нибудь вновь стать ущербным и разделённым с ней. Гектор не жалел ни о единой минуте их близости, и в то же время отдал бы половину себя за то, чтобы сия чаща его миновала, и этот опыт ему не пришлось пережить; за то, чтобы не помнить этого смутного сияния её призрачной кожи, там где он касался её, и ощущения, как она медленно оживает.
Он не помнил, как лишился сознания, но, пожалуй, согласился бы умереть в тот момент рядом с ней, расслабленной и почти совсем настоящей, ведь ему бы не пришлось тогда просыпаться в бессильном и пугающем одиночестве. Гектор лежал и не мог заставить себя издать ни единого звука, чтобы выразить безысходность, обрушившуюся на него в тот момент. Никогда он не чувствовал себя таким израсходованным, опустошённым, нечувствительным даже к боли.
Розовый мягкий свет заливал всё вокруг, и Гектор каким-то запредельным усилием заставил себя тогда просто сесть, как-то даже не удивившись, что спальня была не его. Большая, просторная, с парой ведущих куда-то дверей, похоже, хозяйская. Вот и стекающий с подлокотника кресла зелёный шелк с элегантной небрежностью брошенного там платья, в котором Нарцисса была за ужином — на память к деталям Гектор не жаловался никогда, даже если не помнил их смысла. Значит, хозяева провели эту ночь где-то ещё — в противном случае его бы выставили отсюда… Но он был… остался… совсем один, и никому до него этим утром не было никакого дела.
Люциус наверняка опять надирался всю ночь у себя в кабинете, и там же заночевал; про Нарциссу Гектор сейчас не мог даже думать. Он механически собрал с пола свою одежду, нащупал под кроватью ботинки, и, подрагивающей рукою взяв палочку, аппарировал в наверняка свободную в этот час ванную на своём этаже. Он не знал, сколько он просидел на холодном мраморе пола, но не мог, просто не мог вернуться к себе. Мерлин, храни расторопных домашних эльфов, которые не станут спрашивать ни о чём.
В библиотеке он затерялся примерно в семь, и даже сумел ненадолго забыться и подремать где-то у полок с восточными магами начала века. И, кажется, всё ещё спал, ибо никак не мог объяснить порыва, граничащего с истязанием самого себя, когда он вытащил свои страхи на свет перед всеми, не так уж многое утаив. Может быть, он надеялся, что, если начнёт говорить, то сможет облечь горечь и страх в слова, и тогда внутри уже не будет так чудовищно пусто? Как хороший рассказчик он разбавил историю тем, что всем бы хотелось услышать, и спрятал подальше всё, из чего могли родиться вопросы, на которые Гектор не смог бы ответить и самому себе. Кто бы знал, что исповеди заразны, и странное в эту ночь коснулось не одного лишь его, притушив ореол трагической избранности.
О призраках проще молчать, находясь с живыми. Пора было, наверное, уже возвращаться в дом — как бы Гектор ни хотел, но он не мог жить, , как крёстный всегда шутил, на одних воде, солнечном свете и никотине. К тому же, не стоило обижать хозяйку.
Странно, до сегодняшнего утра он как-то не замечал, что она, как и всё в этом доме, тревожно благоухает розами… интригующий такой аромат с оттенками сладости разложения — наверное, так пахнут все женщины их семьи… Хотя Беллатрикс носила обычно чужой запах боли, а Андромеда, насколько он помнил со школьных времён, кажется, пахла хвоей и чистотой… Сколько же лет прошло…
Тлеющая сигарета обожгла пальцы, и Гектор, раздавив её о подошву ботинка, тряхнул головой, а затем развеял окурок магией. Хватит, бесполезно тратить себя на сожаления и искать высший смысл. Судьба не толкает тебя туда, куда идти ты не хочешь. Все люди и все события в этой жизни вошли в неё потому что что-то их в тебе притянуло, и остаётся лишь выбирать, как с ними теперь поступить, даже если свобода воли не более чем мираж.
Он уже собирался двинуться в сторону дома, как, повинуясь наитию, сорвал белую розу с куста и вставил её в петлицу — от чего-то Гектору сегодня особенно не хотелось казаться невежливым и неблагодарным в глазах хозяйки.
Мерлин знает, что и сколько Нарцисса Малфой сделала для всех них.
Солнечный свет тускло просачивался сквозь грязные окна спальни, и Сириус, с проклятьем поморщившись, прикрылся рукой, а затем нащупал палочку под подушкой и заставил пыльные бархатные портьеры задёрнуться, погружая всё в наполненный затхлостью полумрак.
Поганая ночь. Впрочем, как и другие. Он спустил босые ноги с постели в поисках тапочек и опрокинул стоящую на полу пустую бутылку. Мерлин, сколько ему ещё здесь сидеть и сходить с ума? Впрочем, нет, канун праздника выдался ещё паршивей, чем мог бы. Сплошная чёрная полоса, тянущаяся с Рождества: Ремус под вечер отправился куда-то страдать, посеревшую, мрачную Тонкс выдернули посреди ночи на какое-то кровавое побоище в Сохо, да и разговор с крестником никак не шёл у Сириуса из головы.
Подумать только, он вчера вломился к этой розовой потаскухе Амбридж, чтобы связаться с ним через камин, едва не попался, но… да, по-другому парень просто не мог. Совсем как они когда-то. Ну что ж, вот и поностальгировали, вспомнили школьные времена. К такому разговору Сириус готов не был; и ладно бы ещё с глазу на глаз… Дружище Ремус, конечно, потом впал в ничтожество, да и самого Сириуса ситуация мерзко, с подвыванием, царапала изнутри.
А кто во всём виноват? Конечно же, Нюниус. Откуда в одном человеке столько дерьма? Зачем, ну зачем было выливать на Гарри все эти старые дрязги сейчас? Так хотелось на Джиме вновь оттоптаться? Что уж не сходил тогда на могиле у него поплясать? Стыдно смотреть в глаза тем, кто по его вине там лежит? А может он раз в год и пляшет… цветные пятна, плывущие перед глазами, сложились в узнаваемый силуэт, и Сириус тяжело тряхнул головой, чувствуя, как под крышкою черепа головная боль медленно вращает свои шестерёнки.
Нет, ну вот же скользкий ублюдок! Будто он просто так забыл Омут Памяти на столе: знал же, отлично знал, чем всё это кончится… И знал ведь, что выбирать — не наткнулся же Гарри на его грязные пошлые маленькие секретики или, скажем, на то, как он в плаще и маске кроваво и весело развлекался со своими дружками. Не хотел бы — убрал Омут в шкаф, спрятал в свои личные комнаты — куда угодно! Слил бы эти воспоминания в ночной горшок, где им, по сути, и место.
На Гарри было больно вчера смотреть — на него и так столько всего навалилось, теперь вот и это ещё. К тому же, занятия окллюменцией накрылись задницей гриндилоу. А ведь Сириус сразу понял, что толку от них не будет! Как будто Нюниус мог упустить возможность за всё отыграться на Гарри — за них, за свою пустую никчёмную жизнь, за то, что он сальный озлобленный неудачник…
Сириус накинул халат, и, поднявшись, поплёлся в ванную. Где же, где великий и мудрый Альбус Дамблдор, когда он так нужен?! Старик появлялся нечасто, выглядел озабоченно, но только лишь нагонял тумана, и Сириус никак не мог до конца понять, что у него на уме. Наверняка серьёзных причин хватало, но делиться ими Альбус как-то ни с кем не спешил, и Сириус буквально варился в томительном ожидании и тревоге, но не мог дать должного выхода злости, копившееся в нём. Нужно было сидеть и чего-то ждать, убивая ненавистное ему время, когда ему хотелось что-нибудь делать, как-то помочь. Не важно, чем — главное, выбраться из осточертевшего ему уже дома, где он был заперт с полоумным домовиком и матушкиным портретом. Скоро он сам окончательно съедет с катушек и будет шататься по коридорам, таскать запрятанные по всем углам пыльные безделушки и бормотать проклятья себе под нос.
Сколько же тут осталось ещё этого тёмномагического фамильного барахла? Вот и вчера, уже поздней ночью, когда площадь за окнами утонула в тумане, таком густом, что в нём затерялись даже тусклые рыжие фонари, Сириус как раз возвращался с чердака, запоздало покормив отчего-то беспокойного Клювокрыла — и поймал это старое чучело на горячем. Тот как раз перепрятывал свои сомнительные сокровища, как-то умудрившиеся пережить затеянную Молли уборку и не попасть в загребущие лапы Флетчера, который умудрялся тащить всё, что плохо лежало, просто в силу привычки. И вот посмотрите-ка: целый, завёрнутый в кружевную салфетку узел — если бы Кричер мог, наверняка вцепился бы своими костлявыми пальцами, ему, своему ненавистному хозяину, прямо в горло. Наверное, Сириус был бы этому даже рад — хоть какое-то разнообразие.
Впрочем, вместо Кричера Сириусу за попранные устои семьи отомстила кусачая табакерка: тяпнула за его палец, прокусив до крови, и тот до сих пор едва ощутимо ныл, хотя ранку Сириус залечил почти сразу. Мерзкая такая вещица — потемневшее серебро и эмаль на крышке: миленькие такие поганки. Сириус подцепил крышку ногтем, и это закончилось для него облаком зловонной и мелкой, как пудра, пыли, которую табакерка выклюнула прямо ему в лицо. И Сириус, конечно же, надышался дрянью, воняющей смесью солодки, тухлого лука, забродившего в тумбочке апельсина и ещё каких-то приторных до удушливости цветов. Эта пыль мигом въедалась в кожу и волосы, заставляя всё тело неприятно чесаться, от неё слезились глаза, и, сумев наконец прокашляться, Сириус в бешенстве зарычал на сгорбившегося домашнего эльфа:
— Видеть больше это всё не хочу! Слушай меня, старый ты идиот. Это приказ, и ты, мать мерлинова, не посмеешь его нарушить. Чтоб к утру и духу не было всей этой пакости, которую ты запрятал по всему дому. Ни единой поганой вещицы. Ни е-ди-ной! — повторил он Кричеру по слогам. — Избавься, выкини, утопи, сожги, да хоть отправь всё к этой твоей ненаглядной хозяйке Цисси! Пусть Малфои со всей этой рухлядью разбираются — можешь перекинуть им её прямо через забор, только чтобы здесь её больше не было! Иначе… — Что «иначе», Сириус не придумал, однако в тот момент он был всерьёз готов спалить этот дом вместе со всем его гнилым содержимым, и даже в сердцах схватился за палочку.
Кричер, почуяв всю нешуточностью этой угрозы, покаянно опустил сморщенные, покрытые редкими волосами уши, бормотание его стало тише, и, кажется, даже слёзы потекли у него из глаз, но Сириусу было решительно наплевать на его страдания. Ну вот, конечно, начал о Регулусе вспоминать… Сириусу вдруг стало тогда так тоскливо, что он, сплюнув, двинул прямо к отцу в кабинет, где прятал запас огневиски. Скверного огневиски — учитывая, как у него сейчас пульсирует в голове, и ноет каждая мышца в теле.
Сириус выполз из спальни и понял, что что-то вокруг него изменилось. Словно воздухом стало легче дышать, и к его аромату примешивалось что-то такое… неуловимо цветочное. А ещё коридор казался Сириусу слегка опустевшим, что ли… или нет… нет, не опустевшим, но… да, точно: на стене больше не висел тот унылый пейзаж с дартмурскими болотами. Вот и славно… ещё бы так в висках не стучало. Хотя чему он удивляется — все твердят одно и то же, как заведённые: надо меньше налегать на спиртное, словно это кого-то вообще касается! Как будто это они просыпаются от кошмаров, душащих по ночам, и собственных хриплых криков.
До ванной он добрался с трудом, но горячий душ сделал своё целебное дело, и Сириусу полегчало, хотя голова всё равно оставалась тяжёлой, а ноги — ватными. Но мысли в башке потекли быстрей. Бодроперцовое, что ли, выпить? И нужно позавтракать — или сейчас уже ланч? Ладно, главное — закинуть в себя еду, а потом за дело.
Эта мысль зародилась ещё вчера, когда Сириус, отмывшись от едкой дряни, уже лежал у себя, снова и снова прокручивая разговор с крестником в голове. Он разглядывал, держа на вытянутой руке, старую колдографию, с которой ему махали Лили и Джим, обнимая годовалого Гарри, и в груди привычно щемило. Сириус сделал глоток отдающего дымом виски: Мерлин, мрачно осознавал он, у Гарри совсем никого не осталось. Никого, кто мог бы и должен был за ним присмотреть. Только он. Так сколько он ещё он будет отмахиваться от очевидного? Гарри не мог положиться ни на кого, кроме своих друзей, но ведь даже о Сириусе всегда было кому позаботиться, так почему, почему он сам всё ещё тут сидит? Просто сидит и не делает ничего, когда может! Да нет, просто обязан — Джиму, Лили, крестнику… и самому себе.
Словно что-то открыло ему глаза в тот момент, и Сириус подорвался с постели, начав перетряхивать собственные конспекты и книги, которые вместе с письмами принёс в этот дом. Решение он уже принял, и не собирался в него никого посвящать. В конце концов, это его семейное дело. Нюниус, видите ли, обиделся? Забросил доверенное ему Альбусом обучение — а ведь то, чтобы Гарри научился защищать собственное сознание, было жизненно важно для всех. Значит, они справятся без него. О, Сириус прекрасно помнил, как это, когда какие-то твари влезают в голову — и вот так запросто оставить Гарри с этим наедине?
Нет уж, увольте. Когда-то Альбус учил всех их сам, и они как-то эту науку освоили. Ну, уж как могли — а значит как-то и с Гарри они разберутся. Вдвоём. В конце концов, это, в сущности, вопрос концентрации — ничего такого, с чем бы они не справились и без Снейпа. Как вообще можно учиться защите разума у того, кому ты не можешь верить и доверять?
Толковых книг у Сириуса, конечно же, не было — они наверняка где-то в недрах фамильной библиотеки, которую нужно было ещё отыскать. Но у него остались их собственные наработки, книги из кабинета отца и заметки от дядюшки Альфарда. Всё то, что он чудом сумел сохранить и забрать. Хватило его тогда всего на пару часов, к тому же, бутылка к тому моменту уже опустела, но сейчас он был намерен продолжить со свежею головой. Такой вот у него Майский день, светлый праздник. И впервые за долгое время, Сириус порадовался, что сегодня все будут заняты, и он не ждёт у себя никаких гостей. Даже к шалостям требовалась серьёзная подготовка.
Ближе к вечеру, уже понимая, что лучше, чем мог, подготовиться он уже просто не сможет, Сириус махнул на свои разрозненные заметки рукой, и, вынув сквозное зеркало, потёр ободок, молясь, что Гарри его услышит. И когда в зеркале появились сперва рука и зажатый в ней чистый носок, сменившийся затем удивлённым и обрадованным лицом Гарри, Сириус шумно выдохнул, испытав странное облегчение. Даже голова, кажется, у него прошла! А ведь он-то не зря начал подозревать, что если вчера дело дошло до камина, то зеркало валяется где-нибудь на дне сундука, и судя по выражению лица крестника, того тоже настигло вдруг запоздалое откровение и он хлопнул себя носками по лбу. Да малыш, так оно и бывает.
Встретиться они договорились в той самой пещерке неподалёку от школы, где когда-то прятался Сириус. Часов в семь он аппарировал на окраину Хогсмида, обернулся чёрным псом и потрусил вперёд, стараясь держаться от дороги подальше. Мало ли… Нет, конечно, вряд ли кто-то заинтересуется бродячей собакой — это же не Кигнс-Кросс — но… кто знает. Он не мог позволить кому-нибудь вмешаться в их с крестником планы: только не сейчас. Они должны поговорить! И объясниться. Объясниться, а ещё решить что-то с его окклюменцией. И раз уж Нюниус эту важную миссию провалил — пусть кто-то попробует заявить, что Сириус ведёт себя безответственно или отсиживается за чужими спинами.
В вечернем воздухе оглушительно пахло весной, и Сириус, прогуливаясь у входа в пещеру в томительном ожидании, сумел слегка успокоиться и почти придумал, как начнёт разговор и что скажет — но когда услышал недалеко от себя шаги, а потом и приглушённый голос Гарри:
— Бродяга, ты здесь? — у него разом всё вылетело из головы он, и просто ответил:
— Здесь, Гарри. Свои своих не бросают.
А потом Гарри буквально влетел в его объятья, и они долго стояли так, молча и замерев.
— Снейп... — наконец, виновато уронил Гарри, слегка отстранившись. И вид у него стал такой взъерошенный и несчастный, что Сириус хрипло ответил:
— В пекло Нюниуса, — в горле першило, и он откашлялся. — Гарри, я паршивый крёстный, я знаю, но я сделаю, что могу, — Сириус зарылся пальцами в волосы, и они показались ему какими-то грязными. Хотя он же мылся не так давно… — Мы с твоим отцом всегда прикрывали друг друга. И, Мордред меня дери, — добавил он преувеличенно весело, потому что видеть расстроенное лицо Гарри было совершенно невыносимо, — если четыре балбеса сумели стать анимагами, то гореть мне в аду, если я не обучу своего крестника окклюменции. Как уж умею. Если умные, сильные и умелые не могут и не хотят, — добавил он едко.
— Ты правда умеешь? — удивлённо спросил Гарри, и Сириус хмыкнул:
— Я, конечно, не ношу мантии великого менталиста, как некоторые — но раз он такой трепетный и ранимый, будем обходиться тем, что имеем. Лунатик справился бы с этим получше, но… Придётся твоему крёстному тряхнуть стариной и научить тебя паре трюков, — он подмигнул Гарри, и тот, оглядевшись, поинтересовался немного нервно:
— Где?
— Ну, пещера-то у нас уже есть, — ответил Сириус. — А вот дементоров, как ты видишь, в округе не наблюдается... Буду мотаться туда-сюда... — нехорошо, если меня хватятся на Гриммо. Криков-то будет… И не вздумай сказать, что это опасно — иначе я обращусь в Бродягу и буду долго трепать тебя за штаны, — отмёл Сириус все возможные возражения. — Средство связи у нас уже есть. Метлу, как вижу, ты тоже смог одолжить, а я буду аппарировать прямиком на место. Но, сам понимаешь, это наш с тобою секрет. А там уже скоро каникулы.
— Вот именно, — вздохнул Гарри.
— Так здорово же! — удивился Сириус. — Ты в Лондоне, и я… мы что же, места не с тобой найдём? Да и вообще, — добавил он, отмечая, насколько Гарри выглядел усталым и бледным, — нет, я понимаю, что тебе придётся зависнуть у этих твоих кхм… добрых Дурслей...
— Дамблдор говорит, что так надо, — несколько неуверенно вздохнул Гарри, с надеждой глядя ему в глаза.
— Ну, с Дамблдором никто, конечно, не спорит, но тебе же не обязательно сидеть и смотреть на постные физиономии своей родни целым днями, — Сириус ухмыльнулся. — Нужно же в твоём возрасте выбираться куда-нибудь погулять. Ну, знаешь, девчонки, компания, музыка… — Гарри слегка покраснел, и Сириус снова ему подмигнул и добавил уже серьёзней: — Но мы с тобой это потом решим. А сейчас давай начнём, что ли?
…Домой Сириус вернулся, когда уже было совсем темно, довольным, но ужасно вымотанным. И лёг спать, махнув рукою на ужин: есть ему совсем не хотелось. Может, он простыл? Да, вероятно, так. Ну и ещё перенапрягся он с непривычки — он же сто лет не аппарировал так далеко, и в голову никому влезть не пытался. Это же не ступефаями в портреты кидаться. Вот теперь его и накрыло… и во рту сухо совсем… Отоспится, а завтра будет уже новый день, и они с Гарри увидятся снова — должен же быть и с потрепанного бродячего пса какой-то толк…
* * *
Май тысяча девятьсот девяносто шестого остался в истории Волшебной Британии благодаря самой крупной вспышке обсыпного лишая в двадцатом веке. Первоначальная она была зафиксирована на территории школы чародейства и волшебства Хогвартс, и, несмотря на жёсткие условия карантина, через две недели заболевшие появились уже в деревушке Хогсмид, а затем и по всей Волшебной Британии.
Деловая жизнь оказалась парализована практически на всё лето, и только благодаря героическим усилиям колдомедиков удалось избежать серьёзных жертв, однако болезнь всё же собрала свою мрачную жатву: скончалась на своём посту исполняющая обязанности директора Долорес Амбридж, а имена не переживших лето учащихся и жителей Хогсмида навсегда остались выбиты на скромном гранитном мемориале и черные ленты украсили рукава многих простых волшебников. Не обошлось и без трагических смертей среди сотрудников Министерства, брошенных на борьбу с болезнью, а также доблестных целителей и медиковедьм из госпиталя Святого Мунго, стойко сражавшихся за каждую жизнь. Мы помним их и скорбим.
И могли ли мы в тот момент знать, что внезапная эпидемия, обрушившаяся на наши головы в мае, была лишь первым звеном странной и необъяснимой цепочки событий, которой отметился девяносто шестой. Пожалуй, он стал поворотным в нашей истории: мы многое обрели, многое потеряли, и теперь, спустя практически четверть века, должны извлечь уроки из нашей истории. Поразмыслить над своими ошибками, и ещё раз вспомнить о тех, кто сумел не растеряться в сложный для нашей страны момент. Ведь истинная победа заключается в том, чтобы в первую очередь победить самого себя; преодолеть мешающие нам ясно мыслить предубеждения и пересилить страхи. Так и только так мы способны отыскать выход в самых тяжёлых, опасных, и неожиданных обстоятельствах.
Все вместе.
Из книги историка и исследователя, кавалера Ордена Мерлина третей степени, Маркуса Эйвери «Загадки и потрясения мрачного девяносто шестого года».
Эксетер, 2018 г.
P.S. Эпилог и первая версия этой истории были задуманы и написаны в 2018, и мы даже представить себе не могли, чем для нас всех обернётся маленький тихий бунт одной-единственной ведьмы, и какого джина она выпустит из бутылки.






|
Alteyaавтор
|
|
|
Bobrbobr
Правильно.) 1 |
|
|
miledinecromantавтор
|
|
|
Bobrbobr
Да да, вот в чем проблема когда много взрослых людей мается в заперти ) 4 |
|
|
Bobrbobr
Очень жалко их всех. Ну Цисси и Люциус абсолютно искренне уверены, что у них была ночь (и, надеюсь, не разуверится). Гектор...ну, допустим, сообразит, скорее всего ничего не скажет - он изображён достаточно...вежливым для того, чтобы такого не сделать. Всё же абсолютная глупость, скорее всего, с летальным исходом (и крёстный расстроится, и Нарцисса расстроится, а их расстраивать он не захочет).1 |
|
|
Alteyaавтор
|
|
|
Навия
Ну почему сразу с летальным. Там ведь как пойдёт и кто кого. ) 1 |
|
|
5 |
|
|
Alteyaавтор
|
|
|
1 |
|
|
miledinecromantавтор
|
|
|
Alteya
Навия А потом догонит и ещё добавит!А, эта может... Ишь, повадились один пить, другой обкурившись в окна лазить! Они тут приличный дом или что! 5 |
|
|
Alteyaавтор
|
|
|
miledinecromant
Alteya Да вообще! И не говорите!А потом догонит и ещё добавит! Ишь, повадились один пить, другой обкурившись в окна лазить! Они тут приличный дом или что! И эта шобла тут вообще поселилась! 1 |
|
|
Alteya
miledinecromant Ей же нельзя волноваться!.. И вообще, зато девочка будет…Да вообще! И не говорите! И эта шобла тут вообще поселилась! 1 |
|
|
Alteyaавтор
|
|
|
Merkator
Alteya Ничего, она Блэк. Ей можно. )Ей же нельзя волноваться!.. И вообще, зато девочка будет… 1 |
|
|
Alteya
Merkator В смысле "волноваться"? Волнуются пусть _папаши_. Рука у госпожи Малфой-Блэк должна быть тяжёлая, а две движущиеся мишени - интереснее, чем одна.Ничего, она Блэк. Ей можно. ) В конце-концов, есть много нелетальных, но очень интересных проклятий. 2 |
|
|
Alteyaавтор
|
|
|
Навия
Alteya И она их знает!В смысле "волноваться"? Волнуются пусть _папаши_. Рука у госпожи Малфой-Блэк должна быть тяжёлая, а две движущиеся мишени - интереснее, чем одна. В конце-концов, есть много нелетальных, но очень интересных проклятий. 1 |
|
|
2 |
|
|
Alteyaавтор
|
|
|
2 |
|
|
Навия
Alteya Но там же целый Темный лорд временами пробегает! Пусть расколдовывает)А целители - не факт! |
|
|
Merkator
Навия А он вообще по этому делу? Кажется, он в основном по "проклясть"...Но там же целый Темный лорд временами пробегает! Пусть расколдовывает) А Нарциссу проклинать нельзя. Не очень понятно, Малфой ребёнок или Трэверс, но наполовину точно Блэк. Нарцисса, опять же... Все сильно расстроятся, а вменяемый в этой компании только Малфой...кхм... 2 |
|
|
Ну вот как верные слуги понадобятся, так и расколдует)
|
|
|
Merkator
Ну вот как верные слуги понадобятся, так и расколдует) Мне кажется, Тёмный Лорд не уверен, что ему нужен Трэверс. Вообще. В прошлом тоже.По поводу Малфоя его тоже, возможно, посещают сомнения. 3 |
|
|
Какой молодец Сириус))
1 |
|
|
Alteyaавтор
|
|
|
1 |
|
|
↓ Содержание ↓
↑ Свернуть ↑
|