
|
11 лет на сайте
8 февраля 2024 |

|
10 лет на сайте
8 февраля 2023 |

|
100 подписчиков
24 января 2023 |

|
9 лет на сайте
8 февраля 2022 |

|
8 лет на сайте
8 февраля 2021 |
|
#даты #литература #длиннопост
Мне представляется, что на мир, в котором мы живем, можно смотреть без отвращения только потому, что есть красота, которую человек время от времени создает из хаоса. Картины, музыка, книги, которые он пишет, жизнь, которую ему удается прожить. Еще один январский юбилей: 150 лет Сомерсету Моэму.Будущий писатель родился в семье юриста британского посольства во Франции. Его родным языком был французский. Семи лет от роду мальчик потерял мать, а еще через три года — и отца. Его отослали к родственникам в Англию, где он оказался на попечении дяди-пастора, человека эгоистичного и ограниченного. В школе над ним смеялись из-за французского акцента, заикания… Моэм рос болезненным и замкнутым ребенком. Показать полностью
 7 717 Показать 5 комментариев |
|
#даты #литература
Нет, лучше начать не так. В XVIII веке в Лондоне жил-был один литератор средней руки, по совместительству приторговывавший картинами: литература — ремесло неверное и не особо хлебное. Звали его Уильям, а фамилию немного придержу: нужна же мне какая-то интрига! Его сын, Уильям-младший, унаследовал от отца не только имя, но и увлечение живописью. Только он стал уже не просто знатоком, а известным по английским масштабам художником. Его излюбленные сюжеты — пейзажи и сентиментальные жанровые сценки в «предвикторианском» вкусе, большей частью из сельского быта. Вот такие: Бездомный котенок Счастлив, как король На пшеничном поле Продавец вишен Раннее утро  Показать полностью
 6 628 Показать 2 комментария |
|
#даты #литература #поэзия #цитаты #длиннопост
150 лет со дня рождения Валерия Брюсова Есть в Москве Брюсов переулок. Как известно, назван он в честь графа Якова Вилимовича Брюса, одного из «птенцов гнезда Петрова» — генерал-фельдмаршала, дипломата, инженера и ученого, чей предок происходил из древнего шотландского рода и переселился в Россию в середине XVII века, после утраты Шотландией независимости. В народе Яков Вилимович имел репутацию чернокнижника («колдун на Сухаревой башне»). У Брюса, само собой, были крепостные крестьяне — «Брюсовы». Одному из носителей этой фамилии в 1850-х годах удалось мелочной торговлей собрать достаточно деньжонок и выкупиться на волю. Кузьма Брюсов до конца своих дней был полуграмотен. Его сын Яков (родившийся тоже крепостным, но «доросший» до купеческого звания) — уже человек довольно образованный, поклонник Некрасова и Чернышевского, убежденный демократ и дарвинист. А сын Якова — Валерий Брюсов — окончил историко-филологический факультет Московского университета и стал выдающимся эрудитом. Брюсов прожил всего 50 лет — но любой словарь выдаст примерно такую его характеристику: «поэт, прозаик, драматург, переводчик, журналист, редактор, литературовед, литературный критик и историк; теоретик и один из основоположников русского символизма». В юности он сказал: «Я хочу жить так, чтобы в истории всеобщей литературы обо мне было две строчки. И они будут!» Энергичный, деятельный характер этого человека сочетался с амбициозностью и страстной жаждой знания: Свободно владея (кроме русского) языками латинским и французским, я знаю настолько, чтобы читать без словаря, языки: древнегреческий, немецкий, английский, итальянский; с некоторым трудом могу читать по-испански и по-шведски; имею понятие о языках: санскритском, польском, чешском, болгарском, сербском. Заглядывал в грамматики языков: древнееврейского, древнеегипетского, арабского, древнеперсидского и японского. Характерное выражение — «научный оккультизм». Чисто брюсовская черта: даже в спиритизме (который был тогда в моде) его притягивало внешнее сходство с экспериментальной наукой. Недаром любимым предметом Брюсова в юности была математика.В чем я специалист? 1) Современная русская поэзия. 2) Пушкин и его эпоха. Тютчев. 3) Отчасти вся история русской литературы. 4) Современная французская поэзия. 5) Отчасти французский романтизм. 6) XVI век. 7) Научный оккультизм. Спиритизм. 8) Данте; его время. 9) Позднейшая эпоха римской литературы. 10) Эстетика и философия искусства. Но, Боже мой! Как жалок этот горделивый перечень сравнительно с тем, чего я не знаю. Весь мир политических наук, все очарование наук естественных, физика и химия с их новыми поразительными горизонтами, все изучение жизни на земле, зоология, ботаника, соблазны прикладной механики, истинное знание истории искусств, целые миры, о которых я едва наслышан, древность Египта, Индия, государство Майев, мифическая Атлантида, современный Восток с его удивительной жизнью, медицина, познание самого себя и умозрения новых философов, о которых я узнаю из вторых, из третьих рук. Если бы мне жить сто жизней — они не насытили бы всей жажды познания, которая сжигает меня! В библиотеке Брюсова насчитывалось около 5000 томов. Из них:• 200 томов энциклопедических и прочих словарей и грамматик • 241 том — античный отдел • 224 — Пушкин и литература о нем • 330 — прочие русские классики и литературоведение в целом • 1135 — писатели эпохи символизма • 676 — французская литература • 129 — английская • 93 — немецкая • 66 — итальянская • 80 — армянская • 220 — искусство • 143 — философия • 43 — история религии • 64 — математика • 47 — естествознание • 233 — альманахи, русские и зарубежные • 1018 — журналы В одной из своих статей Брюсов сделал тонкое замечание о пушкинском Сальери: он не завистник — от Моцарта Сальери отличает иной склад художественного дарования, которое исходит не от наитий, а от выстроенного алгоритма («поверить алгеброй гармонию»). Статья называлась «Пушкин и Баратынский» — они, по мнению Брюсова, были характернейшими представителями этих двух типов. И себя он тоже относил к «сальерианцам». Такой необычный для поэта рационалистический и одновременно экстенсивный склад мышления не мог не дать довольно любопытных результатов. Здесь пролегает черта, отделяющая Брюсова от Блока, «старших» символистов» от «младших». Младшие шли вглубь. Старшие — и Брюсов прежде всего — раскидывались вширь. Поэтический мир его в большей степени внешний, чем внутренний. Это своего рода музей с галереей экспонатов: пейзажи, портреты, памятники искусства, исторические события, верования, идеи, «мгновения»… Брюсов жаден — он не желает оставить что-либо непознанным и невоспетым: Мой дух не изнемог во мгле противоречий, Хотел того Брюсов или нет, последняя строчка выглядит как признание внутреннего холода: под покровом кипучей активности, внешне бурных эмоций — трезвый взгляд регистратора и аналитика.Не обессилел ум в сцепленьях роковых. Я все мечты люблю, мне дороги все речи, И всем богам я посвящаю стих… Я посещал сады Лицеев, Академий, На воске отмечал реченья мудрецов, Как верный ученик, я был ласкаем всеми, Но сам любил лишь сочетанья слов. Стремление к всеохватности отражается даже в названиях поэтических сборников и циклов Брюсова, где в тех или иных формах вылезает множественное число — плюс отсутствие ложной скромности: Juvenilia (Юношеское), Chefs d’oeuvre (Шедевры), Me eum esse (Это я), Tertia vigilia (Третья стража), Urbi et Orbi (Миру и Городу — формула Папы!), Stephanos (Венок), Все напевы, Зеркало теней, Семь цветов радуги, Девятая камена, Последние мечты, В такие дни, Миг, Дали, Меа (Спеши)… Брюсов мечтал запечатлеть в циклах «Сны человечества» все формы культурного сознания и все типы мышления. Даже сборник его работ о русских поэтах был озаглавлен так, чтобы объять всё и вся: «Далекие и близкие». И вышло так, что человеку с подобным складом мышления довелось стать провозвестником и лидером русского символизма — причем вовсе не по причине почившего на нем благословения музы или тому подобных таинственных феноменов, а вследствие целенаправленного решения. Преклоняясь перед Пушкиным, Брюсов тем не менее считал, что новая эпоха нуждается в новом языке: «Что если бы я вздумал на гомеровском языке писать трактат по спектральному анализу?» В 20 лет он записал в своем дневнике: Талант, даже гений, честно дадут только медленный успех, если дадут его. Это мало! Мне мало. Надо выбрать иное… Найти путеводную звезду в тумане. И я вижу ее: это декадентство. Да! Что ни говорить, ложно ли оно. смешно ли, но оно идет вперед, развивается, и будущее будет принадлежать ему, особенно когда оно найдет достойного вождя. А этим вождем буду я! Сказано — сделано. Через год вышел первый сборник его стихов. Затем — лет десять насмешек и возмущения критиков. И только потом пришло признание.Парадокс заключался в том, что пророком и вождем символистов стал поэт, по своей натуре и характеру дарования меньше всего склонный к символизму. О чем речь, можно увидеть на примере одного из самых известных брюсовских стихотворений: Тень несозданных созданий Стихотворение названо «Творчество». Сколько глубокомысленных интерпретаций на его основе было построено, какие проникновения в глубочайшие творческие тайны виделись критикам за этими строчками! Колыхается во сне, Словно лопасти латаний На эмалевой стене. Фиолетовые руки На эмалевой стене Полусонно чертят звуки В звонко-звучной тишине. И прозрачные киоски В звонко-звучной тишине Вырастают, словно блестки, При лазоревой луне. Всходит месяц обнаженный При лазоревой луне… Звуки реют полусонно, Звуки ластятся ко мне. Тайны созданных созданий С лаской ластятся ко мне, И трепещет тень латаний На эмалевой стене. А из противоположного лагеря неслись обвинения в отсутствии здравого смысла. Владимир Соловьев ехидничал: Обнаженному месяцу восходить при лазоревой луне не только неприлично, но и вовсе невозможно, так как месяц и луна суть только два названия для одного и того же предмета. Между тем основа у стихотворения самая тривиально-биографическая. Поэт задремал вечером у печки. Загадочное слово «латания» означает пальму (в данном случае комнатную), а эмалевая стена — это печные изразцы, в которых отражаются пальмовые листья-лопасти: их тени похожи на «фиолетовые руки». Месяц тоже отражается на изразцах в виде «лазоревой луны» — вот оно, возмутившее Соловьева удвоение небесного светила.Короче, никаких символических шарад Брюсов тут не стремился загадывать: он просто образно описал состояние полусна-полуяви, пробуждающее художественное воображение. (Другое дело, что поэтический текст сам по себе является структурой смыслопорождающей…) В плане критических придирок особенно прославилось брюсовское одностишие: «О, закрой свои бледные ноги!» Критик язвительно замечал, что хотя бы это стихотворение имеет несомненный и ясный смысл: Для полной ясности следовало бы, пожалуй, прибавить: „ибо иначе простудишься“, но и без этого совет г. Брюсова, обращенный, очевидно, к особе, страдающей малокровием, есть самое осмысленное произведение всей символической литературы. Нападки Соловьева, однако, привлекли к начинающему поэту внимание публики. И понеслось…Но хотя сам Брюсов был символистом весьма сомнительным, теорию символизма он разработал, попутно разгромив оппонентов. Сторонников доктрины «гражданственности» в искусстве (Некрасов и К°) он сравнил с мальчиком Томом из «Принца и нищего», который колол орехи государственной печатью Англии. «Чистое искусство» (Фет и К°), по мнению Брюсова, предлагает любоваться блеском этой печати; а филология и вовсе подменяет вопрос о предназначении искусства вопросом о генезисе и составе, как если бы ту же печать разложили в алхимическом тигеле. Подлинный смысл искусства, по заявлению Брюсова, — в интуитивном откровении тайн бытия. Между тем этому требованию, по сути, отвечало только творчество «младших символистов» во главе с Блоком, которые — еще один парадокс! — вдохновлялись прежде всего философией и поэзией того самого Соловьева, что так жестоко раскритиковал Брюсова. А вот в лирике Брюсова, как и его сподвижника Бальмонта, никаких особенных «тайн бытия» не наблюдается: символ стал для них только средством словесного искусства. Стихи Брюсова пластичны и скульптурны. Он любит меру, число, чертеж; он интеллектуален и даже рассудочен. По оценке А.Белого, при всей своей тематической пестроте Брюсов неизменен: он лишь проводит свое творчество сквозь строй все новых и новых технических завоеваний. «Он только отделывал свой материал, и этот материал — всегда мрамор». Знавшим Брюсова людям неизменно приходило на ум сравнение с магом. Стройный, гибкий, как хлыст, брюнет в черном сюртуке, со скрещенными на груди руками (типичная его поза), скульптурной лепки лицо, насупленные брови и гипнотические черные глаза… Однако «черный маг», увлекавшийся изучением оккультизма, потомок крепостных «колдуна с Сухаревой башни», сам ни во что иррациональное не верил. В одной из своих заметок он так высказался по этому поводу: В одном знакомом мне семействе к прислуге приехал погостить из деревни ее сын, мальчик лет шести. Вернувшись в деревню, он рассказывал: «Господа-то (те, у кого служила его мать) живут очень небогато: всей скотины у них – собака да кошка!» Мальчик не мог себе представить иного богатства, как выражающегося в обладании коровами и лошадьми. Этого деревенского мальчика напоминают мне критики-мистики, когда с горестью говорят о «духовной» бедности тех, кто не религиозен, не обладает верой в божество и таинства. Интересно, что неспособность к религиозно-мистическим переживаниям сочеталась у Брюсова с нелюбовью к музыке (хотя он свободно читал ноты и умел играть на фортепиано). В этом отношении Брюсов являлся полной противоположностью Александра Блока, в чьих глазах мир был исполнен тайных значений и сакральных смыслов, а музыка становилась способом их постижения. Они двое представляли собой своего рода ИНЬ и ЯН русской поэзии.Лирические герои Брюсова многочисленны и многолики — и это тоже отличает его от Блока (да и от большинства лириков). Но почти всегда это Сильная Личность. В этот же ряд попадает и романтически-отстраненный Поэт — «юноша бледный со взором горящим». Но чаще всего брюсовские гимны Сверхличности вдохновляются легендами. Вот — скифы, вот — халдейский пастух, познавший ход небесных светил; вот в пустыне иероглифы, гласящие о победах Рамзеса; вот Александр Великий, называющий себя сыном бога Аммона; вот Клеопатра и Антоний, Старый Викинг, Дон-Жуан, Мария Стюарт, Наполеон, Данте в Венеции… Оживают герои мифов: Деметра, Орфей и Эвридика, Медея, Тезей и Ариадна, Ахиллес у алтаря, Орфей и аргонавты… Не только сюжет, но само торжественное звучание чеканного стиха создает образы, похожие на медальные профили (недоброжелатели сравнивали брюсовские стихи с паноптикумом восковых фигур): Я — вождь земных царей и царь, Ассаргадон. Склонность поэта к перевоплощению распространялась не только на героев истории. У него есть стихотворения, написанные «от лица» очень неожиданных персонажей: Владыки и вожди, вам говорю я: горе! Едва я принял власть, на нас восстал Сидон. Сидон я ниспроверг и камни бросил в море… «Я — мотылек ночной…» «Я — мумия, мертвая мумия…» «Мы — электрические светы» (именно так, во множественном числе!) «Зимние дымы» («Хорошо нам, вольным дымам…») — и т. д. Эта страсть к метаморфозам предопределила и увлечение переводами. По обилию блестящих переводов Брюсова можно поставить рядом только с Жуковским. Особенно ему удавались переводы с французского, прежде всего — Эмиль Верхарн. Поэта зачаровывает дыхание истории, доносящееся из темной пропасти веков: Где океан, век за веком, стучась о граниты, Для брюсовских супергероев органичны экзотичные декорации: египетские пирамиды, леса криптомерий, безумные баядерки, идолы острова Пасхи…Тайны свои разглашает в задумчивом гуле, Высится остров, давно моряками забытый, — Ultima Thule. Другая тема Брюсова созвучна Бодлеру и Верхарну: мрачная поэзия современного города, его суета, резкие контрасты, электрический свет и кружение ночных теней. …Она прошла и опьянила От этой «Прохожей» Брюсова тянутся нити к блоковской «Незнакомке». Еще до Блока открыл он и тему «страшного мира». Брюсов — певец цивилизации — любил порядок, меру и строй, но был околдован хаосом, разрушением и гибелью. Ощущение близкой опасности вызывало к жизни образы, похожие на смутные, тревожные сны:Томящим запахом духов, И быстрым взором оттенила Возможность невозможных снов. Сквозь уличный железный грохот, И пьян от синего огня, Я вдруг заслышал жадный хохот, И змеи оплели меня. Мы бродим в неконченом здании Поэма «Конь блед» с эпиграфом из Апокалипсиса ведет к пугающей мысли: для современного человечества, завороженного дьявольским наваждением города, нет ни смерти, ни воскресения. Сама ритмика стихотворения производит впечатление грузной механической силы:По шатким, дрожащим лесам, В каком-то тупом ожидании, Не веря вечерним часам. Нам страшны размеры громадные Безвестной растущей тюрьмы. Над безднами, жалкие, жадные, Стоим, зачарованы, мы… Улица была — как буря. Толпы проходили, Если сюда ворвется сам всадник-Смерть, водоворот приостановится лишь на мгновенье: потом нахлынут новые толпы… Безумному кружению призраков суждена дурная бесконечность.Словно их преследовал неотвратимый Рок. Мчались омнибусы, кэбы и автомобили, Был неисчерпаем яростный людской поток… Брюсов стал, возможно, величайшим экспериментатором в области техники русского стиха, использовавшим все возможные формы ритмики и открывшим новые («надобно так уметь писать, чтобы ваши стихи гипнотизировали читателя...»). И тот же импульс к универсальности — в жанрах. Перед читателем, как на параде, проходят элегии, буколики, оды, песни, баллады, думы, послания, картины, эпос, сонеты, терцины, секстины, октавы, рондо, газеллы, триолеты, дифирамбы, акростихи, романтические поэмы, антологии… Как известно, стихотворные размеры в целом делятся на двухсложные и трехсложные. Хотя стопы большей «мерности» тоже существуют, о них обычно не вспоминают. Просто потому, что даже в русском языке трудно найти столько длинных слов, чтобы обеспечить такие размеры. Брюсову — не трудно! Например, пеон — четырехсложный размер. В зависимости от того, на какой слог падает ударение, он бывает четырех типов, которые называются просто по номеру ударного слога. В стихотворении «Фонарики» использован «пеон-второй». Вот несколько строк: Столетия — фонарики! о, сколько вас во тьме, Пеон-третий:На прочной нити времени, протянутой в уме! Огни многообразные, вы тешите мой взгляд... То яркие, то тусклые фонарики горят. Век Данте — блеск таинственный, зловеще золотой... Лазурное сияние, о Леонардо, — твой!.. Большая лампа Лютера — луч, устремленный вниз... Две маленькие звездочки, век суетных маркиз... Сноп молний — Революция! За ним громадный шар, О ты! век девятнадцатый, беспламенный пожар!.. Застонали, зазвенели золотые веретёна, Вообще-то многосложные размеры для нашей поэзии достаточно органичны, но устойчиво связаны с фольклорной традицией — из-за малого числа ударений строчки приобретают характерную распевность. Например, пентон — и вовсе пятисложный размер: ударение стабильно приходится на третий слог из пяти. У А.К.Толстого:В опьяняющем сплетеньи упоительного звона… Кабы зна́ла я, кабы ве́дала, Еще один значимый момент — клаузула (ритмическое окончание). Это число слогов за последним ударным гласным в строчке. Бывают клаузулы мужские (ударение на последний слог в строчке) — например, рифмы «любовь / кровь». Клаузулы женские (на предпоследний) — «время / племя». Дактилические (на третий от конца) — «народное / свободное». И даже гипердактилические (на четвертый): «рябиновые / рубиновые».Не смотре́ла бы из око́шечка Я на мо́лодца разуда́лого, Как он е́хал по нашей у́лице… Для Брюсова не проблема забраться и подальше. Вот начало стихотворения, где ударение приходится на пятый от конца слог: Холод, тело тайно ско́вывающий, Брюсов издал целую книгу — «Опыты по метрике и ритмике, по эвфонии и созвучиям, по строфике и формам». Например, стихотворение, где наблюдается последовательное, через каждые 2 строчки, уменьшение клаузулы — от 6-сложной к нулевой — начинается строчками:Холод, душу очаро́вывающий… От луны лучи протя́гиваются, К сердцу иглами притра́гиваются… Ветки, темным балдахином све́шивающиеся, Другая разновидность игры с метром — разностопность. Пример строфы, где первая строчка — это 3-стопный анапест, вторая — 4-стопный, третья — 5-стопный, 4-я — опять 4-стопный:Шумы речки, с дальней песней сме́шивающиеся… Вся дрожа, я стою на подъезде А тут через строчку чередуются разные размеры: дактиль и амфибрахий. В стиховедении этот редко встречающийся фокус называется «трехсложник с вариациями анакруз»:Перед дверью, куда я вошла накануне, И в печальные строфы слагаются буквы созвездий. О туманные ночи в палящем июне! В мире широком, в море шумящем Нередко Брюсов использует эффект цезуры: в середине строки возникает пауза за счет пропуска одного слога. Ниже — строфа из стихотворения, написанного ямбом, где в каждой строчке аж по 3 цезуры (отмечены значком /):Мы — гребень встающей волны. Странно и сладко жить настоящим, Предчувствием песни полны. Туман осенний / струится грустно / над серой далью / нагих полей, Так же активно работает Брюсов и с фонетикой стиха: аллитерации, ассонансы (повторяющиеся согласные и гласные) — все виды созвучий, которые создают дополнительную гипнотическую напевность. В данном случае это повторы А, Ю и ТА:И сумрак тусклый, / спускаясь с неба, / над миром виснет / все тяжелей, Туман осенний / струится грустно / над серой далью / в немой тиши, И сумрак тусклый / как будто виснет / над темным миром / моей души. Ранняя осень любви умирающей. Ритмические изыски сочетаются с фонетическими:Тайно люблю золотые цвета Осени ранней, любви умирающей. Ветви прозрачны, аллея пуста, В сини бледнеющей, веющей, тающей Странная тишь, красота, чистота… Близ медлительного Нила, / там, где озеро Мерида, / в царстве пламенного Ра, В этом стихотворении использован пеон-третий; двойная цезура сочетается с тройной внутренней рифмой: -ИЛА / -ИДА / -РА; а строфы (из трех строчек) укорачиваются в конце.Ты давно меня любила, / как Озириса Изида, / друг, царица и сестра! И клонила / пирамида / тень на наши вечера… Технические навыки Брюсов усовершенствовал до степени невероятной. Поэт В.Шершеневич вспоминал, что как-то послал ему акростих, в подражание латинскому поэту Авсонию, где можно было прочесть «Валерию Брюсову» по диагоналям и «от автора» — по вертикали. Адресат немедленно ответил стихотворением, в котором по двум диагоналям можно было прочесть «Подражать Авсонию уже мастерство», а по вертикалям — «Вадиму Шершеневичу от Валерия Брюсова». Почему он растрачивал столько сил на подобные ученические опыты? В «Сонете к форме» Брюсов изложил свое кредо: безупречная форма — единственный способ существования для произведения искусства: Есть тонкие властительные связи И сама индивидуальность поэта, по утверждению Брюсова, выражается не в чувствах и мыслях, представленных в его стихах, а в приемах творчества, в любимых образах, метафорах, размерах и рифмах. Не случайно Блок в дарственной надписи на своем сборнике назвал Брюсова «законодателем и кормщиком русского стиха».Меж контуром и запахом цветка. Так бриллиант невидим нам, пока Под гранями не оживет в алмазе. Так образы изменчивых фантазий, Бегущие, как в небе облака, Окаменев, живут потом века В отточенной и завершенной фразе... Еще одна часть наследия Брюсова — проза. Здесь вовсю развернулась его страсть к необычному — археология, экзотика и фантастика. Рассказ «Республика Южного Креста» — антиутопия, написанная еще до замятинского «Мы». Звездный город на Южном полюсе отделен от внешнего мира громадной крышей, всегда освещенной электричеством. В этом разумном муравейнике возникает вдруг эпидемия — мания противоречия. Люди начинают делать противоположное тому, что они хотят. Картины гибели, озверения, массового безумия — традиции Жюля Верна и Уэллса сочетаются здесь с Эдгаром По. Брюсов стремился пересадить на отечественную почву приемы иностранной беллетристики: на него сыпались упреки в дурном вкусе, болезненном декадентском эротизме в духе Лиль-Адана и Бодлера (сборник рассказов «Земная ось»)… Его влекла идея взаимопроникновения иллюзии и действительности, порождающая фантастические метаморфозы во внутреннем мире человека: Нет определенной границы между миром реальным и воображаемым, между „сном“ и „явью“, „жизнью“ и „фантазией“. То, что мы считаем воображаемым, — может быть высшая реальность мира, а всеми признанная реальность — может быть самый страшный бред. Отличительная особенность брюсовской прозы — сочетание рассудочности и иррациональности, логики и абсурда, местами смутно напоминающее будущие «культурологические детективы» Умберто Эко.Роман «Огненный Ангел был встречен критикой с холодным недоумением: ни под один из существовавших в русской литературе жанров он не подходил. Для исторического романа он был слишком фантастичным, для психологического — слишком неправдоподобным. Содержание романа автор исхитрился втиснуть в «полное название», стилизованное под старинную манеру синопсисов: „Огненный Ангел“, или правдивая повесть, в которой рассказывается о дьяволе, не раз являвшемся в образе светлого духа одной девушке и соблазнившем ее на разные греховные поступки, о богопротивных занятиях магией, гоетейей и некромантией, о суде над оной девушкой под председательством его преподобия архиепископа Трирского, а также о встречах и беседах с рыцарем и трижды доктором Агриппою из Неттесгейма и доктором Фаустом, записанная очевидцем. По затейливости роман напоминает одновременно «Эликсиры сатаны» Гофмана и «Саламбо» Флобера. Запутанный авантюрный сюжет, приключения и мистика соединяются в нем с педантической «научностью» и многочисленными примечаниями: Брюсов не впустую хвалился, что сведущ в оккультных науках. Они служат созданию глубины и вносят ноту иронического остранения. Пересказ «Огненного ангела» может создать иллюзию (но только иллюзию!), будто это роман «вальтерскоттовского» типа. Кельн, XVI век. Главный герой Рупрехт, гуманист и воин, возвращается из Америки, где провел пять лет. На дороге, в одинокой гостинице, он знакомится с красавицей Ренатой. Когда Рената была ребенком, к ней явился огненный ангел Мадиэль и обещал вернуться снова в человеческом образе. И через несколько лет появился белокурый граф Генрих фон Оттергейм, который увез Ренату в свой замок. Но вскоре Генрих исчез, а Ренату стали терзать злые духи. Рупрехт становится спутником Ренаты в поисках графа Генриха; со временем девушка проникается к Генриху жгучей ненавистью и требует от Рупрехта, чтобы он за нее отомстил. Под ее влиянием герой начинает заниматься магией (тут и сцены полета на шабаш, и вызов дьявола, и книги по демонологии). Затем в сюжет врываются Агриппа Неттесгеймский, а также доктор Фауст и Мефистофель… Роман подсвечен неслабыми психологическими амбициями. В натуре Ренаты воспаленное воображение, мистицизм, вырастающий из сознания греховности и жажды искупления, бесплодное стремление к святости и неутолимая потребность в любви превращены в патологические симптомы. На этом примере иллюстрируется феномен истерии средневековых ведьм. Вдобавок этот закрученный сюжет наложен на реальный «любовный треугольник» из биографии автора, где роль Рупрехта досталась самому Брюсову, а Ренатой и графом Генрихом стали поэтесса Нина Петровская и писатель-символист Андрей Белый. (Любовные истории, как правило трагические, тянулись за Брюсовым всю его недлинную жизнь, будто в нем действительно было что-то «роковое».) За «Огненным ангелом» последовал роман из римской жизни — «Алтарь Победы», впрочем, тоже не имевший успеха. Традиционно поэты тяготели к греческой культуре в противовес «великодержавным» варварам-римлянам, а вот Брюсова живо интересовали именно римляне. Он сам признавался, что существуют миры, для него внутренне закрытые, — прежде всего мир Библии; что ему близка Ассирия, но не Египет, а Греция интересна «лишь постольку, поскольку она отразилась в Риме». Хотя Брюсова и влекла психология людей «рубежа», поэт М.Волошин в своих воспоминаниях отмечал, что ему был чужд изысканный эстетизм и утонченный вкус культур изнеженных и слабеющих: «В этом отношении никто дальше, чем он, не стоит от идеи декаданса»… Это наблюдение подтвердилось. Добившись всеобщего признания как лидер русского символизма, Брюсов без сожаления оставил эту роль, объявив, что периоды «порывов» и «революций» в сфере творчества — только база для обновления классического академизма. Ему было скучно стоять на месте — даже на месте вождя бунтарей: Брюсов рвался вперед, жадно хватаясь за все новое. Так, например, в 1916 году он увлекся армянской культурой, за полгода выучил язык и проглотил огромное количество книг по теме, читал лекции в Тифлисе, Баку, Эривани… Результатом стал выход антологии «Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней», составленной из переводов крупнейших русских поэтов, которых Брюсов привлек к работе (в том числе, разумеется, и переводов самого Брюсова), под его же редакцией. «Поэзия Армении…» и до сего дня считается эталоном жанра и переиздается в неизменном составе. Не удивительно, что Брюсов с его жаждой постоянного обновления жизни оказался среди тех немногих, кто после революции сразу признал советскую власть. Также не удивительно, что его поступок объясняли с самых разных точек зрения, в диапазоне от «понял и принял» до «продался». Неуязвимой для сомнений остается только причина, указанная самим поэтом: «Что бы нас ни ожидало в будущем, мы должны пронести свет нашей национальной культуры сквозь эти бури…». Он сделал все, что смог, — за оставшиеся ему несколько лет. Заведовал отделом научных библиотек Наркомпроса, Московской Книжной палатой, организовал и возглавил Литературный отдел при Наркомпросе, а затем — Высший литературно-художественный институт, который в обиходе называли «Брюсовским»: на его базе позднее был создан современный Литературный институт им. Горького. Огромные силы Брюсов вложил в чтение лекций, в труды по пушкинистике и по технике стиха, издательскую и редакторскую работу... И, конечно, он продолжал писать стихи, где все явственнее проступала «научная» тема: «электроплуг, электротраллер — чудовища грядущих дней», мир атомов и электронов, мечты о космических полетах… Наука нового века была близка Брюсову пафосом завоеваний, демонстрацией бесконечного богатства мира. Он сгорел быстро — в 50 лет. И оставил после себя очень много. Добрая четверть наследия Брюсова не издана еще и сегодня, кое-что опубликовано спустя десятки лет после его смерти. (Так случилось, например, с трагедией «Диктатор», написанной в 1921 году, — она была отклонена как идеологически ложная: «в социалистическом государстве не может быть почвы для появления диктатора». Пьеса вышла в свет только с началом перестройки.) Крупнейший русский стиховед, М.Л.Гаспаров, писал о Брюсове: Его можно не перечитывать, его можно осуждать за холодность и сухость, ему можно предпочитать Блока, Маяковского, Есенина, Пастернака... Но нельзя не признавать, что без Брюсова русская поэзия не имела бы ни Блока, ни Пастернака, ни даже Есенина и Маяковского — или же имела бы их неузнаваемо иными. Миновать школу Брюсова было невозможно ни для кого. Героем собственных стихов — и известного врубелевского портрета — предстает Брюсов в строках своего пожизненного друга и соперника Андрея Белого: У ног веков нестройный рокот, катясь, бунтует в вечном сне. И голос ваш — орлиный клекот — растет в холодной вышине. В венце огня, — над царством скуки, над временем вознесены, — застывший маг, сложивший руки, пророк безвременной весны. Свернуть сообщение Показать полностью
21 Показать 6 комментариев |
|
#даты #литература #длиннопост
100 лет со дня рождения Итало Кальвино. 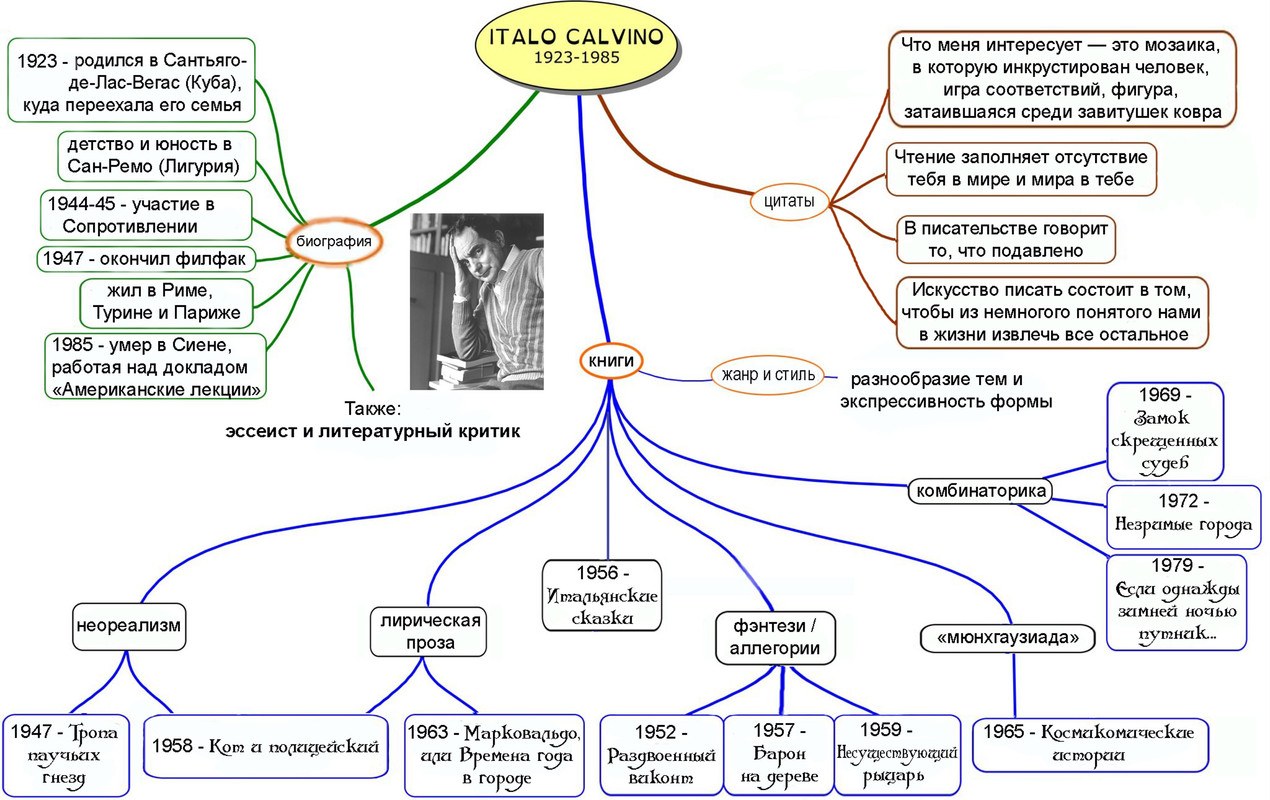 Вероятно, будущий писатель вообще не появился бы на свет, если бы его отец в свое время не влип в неприятную историю, связанную с русским революционным движением. Агроном и ботаник Марио Кальвино был убежденным анархистом. В 1907 году Марио снабдил своим паспортом русского эсера-террориста Всеволода Лебединцева, с которым познакомился в Риме. Менее чем через год Лебединцева арестовали в Петербурге по обвинению в покушении на министра юстиции, предали военному суду и повесили. (Под именем Вернера этот человек выведен в знаменитом «Рассказе о семи повешенных» Леонида Андреева.) Показать полностью
 10 1010 |
|
#даты #старое_кино
В этом году сразу три столетних юбилея у людей, которых имеет смысл вспомнить вместе. Тем более что они и работали вместе. И были важной частью феномена под названием «советская комедия». Народный артист СССР Леонид Гайдай (30 января 1923 — 19 ноября 1993) Леонид Гайдай родился в Амурской губернии, куда еще до революции был отправлен в ссылку его отец — член эсеровской организации. Все трое сегодняшних юбиляров — из поколения школьного выпуска 21 июня 1941 года. Леонид воевал в разведке, в 1943 году был тяжело ранен и после длительного лечения в госпитале признан инвалидом II группы. Кавалер Ордена Отечественной войны I степени и медали «За боевые заслуги» (потом, конечно, был еще ряд штатских наград). После войны Гайдай учился в театральной студии в Иркутске, затем окончил ВГИК — и в итоге стал сценаристом и режиссером, снявшим — согласно проведенному в 1995 году опросу зрителей — лучшие отечественные комедии. Показать полностью
 4 442 Показать 3 комментария |
|
#даты #литература #поэзия
100 лет со дня рождения польской поэтессы: ВИСЛАВА ШИМБОРСКА (2.07.1923 – 1.02.2012) — лауреат Нобелевской премии по литературе 1996 года, с формулировкой: «За поэзию, которая с предельной точностью описывает исторические и биологические явления в контексте человеческой реальности». Ниже — три характерных стихотворения Шимборской (верлибры). Перевод с польского Н.Астафьевой. 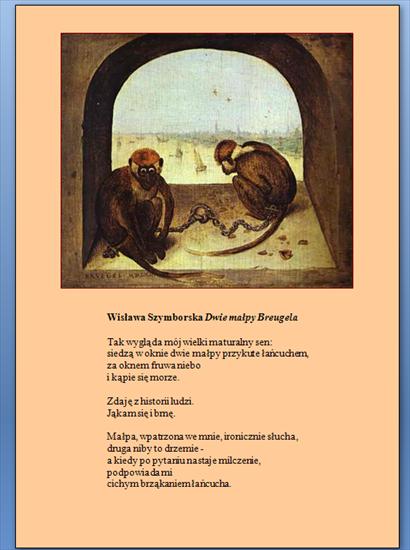 ДВЕ ОБЕЗЬЯНЫ БРЕЙГЕЛЯ Таков мой вечный экзаменационный сон: в окне сидят две обезьяны, скованные цепью, а за окном плещется море и порхает небо. Сдаю историю людей. Плету и заикаюсь. Глядит с иронией одна из обезьян, другая как бы спит в оцепененье; когда же на вопрос молчу, замявшись, я, она подсказывает мне Показать полностью
13 Показать 2 комментария |
|
#литература #театр #даты #длиннопост
200 лет со дня рождения А.Н.Островского Год назад был 400-летний юбилей другого великого драматурга — Мольера. За два столетия на смену образам-типам пришли образы-характеры. Давно подсчитано, что в 47 оригинальных пьесах Островского действуют 728 персонажей. Они образуют целый мир, своеобразную «человеческую комедию» по Островскому. Ниже — некоторые из них. «Свои люди — сочтемся!» Подхалюзин Это делец новейшей формации, идущей на смену старому поколению: он уже не питает смехотворных предрассудков насчет того, что «своих» надувать и подставлять грешно. Показать полностью
 12 1222 Показать 8 комментариев |
|
#даты #кино и не очень #старое_кино #аниме
Сегодня отмечает 50-летний юбилей режиссер Макото Синкай! Вот честно, не отслеживала специально. Но недавно в блогах shinikamy_L упомянула это имя. Дай, думаю, посмотрю. А то ничего у него не смотрела, а говорят — «второй Миядзаки». Посмотрела. Нет, это не второй Миядзаки, а первый Синкай. Вот и славно. Зачем мне второй Миядзаки, когда есть первый? А потом взгляд случайно зацепился на страничке «Кинопоиска» за строчку: «Родился 9 февраля 1973 года»... Общее у них, впрочем, нашлось: красивейшее техническое исполнение и сюжет со смыслом. Темы тоже, пожалуй, найдутся общие: в первую очередь взросление. Но реализовано это иначе. У Макото Синкая меньше фантастики и больше обычных будней. А главный предмет внимания — чувства. Еще целый набор любимых образов, без которых ну просто никуда. Показать полностью
 10 1020 Показать 9 комментариев |
|
#даты #литература #писательство #цитаты
150 лет со дня рождения Михаила Пришвина. Первостепенное имя в ряду русских авторов-«натуралистов» — таких, как С.Т.Аксаков, В.Арсеньев, И.Соколов-Микитов, К.Паустовский, В.Бианки, Н.Сладков, В.Песков… Человек, который сказал: «Нет, никогда в лесу не бывает пусто, и если кажется пусто — это ты сам виноват». Практически всё, что он написал, выросло из заметок, дневниковых записей — опавших листьев, как называл этот жанр публицист и философ Василий Розанов, некогда учитель географии в той самой гимназии, где Пришвин учился. (Кстати, Розанов же его из гимназии и выставил: не сложились, мягко говоря, отношения. Спустя много лет, когда Прищвин был уже известным автором, Розанов сделал полуизвиняющееся замечание в том смысле, что, мол, только на пользу пошло. А Пришвин… нет, сына он в честь Розанова называть не стал, а подарил ему свою книгу с отчасти уважительной и отчасти ехидной надписью: «Незабываемому учителю и почитаемому писателю».) Пришвин родился в 1873 и умер в 1954 году: даты говорят за себя сами. В 1916 году он записал в дневнике: Я был свидетелем двух героических эпох русской жизни: революции и войны с немцами. Интересно, с какими чувствами он перечитывал эту запись в 1917-м и в 1941-45?Короткая, но очень емкая запись — пожелание на новый (1927) год: Желаю, чтобы год обошелся без войны; чтобы заплакать от радости при чтении какой-нибудь новой прекрасной книги. Насчет «заплакать» не настаиваю, но вообще-то — мне тоже, тоже вот этого заверните, пожалуйста! да побольше, чтоб с запасом…Уже в 1914 году в пришвинском дневнике мелькнула фраза: Революция — это месть за мечту. А за 4 месяца до Октября он записал следующий короткий разговор:На мой тяжелый вопрос отвечал социалист-революционер: «Что вы хотите от социализма, если христианство столько времени не могут люди понять?» Пришвин был среди тех интеллигентов, кого вдохновила Февральская революция, но привела в ужас Октябрьская:Можно теперь сказать так: старая государственная власть была делом зверя во имя Божие, новая власть является делом того же зверя во имя Человека. Насилие над обществом совершается в одинаковой мере, только меняются принципы, имена: на скрижалях было написано слово „Бог“, теперь „Человек“. Однако Россию писатель так и не покинул. И когда прошел первый шок, попытался осмыслить случившееся — и свои чувства по этому поводу:~*~*~*~ В среду будет съезд советов, новое издевательство над волей народа. Хотя тоже надо помнить, что представительство всюду было издевательством над волей народа, и нам это бьет в глаза только потому, что совершился слишком резкий переход от понимания власти как истекающей из божественных недр до власти, покупаемой ложными обещаниями и ничего не стоящими бумажками, которые печатаются в любом количестве. ~*~*~*~ Высшая нравственность — это жертва своей личностью в пользу коллектива. Высшая безнравственность — это когда коллектив жертвует личностью в пользу себя самого, коллектива (например, смерть Сократа, не говоря о Христе). «Несть бо власти, аще от Бога» нужно понимать не так, что всякая власть от Бога, а что истинная власть может происходить лишь от Бога; или что отношения людей между собою определяются отношением их к Богу. Со временем Пришвин дошел до мысли, что и нонконформизм, и принципиальность могут принимать разные формы — и сложно сказать, какая из них по-человечески более ценная:~*~*~*~ …сначала душа возмущается и восстает, оскорбленная, против зла, но после нескольких холостых залпов как бы осекается и, беспомощная, с ворчанием цепляется за будни, за жизнь… Кто больше: учительница Платонова, которая не вошла в партию и, выдержав борьбу, осталась сама собой, или Надежда Ивановна, которая вошла в партию и своим гуманным влиянием удержала ячейку коммунистов от глупостей? Может быть, именно присущая натуралисту сосредоточенность на наблюдениях за годовым кругом и прочими природными циклами привела его к этому образу «вращения» мира?~*~*~*~ Вот какое новое, какое огромное открытие: мир вовсе не движется вперед куда-то к какому-то добру и счастью, как думал… Мир вовсе не по рельсам идет, а вращается… И, значит, наше назначение не определять вперед от себя, а присмотреться ко всему и согласовать себя со всем. С годами он научился видеть за конкретными фигурами и событиями безликие исторические силы: Коммунистов вообще нельзя ни любить, ни не любить. Тут необходимость действует, и если ты лично ставишь себя против, то и попадешь в положение спорящего с репродуктором. Впрочем, сама действительность менялась еще быстрее, чем отношение к ней: ~*~*~*~ …они победили, как ветер, устремленный в опустевшее место... ~*~*~*~ Романтиками называются такие идеалисты, которые идеальный — любимый свой мир считают не только желанным, а единственным действительным… Вы говорите, я поправел, там говорят, я полевел, а я как верстовой столб, давно стою на месте и не дивлюсь на проезжающих пьяных или безумных, которым кажется, будто сама земля под ними бежит. Отношения с новой властью со временем у Пришвина сложились не то чтобы хорошие, но взаимно терпимые. Несколько послереволюционных лет он перебивался чем пришлось — пахал, огородничал, работал библиотекарем, «шкрабом» (школьным работником); потом наконец вернулся к писательству. Хотя в плане тематики Пришвин всю жизнь тяготел к этнографии и природоописанию, неприятностей с цензурой избежать не получалось. В 1950 году он вскользь заметил:~*~*~*~ С удивлением заметил в себе «твердые» убеждения и немного испугался, спрашивая себя самого: что это, старость или склероз? Мне всегда казалось, что убеждения имеют только старики и сумасшедшие, а нормальные люди, если, бывает, и носят какие-то «убеждения», то их очень таят... И самое большое, казалось мне, может совестливый человек допустить в отношении другого, это высказывания предположительные: «Конечно, вы это знаете лучше меня, но вот как я об этом думаю...» И если серьезно говорить, то и правда: как это можно «стоять на своем», если всё так быстро проходит и меняется, и как воистину безнравственна логика этих убеждений в отношении ближнего. Политика сейчас — это как религия в прежнее время. Особенно трудно ему пришлось с двумя романами: полуавтобиографической «Кашеевой цепью» — и с «Осударевой дорогой» (о восходящей к Петру I истории Беломорско-Балтийского канала). Слишком рискованные параллели и темы возникали при сопоставлении фигуры и дела Петра с его «наследником» Сталиным. В итоге целиком эти романы были изданы только после смерти обоих — и писателя, и вождя народов, — как, впрочем, и повесть-сказка «Корабельная чаща», и книга миниатюр «Глаза земли»…Несколько дневниковых замечаний об искусстве и творчестве: Люди современные — это те, кто господствуют над временем. О читателях и критиках:Так, например, Шекспир гораздо современнее нам, чем N, до того следящий за временем, что вчера он высказался положительно за пьесы без конфликтов, а сегодня услыхал что-то — и пишет за конфликт. ~*~*~*~ Моя родина не Елец, где я родился, не Петербург, где наладился жить, — то и другое для меня теперь археология; моя родина, непревзойденная в простой красоте и органически сочетавшейся с нею доброте и мудрости человеческой, — эта моя родина есть повесть Пушкина «Капитанская дочка». ~*~*~*~ Культура — это связь людей в пространстве и времени. ~*~*~*~ У человека, почти у каждого, есть своя сказка, и нужно не дела разбирать, а постигнуть эту самую сказку. ~*~*~*~ К сказкам, поэзии все относятся, как к чему-то несущественному, обслуживающему отдых человека. Но почему же в конце-то концов от всей жизни остаются одни только сказки, включая в это так называемую историю? ~*~*~*~ Способность писать без таланта называют мастерством. У мастера вещи делаются, у поэта рождаются. ~*~*~*~ Метод писания, выработанный мной, можно выразить так: я ищу в жизни видимой отражения или соответствия непонятной и невыразимой жизни моей собственной души. ~*~*~*~ Как ни вертись, а искусство, должно быть, всегда паразитирует на развалинах личной жизни. Но в этом и есть особенность подвига художника, что он побеждает личное несчастье. Весь «мираж» искусства, может быть, и состоит именно в этой славе победителя личного горя. ~*~*~*~ Что такое деталь? Это явление целого в частном. ~*~*~*~ Символ — это указательный палец образа в сторону смысла. Искусство художника состоит в том, чтобы образ сам своей рукой указывал, а не художник подставлял бы свой палец. ~*~*~*~ Спрашивать писателя о тайнах творчества, мне кажется, все равно что требовать от козла молока. Дело козла — полюбить козу, дело козы — давать молоко. Так и о творчестве: надо спрашивать жизнь, нужно самому жить… ~*~*~*~ Моя свободная с виду охотничья жизнь для многих молодых служит соблазном, и я часто получаю письма в таком роде: «Научите меня так устроиться, чтобы тоже, как вы, постоянно ездить, охотиться, писать сказки, чтобы такая свободная жизнь признавалась за большое, хорошее дело». Мой ответ на эти письма: «Есть такой час в жизни почти каждого человека, когда ему предоставляется возможность выбрать себе по шее хомут. Если такой час в собственной жизни вы пропустили, то прощайтесь навсегда со свободой, если же он у вас впереди, ждите его с трепетом и непременно воспользуйтесь. Наденете хомут сами на себя — и будете свободны, пропустите свой дорогой час – и на вас наденут хомут, какой придется. Свобода — это когда хомут хорошо приходится по шее, необходимость — когда он шею натирает. Успейте же выбрать себе хомут по шее и будете свободны так же, как я». Понимающих литературу так же мало, как понимающих музыку, но предметом литературы часто бывает жизнь, которой все интересуются, и потому читают и судят жизнь, воображая, что они судят литературу. А вот замечание по поводу Майн Рида. Кроме шуток, изрядный комплимент: ~*~*~*~ Толчок к творчеству: кто-то близкий отметит вашу мысль, любовно разовьет ее и вообще поддержит, душа окрыляется, внимание сосредоточивается на одном, и начинается работа. А когда давно написанное выходит из круга внимания, не интересует вовсе, то иногда приходит друг и хвалит, тогда хочется перечитать свою книгу, пережить ее еще раз. Так что в основе творчества лежат как бы две силы: Я и Ты. ~*~*~*~ В этом и есть очарование творчества: кажется, будто ты не один делал, а кто-то тебе помогал. ~*~*~*~ Очень часто и большие ценители ошибаются, приняв искусственность за искусство. Но когда к доброй оценке этого высокого ценителя присоединится восторг простеца — тогда почти безошибочно можно сказать, что создана подлинная вещь. ~*~*~*~ — А зачем нужно трудиться говорить образами и всякими догадками, если можно сказать простыми словами? На это мне ответили так: если скажешь, как все, то твоим словам не поверят и ответят: «Так все говорят». И тем самым говорят, что общие слова требуют подтверждения личного, что личность художника, все равно как печать на казенной бумаге, есть свидетельство правды. Вот и несет автор-баснописец свою околесину, пока читатель не догадается, и не вспомнит, и не найдет в себе то же самое, о чем говорил столько времени автор. Вот тогда можно и самому баснописцу повторить все свое сказанное простыми словами. ~*~*~*~ Сколько творческого времени нужно потратить, чтобы оборониться от теорий творчества, создаваемых ежедневно людьми, иногда ничего не создавшими и претендующими на руководящую роль литературой. Читал «Всадник без головы». Такая динамика в романе, что умный пожилой человек с величайшим волнением следит за судьбой дураков. Вот как надо романы писать!Про экранизации: Сценарий как будто очень хороший, но в нем один лишь недостаток — фильм получится ниже книги: это не творчество, а приспособление к кино. Литература и мораль:Этот психологизм мне напоминает фотографию, залезающую в живопись: портрет под Рембрандта, пейзаж под Левитана, — так точно жалко кино озвученное, залезающее в психологию Достоевского. Все и так, и не так: что-то вроде иллюстраций, существующих лишь потому, что существует основная вещь... Надо в кино, как и в фотографии, пользоваться их собственными средствами... И если там в этих ресурсах нет идей, то пусть лучше будет кино без идей, как американские фильмы, чем идеи эти будут доставаться из литературы. Мораль читать доставляет удовольствие очень большое, потому что, вычитывая, человек, в сущности, говорит о себе, и это очень приятно, и это есть своего рода творчество с обратным действием, т. е. не освобождающим, а угнетающим. Слушать мораль тяжело, мораль есть творчество бездарных людей. В заключение — маленький забавный эпизод из жизни, занесенный Пришвиным в дневник (5.01.1934). Он очень хорошо (на мой взгляд, прямо-таки символически) иллюстрирует уровень взаимопонимания между автором и эпохой. ~*~*~*~ Искусство обладает особенной силой, если выступает как искусство, невозможно искусство принудить быть моралью. И не думаю, что такое оскопленное искусство может помочь, и нужно ли такое искусство. ~*~*~*~ Красота на добро и не смотрит, но люди от нее становятся добрее. ~*~*~*~ Целиком вопросы жизни решаются только у мальчиков, мудрец их имеет в виду, а решает только частности. Мысли, они сами собой скажутся и запрячутся в образы так, что не всякий до них доберется. Кажется, эти образы складываются, уважая и призывая каждый человеческий ум, как большой, так и маленький: большому — так, маленькому — иначе. Если образ правдив, он всем понятен, и тем он и правдив, что для всех. ~*~*~*~ Претензия на учительство — это склероз великого искусства. Стучат в калитку. Я из форточки: Вообще-то логично: кого же и приглашать на курсы Куркрола, как не тов. Л.Атора?— Кто там? Тонкий женский или детский голосок: — Здесь живет литер... атор? Я переспросил: — Писатель Пришвин? Ответ: — Сейчас посмотрю. И, видимо, читает вслух по записке: — Комсомольская, 85, дом Пришвина, Литер Атор. Спускаюсь вниз, открываю калитку. Входит во двор здоровенная девица. — Вы Литер Атор? – спросила она. — Я сам. И она пригласила меня читать на вечере Куркрола при МТП. — Не знаю,– сказал я,– не понимаю даже, что значит Куркрол. — Товарищ Атор,– изумилась она,– как же так вы не знаете: Куркрол — это курсы кролиководства. Такие вот бывают недоразумения с этими сокращениями постоянно. Свернуть сообщение Показать полностью
23 Показать 12 комментариев |
|
#литература #даты #писательство #нам_не_дано_предугадать
275 лет назад (а точнее, 31 декабря 1747 года) родился немецкий поэт Готфрид Август Бюргер. Далеко от нас — во всех смыслах. И даже немцы едва ли назовут его в числе своих величайших поэтов. Но не обязательно быть величайшим, чтобы оставить след. Поднятая Бюргером литературная волна докатилась и до нашего «здесь и сейчас». Во-первых, балладой «Ленора», которую перевел Жуковский, сделав на ее основе еще две вариации: «Людмила» (1808) и «Светлана» (1813). В результате оба эти имени вошли в обиход, так что без Жуковского и его вдохновителя Бюргера современных Людмил и Светлан звали бы как-то иначе… А во-вторых, без Бюргера не было бы и всемирной славы барона Мюнхгаузена. Между тем знаменитый барон (лицо историческое) у восточных славян и прибалтов — практически свой человек! Уж не говоря о вдохновении, которое он пробудил у писателей. Показать полностью
 3 327 Показать 7 комментариев |
|
#даты #литература #длиннопост
100 лет назад в Индианаполисе, в семье американцев немецкого происхождения, родился Курт Воннегут — будущий автор 14 романов, полусотни рассказов, а также эссе, пьес и т. д. Здесь будут #цитаты в большом количестве. Такой уж Воннегут автор: его куда лучше цитировать, чем комментировать. Просто комментарии мало что могут прибавить к сказанному им. Как насмешливо замечал сам Воннегут, от критиков он узнал, что является автором научно-фантастической прозы, — хотя полагал, что пишет о том, что видел своими глазами. Впрочем, — добавлял он, — критики запихивают писателей в ящик с надписью «НФ», скорее всего, за знакомство с техникой. А потом используют этот ящик в качестве писсуара. Показать полностью
24 Показать 9 комментариев |
|
#даты #литература #длиннопост
125 лет назад родился Илья Ильф (Илья Арнольдович Файнзильбер). Он стал классиком из тех, которые никогда не попадают в школьные программы, но у читателей пользуются бóльшим успехом, чем те, кто туда попадает. Знаменитый писательский тандем журналиста Ильи Ильфа с его коллегой Евгением Петровым (Евгением Петровичем Катаевым) возник в 1927 году. Они на редкость удачно дополняли друг друга и одно время писали под общим псевдонимом: Ф.Толстоевский. Ильф шутил: Как мы пишем вдвоем? Вот как мы пишем вдвоем: «Был летний (зимний) день (вечер), когда молодой (уже немолодой) человек (-ая девушка) в светлой (темной) фетровой шляпе (шляпке) проходил (проезжала) по шумной (тихой) Мясницкой улице (Большой Ордынке)». Все-таки договориться можно. (Любопытно, что, несмотря на тесную дружбу, они неизменно обращались друг к другу на «вы», хотя и по имени…)Показать полностью
 2 239 Показать 20 комментариев из 34 |
|
#литература #театр #даты #длиннопост
400 лет со дня рождения Жан-Батиста Мольера. Художник типов, которые явились на смену маскам комедии дель арте и вышли за пределы сцены, завоевав литературу, а заодно и язык. У драматургов это получается особенно хорошо: взять хотя бы Фонвизина, Грибоедова, Гоголя, Островского… Недоросли, молчалины, хлестаковы, самодуры — давно уже понятия не столько литературные, сколько житейские. У Мольера их — целый букет. И самая-самая «великолепная семерка»: I. Арган — Ипохондрик «Мнимый больной» из одноименной комедии. Типаж на все времена: вспомним героев Джером Джерома, которые взялись читать медицинскую энциклопедию и нашли у себя всё, кроме родильной горячки. Если ипохондрику неможется, то, само собой, оттого, что в этом месяце он принял только 8 видов лекарств и сделал 12 клистиров, а ведь в прошлом было соответственно 12 и 20! Показать полностью
 7 723 Показать 5 комментариев |
|
#даты #литература #длиннопост
200 лет со дня рождения классика, чье имя стало синонимом перфекционизма: Гюстав Флобер. Эта черта в равной степени проявлялась в его отношении к фактам и к стилю — хотя, само собой, не будь у него за душой ничего другого, никто бы о нем сегодня не помнил. Флобер был реалистом, однако справедливо полагал, что суть этого метода не в копировании жизни, но в открытии ее смысла. А работа над содержанием есть работа над стилем: Точность мысли создает точность слова и сама является ею… Когда я обнаруживаю плохое созвучие или какое-либо повторение в моей фразе, я уверен, что пишу ложь. И он со страстью предавался правке текста. Рукопись романа «Госпожа Бовари» — это 1788 исправленных и переписанных страниц, а окончательный вариант — 487 страниц. «Воспитание чувств» автор писал 7 лет: все эти годы он изучал прессу 1847–1848 гг. (исторический фон романа): «Я утопаю в старых газетах…»…». Нередко написать удавалось только пару страниц за неделю. Из письма Жорж Санд: «…целых два дня бьюсь над одним абзацем, и ничего у меня не выходит. Иногда мне хочется плакать!»Такую же тщательность Флобер проявлял в «матчасти»: ходил в госпиталь увидеть больных дифтерией детей, выяснял, какое меню предлагали посетителям в Английском кафе в 1847 году... Пришлось переписать большой кусок текста, когда выяснилось, что в описываемый период между Парижем и Фонтенбло не существовало железнодорожного сообщения. Правда, все это, вместе взятое, не помешало ему допустить несколько ошибок: например, по хронологии событий можно высчитать, что беременность героини длится... полтора года! Что называется, за всем не углядишь... Традиционный роман заканчивается браком. Он развязывает все сюжетные узлы, и дальнейшее видится предсказуемым — счастливым или нет, но в любом случае малоинтересным. Этот взгляд в XIX веке пошатнули два писателя: Флобер и Лев Толстой. «Госпожа Бовари» писалась 5 лет. Пятилетний труд был продан журналу за 2000 франков (на современные деньги около 10 000 евро), из которых реально автор получил только 1300. Впрочем, в те времена писатели не были избалованы гонорарами. (Исключение — Виктор Гюго, получивший за «Отверженных» 350000 франков ≈ 1, 75 млн. евро.) Зато проблем Флобер огреб себе полной мерой — и немедленно. Разгорелся целый судебный процесс по обвинению в оскорблении общественной нравственности. Самая «непристойная» сцена книги описывала, как героиня садится в карету с молодым человеком и эта карета — с задернутыми занавесками — долго и без видимой цели кружит по городу. По блестящему выражению генерального прокурора — «тут ничего не описано, но все подразумевается!» (Как в том анекдоте: «Под одеждой они все равно голые!..») Три месяца спустя этот же господин был обвинителем на процессе Бодлера с его «Цветами Зла». Позже, к слову, выяснилось, что сам он писал непристойные поэмы. Флобера кое-как оправдали. Тем не менее заключительный вердикт содержал, среди прочего, такую заповедь: «…литература обязана сохранять чистоту и целомудрие». Золотые слова — особенно в контексте судебного постановления… Еще до того, как оформился замысел «Госпожи Бовари», Флобер обдумывал идею «Лексикона прописных истин» — подборки суждений и изречений, представляющей мнения, принятые в обществе, и афоризмы на все случаи жизни, которые позволяют говорящему выглядеть эрудированным и высоконравственным человеком: серия банальностей, «тупоумных изречений, невежественных суждений, вопиющих и чудовищных противоречий…». Выглядело это примерно так: Алмазы: — И подумать только, что это не что иное как уголь! У всего этого был общий знаменатель: пошлость. Архимед: — Произнося его имя, добавлять: «Эврика» и «Дайте мне точку опоры, и я подниму землю». Введение — Непристойное слово. Генрих III и Генрих IV— По поводу этих королей не преминуть сказать: «Все Генрихи были несчастны». Гобелен — Стоя перед гобеленом, воскликнуть: «Это прекраснее живописи!» Горизонт — Находить прекрасными горизонты в природе и мрачными — политические. Декарт — Cogito ergo sum. Диплом — Свидетельствует о знаниях. — Ничего не доказывает. Иллюзии — Делать вид, что их было много; сетовать на их утрату. Итальянцы — Все — музыканты и предатели. Лебедь — Перед смертью поет. Похороны — По поводу покойника: «Подумать только: ведь я всего неделю тому назад с ним обедал!» Севилья — Прославилась своим цирюльником. Университет — Alma mater. Холостяки — Готовят себе печальную старость. Эпоха (современная) — Ругать. — Жаловаться на отсутствие в ней поэзии. — Называть ее переходной, эпохой декаданса. «Мир цвета плесени» — так определил Флобер среду, в которой существует героиня «Эммы Бовари». Молоденькая провинциалка искала в этом мире чего-то «для души» — и нашла это в романах. Переполненных такой же пошлостью, только ярко раскрашенной: Там было все про любовь, там были одни только любовники, любовницы, преследуемые дамы, падающие без чувств в уединенных беседках, кучера, которых убивают на каждой станции, кони, которых загоняют на каждой странице, дремучие леса, сердечные тревоги, клятвы, рыдания, слезы и поцелуи, челны, озаренные лунным светом, соловьиное пение в рощах, герои, храбрые как львы, кроткие как агнцы, добродетельные донельзя, всегда безукоризненно одетые, слезоточивые как урны. И когда Эмма в итоге становится женой заурядного провинциального врача, ей оказывается не под силу справиться с разочарованием.Сюжет романа основан на реальной истории некой Дельфины Деламар (на ее памятнике под именем прибавлено: «мадам Бовари»). Но будь его темой банальная супружеская измена, едва ли автор имел бы основание изречь свою самую знаменитую фразу: «Эмма Бовари — это я!» Флобер написал не столько о супружеской неверности, сколько о том, как истинная, «прометеевская» тоска по красоте жизни, некогда томившая Гамлета, Фауста, Вертера, облекается в фальшивые формы. Герои Шекспира и Гёте были образованными людьми, способными к глубокой рефлексии (Гамлет так и вовсе стал ее символом), но Эмма не способна отчетливо выразить то, что ее тяготит. Поэтому в романе чаще говорит не героиня и даже не автор — несобственно-прямая речь передает не внутренний монолог, а сумму впечатлений: …ее жизнь холодна, как чердак со слуховым окошком на север, и тоска бессловесным пауком оплетала в тени паутиной все уголки ее сердца… Тоскующая героиня ждет подходящего актера на роль в том любовном спектакле, который уже давно сложился в ее сознании. Русскому читателю может вспомниться Татьяна Ларина, начитавшаяся «обманов Ричардсона и Руссо» («Ты лишь вошел — я вмиг узнала, / Вся обомлела, запылала…»). Впрочем, Эмма читала несколько иные романы: труба пониже, дым пожиже. Или погуще — как посмотреть:…Подобно морякам, потерпевшим крушение, она полным отчаяния взором окидывала свою одинокую жизнь и все смотрела, не мелькнет ли белый парус на мглистом горизонте… Он жил в голубой стране, где с балконов свисают, качаясь, шелковые лестницы, жил в запахе цветов, в лунном свете. Она чувствовала его близко, — сейчас он придет и всю ее возьмет в одном лобзании… Во французском литературоведении есть свои термины, аналогичные русским хлестаковщина, обломовщина. Один из таких терминов — боваризм: иллюзорное, искаженное представление человека о себе и своем месте в мире, склонность переселяться в воздушные замки. И хотя читательница, с головой утонувшая в «дамской прозе», — очень яркий пример такой ситуации, но далеко не единственный; вот почему Флобер утверждает, что в основном списал Эмму с себя самого.В попытках найти «красивую» любовь, Эмма заводит интрижку: сначала с Родольфом, потом, когда он тоже оказывается «не тем», — с Леоном… Своего рода пророчеством выглядит сцена любовного объяснения — она происходит на сельскохозяйственной выставке, и слова признания перебиваются выкриками председателя жюри: — ...думал ли я, что сегодня буду с вами? Усилия Эммы освободиться от вульгарности насквозь пропитаны той же вульгарностью. Она дарит возлюбленному саше с вышитым девизом, обменивается локонами и портретами, требует, чтобы он думал о ней ровно в полночь: ведь это так романтично! А мужчине это кажется просто смешным. В конце концов любовница с нелепыми претензиями окончательно наскучивает Родольфу, и он бодренько стряпает трогательное письмо с красивым прощанием. От него так и разит фальшью, но Родольф уверен, причем справедливо, что Эмма все проглотит — она привыкла питаться фальшивками:— «...семьдесят франков!» — Несколько раз я порывался уйти и все-таки пошел за вами, остался. — «За удобрение навозом...» — И теперь уже останусь и на вечер, и на завтра, и на остальное время, на всю жизнь! — «...господину Карону из Аргейля — золотая медаль!» — Я впервые сталкиваюсь с таким неотразимым очарованием... — «Господину Бену из Живри-Сен-Мартен...» — ...и память о вас я сохраню навеки. — «...за барана-мериноса...» — А вы меня забудете, я пройду мимо вас, словно тень. — «Господину Бело из Нотр-Дам...» — Но нет, что-то от меня должно же остаться в ваших помыслах, в вашей жизни? — «За породу свиней приз между господами Леэрисе и Кюлембуром: шестьдесят франков!» Крепитесь, Эмма! Крепитесь! Я не хочу быть несчастьем вашей жизни… Исписав в этом духе пару страниц, Родольф радуется удачному результату, но… чего-то недостает!…Знаете ли вы, ангел мой, в какую пропасть я увлек бы вас с собою? Нет, конечно! Доверчивая и безумная, вы шли вперед, веря в счастье, в будущее… О мы, несчастные! О безрассудные! …Одна мысль о грозящих вам бедствиях уже терзает меня, Эмма! Забудьте меня! О, зачем я вас узнал? Зачем вы так прекрасны? Я ли тому виной? О боже мой! Нет, нет, виновен только рок!.. «Это слово всегда производит эффект», — подумал он. «Бедняжка, — умилился он. — Она будет считать меня бесчувственным, как скала, надо бы здесь капнуть несколько слезинок, да не умею я плакать; чем же я виноват?» Эти слезы из стакана — истинная цена увлечения героини. Даже сменив Родольфа на Леона, она не обретет ничего иного. Любовник — как муж, второй любовник — как первый… И умирает несчастная Эмма, запутавшись в жалких расчетах и долгах за шляпки и тряпки. Даже в смерти пошлость ее не отпускает: последние минуты героини сопровождаются непристойной уличной песенкой слепца.И, налив в стакан воды, Родольф обмакнул палец и уронил с него на письмо крупную каплю, от которой чернила расплылись бледным пятном… Только после смерти Эммы, когда мы видим угасающего от горя мужа, который все ей простил, становится ясно, что та «настоящая любовь», которую она искала, всегда была рядом, но осталась незамеченной, потому что была облечена в невзрачную форму. И тут уже вспоминается не Татьяна Ларина и даже не Анна Каренина, а будущая чеховская «Попрыгунья». Только Ольга Ивановна, гонявшаяся за «выдающимися» людьми, прозевала такого человека в своем собственном муже; а в недотепе и неудачнике Шарле нет ничего выдающегося, кроме таланта любить и прощать. Общее между романом Флобера и рассказом Чехова — печаль, вызванная пониманием: люди часто не готовы прилагать собственные духовные усилия, чтобы разглядеть разлитую в мире красоту, — зато легко покупаются на кич, на броские дешевые штампы; они простодушно убеждены, что красота отлита в стандартные формы и готова к употреблению. Зато в мире «цвета плесени» благоденствуют те, кто готов составить часть этой плесени и принимает все как есть: аптекарь Омэ, не мечтавший ни о какой красоте, кроме ордена Почетного Легиона, — его он и получает в финале романа. Второй роман Флобера — мир ярких людей и страстей — составил резкий контраст с первым, и «цветовое настроение» его (выражение самого Флобера) отличается не менее резко. Если «Госпожа Бовари» — цвета плесени, то «Саламбо» — багрова. III век до нашей эры, Пунические войны, Карфаген и восстание наемных войск. Один из вождей варваров, Мато, похищает священную реликвию — покрывало богини Танит; Саламбо, дочь Гамилькара, отправляется в лагерь варваров за покрывалом… Флоберовское представление о карфагенянах выразил историк Жюль Мишле: «народ угрюмый и унылый, чувственный и алчный, склонный к риску, но лишенный героизма», да к тому же замороченный «свирепой религией, полной ужасающих обрядов» (образ, не подтвержденный позднейшими археологическими исследованиями). Чтобы писать, Флоберу всегда требовалось отчетливо представить себе место действия. За первые месяцы работы над романом он изучил все упоминания Карфагена у древних авторов и всю имеющуюся научную литературу, от «Полиоркетики» Юста Липсия до 400-страничной монографии о храмовых пирамидальных кипарисах. А после этого принялся читать все, что касалось других древних цивилизаций Средиземноморья. Но и этого ему было мало. Чувствую, что нахожусь на ложном пути и что персонажи мои должны говорить иначе. Немало честолюбия в желании войти в душу людей, когда эти люди жили более двух тысяч лет назад, причем цивилизация тех времен не имеет ничего общего с нашей. В 1858 г. Флобер отправился в Тунис, где убедился в ложности созданной им картины и сжег все уже сделанные наброски, чтобы начать все заново: «Карфаген надо целиком переделать или, вернее, написать сызнова. Я все уничтожил. Это было идиотство! Немыслимо! Фальшиво!»Созданный в итоге этих метаний и каторжных трудов опус можно было бы, по аналогии с романом Бальзака, назвать «Блеск и нищета перфекционизма». Это своего рода детище Франкенштейна, где совместились история, археология, эпос, эротический роман с элементами садизма и признаки зарождающегося символизма. Из-за этой мешанины «Саламбо» со своей серьезнейшей — на тот момент — научной базой больше всего смахивала, как ни странно, на… оперу. И Флобер тут же получил предложение адаптировать роман для театральной сцены, которое с негодованием отверг: «Хотят, чтобы известный мастер сделал вещь на скорую руку. Но погоня за наживой на почве искусства показалась мне недостойной моей натуры». Этот гордый отказ лишил писателя 30 тысяч франков, однако после его смерти роман все равно стал добычей либреттистов, породив балет и несколько опер — в том числе «Саламбо» Мусоргского (не закончена). Флобер предпринял попытку реконструировать историческую психологию, самосознание человека древней эпохи, еще не ощущающего себя личностью, не обособленного от природы. У такого персонажа отсутствует рефлексия: он просто не понимает, что с ним происходит. Физиологическое томление принимает форму религиозной экзальтации. Эротическое сопрягается с мистическим. В целом реакция на роман была неоднозначной. Рядовой читатель клюнул на экзотику и «пикантные» детали (впрочем, за границей книга отчего-то продавалась лучше, чем во Франции). Гюго и де Лиль восторгались. Сент-Бёв, несмотря ни на что, ставил под сомнение историческую добросовестность автора. Большинство же критиков считало, что Флобер погнался за славой историка и упустил главное — психологию героев. Бодлер коротко заметил: «Прекрасная книга, полная недостатков». А братья Гонкуры нашли роман «шедевром прилежания, и только»: Очень утомительны эти нескончаемые описания, подробнейшее перечисление каждой приметы каждого персонажа, тщательное, детальное выписывание костюмов. От этого страдает восприятие целого. Впечатление дробится и сосредотачивается на мелочах. За одеяниями не видно человеческих лиц, пейзаж заслоняет чувства… У романа были и есть свои поклонники — Флобер все же оставался Флобером. Но писатель, верный себе, уделил столько внимания локальному и историческому антуражу, что получил несколько «не тот» эффект. Публика увлеклась колоритом, и на какое-то время даже вошел в моду «карфагенский стиль», повлиявший, в частности, на покрой дамских платьев, — едва ли такой результат мог польстить гордости автора, подобного Флоберу. Роман как таковой оказался задвинут на задний план, как бы задавлен собственным материалом: этнографизм и бесстрастность описания потеснили сюжет и героев.И в своем третьем романе Флобер вернулся к современности. Его название переводят на русский как «Воспитание чувств», хотя оно имеет двойной смысл: «L'Éducation sentimentale» — одновременно и «формирование чувствительности», и «воспитание под действием чувств». Это история заурядного юноши как героя времени; у Бальзака в такой роли выступает Люсьен Рюбампре («Утраченные иллюзии»), у Диккенса — Пип («Большие ожидания»), а у Гончарова — Адуев («Обыкновенная история»). Хотя каждый из авторов, разумеется, расставил акценты по-своему. Все мечты и планы Фредерика Моро остаются мечтами: в отличие от того же Люсьена, он даже не пытается их реализовать, пассивно ждет: не сбудется ли? Эту хаотичность жизни, лишенной сознательного «вектора», отражает композиция романа: рассыпающийся сюжет, мелкие картины-кадры, перемены, которые ничего не меняют. Флобер употребляет прошедшее время несовершенного вида, словно заставляя главного героя застыть в состоянии полной неопределенности. Фредерик, за жизнью которого читатель следит на протяжении двадцати лет, с восемнадцатилетнего возраста до сорокалетия, плывет по течению — он все утратил и ничего не приобрел взамен. Даже его юношеское чувство к мадам Арну обернулось в итоге пшиком, и за спиной его тянется только цепь мелких житейских предательств. В финале, беседуя со старым приятелем, Фредерик вспоминает нелепый комический эпизод их ранней юности — неудавшийся поход в публичный дом — и приходит к неожиданному заключению: Они с величайшими подробностями припоминали это событие, и каждый пополнял то, что позабыл другой; а когда они кончили, Фредерик сказал: Это «лучшее», конечно, — не та глупая и полузабытая история, а чистота и юность, надежды на будущее, которые живут до той поры, пока не станет окончательно ясно, что будущее бесповоротно и окончательно стало унылым и однообразным настоящим.— Это лучшее, что было у нас в жизни! — Да, пожалуй! Лучшее, что было у нас в жизни! — согласился Делорье. Способность или неспособность героя адаптироваться к жизни «как она есть», преуспеть — эта способность получает неодинаковую оценку в разных литературах. Для литературы английской (речь о преобладающей тенденции — исключения есть всегда) жизненный успех героя становится авторской «наградой», маркирующей правильный выбор пути. Для литературы французской — чаще всего знаком его нравственного падения и деградации. А вот для русских писателей это вообще нерелевантное обстоятельство, ибо, что бы ни случилось с героем, внимание переносится с его жизненной ситуации на попутно возникающие «проклятые вопросы», которые так и остаются вопросами, потому что ответ на них читатель должен дать себе сам. Что касается читательской судьбы «Воспитания чувств», то она оказалась еще печальнее, чем в случае с «Саламбо», что причинило много горя автору. Книга, от которой, по выражению одного критика, «веяло почти клиническим холодом», не вызвала восторга у современников, зато получила должную оценку в следующем столетии. Т. де Банвиль проницательно заметил, что в этом романе Флоберу «суждено было предвосхитить то, что возникнет лишь много позже: роман без романных ухищрений, печальный, смутный, таинственный, как сама жизнь, и обходящийся развязками тем более страшными, что материально в них нет ничего драматического…» Следом за тремя романами Флобер опубликовал небольшой сборник «Три повести», куда вошли «Простая душа», «Легенда о святом Юлиане Милостивом» и «Иродиада». Время действия повестей как бы обращено вспять: от современности Флобер отступает в средневековье, а оттуда — в античность. Аналогично отдаляется место действия: из Нормандии оно переносится на юг Иберии, находящейся под властью мусульман, а оттуда — в библейскую Палестину. Каждый из трех героев — пророк, отважный воин и бедная служанка — следуют своим земным путем, приходя в финале к некоей духовной кульминации. Но сопоставление пережитых ими прозрений складывается под пером Флобера в повествование о мире, отвергающем любовь и доброту — и мало-помалу удаляющемся от Бога. Завершение этого печального процесса — судьба Фелисите из «Простого сердца»: ее никому не нужная нежность в конце концов обращается на попугая, а затем на его чучело. Она начинает смутно отождествлять его со Святым Духом, и, когда Фелиситэ умирает, ей чудится, словно в небесах над ней парит гигантский попугай. И, наконец, четвертый роман, которому суждено было остаться незаконченным: «Бувар и Пекюше». Герои его — вышедшие в отставку мелкие чиновники. Неожиданное наследство подбрасывает им возможность избрать себе занятие по вкусу, и они с энтузиазмом, достойным представителей нации великих энциклопедистов, бросаются на штурм сияющих вершин науки. Справедливости ради, начали они все-таки не с теории, а с практики: конкретно — с сельскохозяйственной деятельности. Ведь все можно освоить, вооружившись пособиями, не правда ли? Берутся приятели, скажем, за выращивание дынь. Вбухивают в это дело уйму денег и энергии. Но когда драгоценные канталупы вызревают, то оказываются абсолютно несъедобными, и автор замечает «в сторону»: …дело было в том, что он выращивал рядом разные сорта, и сахарные дыни смешались с обыкновенными, португальские — с монгольскими, соседство помидоров принесло еще больше вреда, и в результате выросли омерзительные ублюдки, похожие по вкусу на тыкву. Пособие не предупредило героев о том, что так делать нельзя. Бувар и Пекюше — французские Башмачкины, горожане, всю жизнь занимавшиеся перепиской бумаг; сведений о ботанике, о механизмах опыления и т. п. у них кот наплакал. А ни одно пособие не станет начинать объяснения от сотворения мира: ведь невозможно учесть заранее все нелепые ошибки, которые способен совершить любитель, взявшийся за дело с нахрапу!Постепенно друзья охладевают к огородничеству, зато загораются идеей сделать вклад в науку. Беда в том, что ученые книжки они кидаются читать, ничего не поменяв в своем подходе. Голая эмпирика неспособна компенсировать отсутствие системы, а без этого она мало что бесполезна — просто вредна. С печальным юмором Флобер описывает, как его героев бросает от одного берега к другому: они пытаются найти причины своего сельскохозяйственного афронта, последовательно хватаясь за химию, анатомию, психологию и диетологию. Обрывки почерпнутых оттуда сведений противоречат друг другу (либо им так кажется в силу их невежества), и, стараясь разобраться, Бувар и Пекюше увязают еще глубже: минералогия, зоология, палеонтология, геология… От геологии они неприметно переходят к археологии — и превращают свой дом в свалку сомнительных «артефактов». В своем рвении приятели доходят до того, что начинают грабить кладбища и церкви, из-за чего у них возникают неприятности. Но археологию нельзя понять без истории — следовательно… Далее настает очередь литературы, в которой друзья надеются найти некую иллюстрацию к истории, но приходят в ужас от «исторических неточностей» Вальтера Скотта и Дюма. Одно цепляется за другое: театр, гимнастика, политика, спиритизм, философия и теология, потом — педагогика… и провал на этом поприще оказывается особенно сокрушительным. Флобера занимает не просто феномен дилетантизма, но неумение людей мыслить. Будучи и сам представителем той же нации энциклопедистов, он весьма ядовито осмеял расхожее понятие о науке как о совокупности «сведений», а об ученом — как о человеке, чья голова набита фактами, — в то время как основой науки является системность и способность к выявлению логических связей. Между тем флоберовские персонажи в своих изысканиях упорно используют одну и ту же методику: Под конец они изобрели ликер, которому, по их мнению, было суждено затмить все остальные. Они положат в него кориандр, как в кюммель, вишневую водку, как в мараскин, иссоп, как в шартрез, прибавят мускуса, как в веспетро, и calamus aromaticus, как в крамбамбуль, красный же цвет придадут ему санталом. Но под каким названием пустить в продажу новый ликер? Требовалось название легко запоминающееся и вместе с тем оригинальное. После долгих размышлений они решили окрестить его «буварином». Так, начав с описания феномена боваризма, Флобер пришел к «буваризму»… По замыслу автора, дальше друзья должны были разочароваться в науке и вернуться на исходную позицию, принявшись за выписку «умных» цитат: воистину, дух энциклопедизма неистребим! Но так как Бувар и Пекюше оставались Буваром и Пекюше, то в качестве материала для их «энциклопедии» писатель рассчитывал использовать уже упомянутый выше сатирический «Лексикон прописных истин». Таким образом, все четыре романа Флобера имели разную судьбу. Первый вызвал скандал — и навеки превратил Флобера в классика. Второй поднял волну моды — и остался в анналах истории литературы. Третий был встречен прохладно — но обозначил тот путь, по которому впоследствии двинулся роман ХХ века. Четвертый — саркастичный и беспощадно-трезвый — обозначил перелом в писательской манере Флобера. После него уже надо было ожидать появления сатиры Анатоля Франса. Так и случилось. Флобер скончался в 1880 году, а в 1881 вышел первый роман, принесший известность молодому Франсу: «Преступление Сильвестра Бонара». Но это уже, как говорится, совсем другая история… Свернуть сообщение Показать полностью
18 Показать 19 комментариев |
|
#даты #литература #поэзия #длиннопост
И через месяц после Достоевского — …200 лет со дня рождения Н.А.Некрасова У поэзии Некрасова странная судьба. Его поэтической репутации больше повредили не нападки врагов (которых было много), а панегирики друзей, готовых восхищаться его стихами «за направление», невзирая на якобы слабую их форму. Такое мнение (а заодно и противопоставление Пушкину) находило опору и в скромной некрасовской автохарактеристике: Твои поэмы бестолковы, Правда в том, что Некрасов был поэтом неровным: у него можно найти все — и откровенно слабые стихи, и шедевры.Твои элегии не новы, Сатиры чужды красоты, Неблагородны и обидны, Твой стих тягуч. Заметен ты, Но так без солнца звезды видны… Нет, ты не Пушкин… Накануне его столетнего юбилея среди поэтов провели опрос: «Ваше отношение к Некрасову?» Результат оказался неожиданным. «Малохудожественного» Некрасова ценили как раз эстеты: Блок, Ахматова, Гумилев, Вяч. Иванов — а пролетарские поэты (Маяковский, Асеев) были к нему равнодушны. Детство Некрасова прошло в родительском имении Грешнево Ярославской губернии. Отец был человеком деспотичным и недобрым; мать и сестра — две единственные сердечные привязанности детства будущего поэта. Обеих он потерял рано. Тему «русских женщин», культ материнского женского начала Некрасову довелось утвердить в русской поэзии, не дождавшейся этого от его великих предшественников и современников. Грешнево стояло на трактовой ярославско-костромской дороге. Называли ее Владимиркой, а также Сибиркой. По ней неслись тройки и шли в каторгу кандальники. Невдалеке раскинулась Волга, а по ее берегу с унылой песней брели бурлаки. Такими впервые предстали мальчику два ключевых русских образа — дорога и река. Хорошего образования Николай не получил: в Ярославской гимназии учили мало и плохо. Он мечтал об университете, но отец не хотел слышать ни о чем, кроме кадетского корпуса. В 1838 г. юноша уехал в Петербург — с твердым намерением поставить на своем. Он пытался поступить в университет трижды: на факультет восточных языков, на юридический, на философский... Но перед ним стоял непреодолимый барьер из 14-ти вступительных экзаменов, включая логику, географию, статистику, 4 иностранных языка, — все это нужно было знать еще ДО поступления в университет. Не имевший систематической подготовки Некрасов неизменно проваливался почти по всем предметам. И потянулась темная полоса его жизни. Отношения с отцом были разорваны, денежной поддержки он лишился. Три года он голодал, мерз; после перенесенной горячки квартирохозяин, которому он задолжал, выбросил его на улицу, отобрав все вещи. Нищие подобрали юношу и отвели в ночлежку. Питался он на редкие копеечные заработки, а то еще в трактирчике на Морской, где на столах стояли хлебницы — и можно было, прикрываясь газетой, прихватить кусок-другой. И все же он выжил. Больше того — пробился. Все знавшие Некрасова отмечали его редкостный ум, энергию и практическую хватку. Он стал знаменитым поэтом, редактором влиятельнейшего русского журнала, наконец, богатым человеком. Но впечатления детства и юности не покидали его всю жизнь. Некрасов, писавший о горькой участи бедноты, в отличие от своих предшественников, писал о том, через что прошел он сам. «Школьный» Некрасов — прежде всего певец страданий народа. Но это только часть его лирики, и даже в этой теме Некрасов — разный. Есть у него Россия природная, деревенская, глубинная — и Россия столичная, вечно пребывающая в волнении: В столицах шум, гремят витии, Раньше у поэтов крестьянская жизнь подавалась общим планом. Пушкин видит, как «рабство тощее влачится по браздам» — образ чисто абстрактный; Лермонтов с едущей проселком телеги наблюдает «дрожащие огни печальных деревень»; «бедные селенья» видит Тютчев — не более того.Кипит словесная война, А там, во глубине России — Там вековая тишина… В некрасовскую лирику вторгается крупный план: гнутся к земле тяжелые колосья, над жницей в раскаленном полуденном воздухе колышется столб насекомых, рабочий на строительстве железной дороги долбит ржавой лопатой мерзлую землю… Но в деревенской лирике есть и отрадные картины. Они посвящены молодости, любви, будущему, суровой поэзии крестьянского труда: «Крестьянские дети», «Школьник», «Зеленый Шум»… В «Размышлениях у парадного подъезда»: Раз я видел, сюда мужики подошли, Неожиданное и вроде бы излишнее пояснение (мужики — «деревенские русские люди») возвращает слову его исконно эпическое, торжественное содержание.Деревенские русские люди… Светлое и горестное существуют в крестьянской жизни рядом. Шестилетний «мужичок с ноготок», ведущий лошадку, чувствует себя опорой семьи. Это и забавно, и печально, и внушает уважение. (Некрасов, вообще много средств тративший на поддержку нуждающихся, на свои деньги открыл и содержал на родине школу для крестьянских детей.) А вот городская лирика, в отличие от деревенской, почти сплошь безотрадна. Пушкинский «город пышный, город бедный» Некрасову виден только в невыгодном ракурсе. Жизнь огромной столицы, сосредоточенная большей частью в фиктивном «бумажном» мире, безосновна, лишена корней. На смену эпической повествовательности приходит мозаика отрывочных кадров. Цикл «На улице»: голодный оборванный вор, пойманный с украденным калачом; проводы молодого рекрута; солдат с детским гробиком под мышкой… «О погоде» — калейдоскоп мелькающих картин, который складывается в гнетущий образ нищеты, отчаяния, смерти, окутанных мрачным петербургским туманом: Ах, еще бы на мир нам с улыбкой смотреть! Петербург Некрасова — лирическая версия Петербурга Достоевского. Знаменитый сон Раскольникова про избиваемую лошадь навеян впечатлением от цикла «О погоде». Раскольников, в сущности, видит во сне стихотворение Некрасова:Мы глядим на него через тусклую сеть, Что как слезы струится по окнам домов, От туманов сырых, от дождей и снегов!.. Надо всем, что ни есть: над дворцом и тюрьмой, И над медным Петром, и над грозной Невой, До чугунных коней на воротах застав (Что хотят ускакать из столицы стремглав) — Надо всем распростерся туман. Душный, стройный, угрюмый, гнилой, Некрасив в эту пору наш город большой, Как изношенный фат без румян… Под жестокой рукой человека, Эта сцену, где сгустилась вся боль, весь ужас и зло жизни, до самой смерти не мог забыть Достоевский. Иван Карамазов, предъявляющий Богу счет за мировое страдание, вспомнит ее снова: «У Некрасова это ужасно».Чуть жива, безобразно тоща, Надрывается лошадь-калека, Непосильную ношу влача. Вот она зашаталась и стала. «Ну!» — погонщик полено схватил (Показалось кнута ему мало) — И уж бил ее, бил ее, бил! Ноги как-то расставив широко, Вся дымясь, оседая назад, Лошадь только вздыхала глубоко И глядела… (так люди глядят, Покоряясь неправым нападкам). Он опять: по спине, по бокам, И, вперед забежав, по лопаткам И по плачущим, кротким глазам!.. В «Утре» поэт из лаконизма извлекает не менее сильный художественный эффект, чем из развернутых описаний. Отстраненное, констатирующее перечисление превращает гнетущее, страшное — в привычно-заурядное: Проститутка домой на рассвете И другая тема, разработанная еще до Гюго и Достоевского, появилась в городской лирике Некрасова: страшная участь женщины. «Еду ли ночью по улице темной…», при всей мелодраматичности, относят к числу лучших созданий поэта, хотя подобное нагнетание мучительных деталей виделось бы безвкусным и фальшивым, если бы к нему прибег человек, не знающий на собственном опыте, что значит умирать от голода и холода, не иметь ни пристанища, ни друзей.Поспешает, покинув постель; Офицеры в наемной карете Скачут за город: будет дуэль... Дворник вора колотит — попался! Гонят стадо гусей на убой; Где-то в верхнем этаже раздался Выстрел — кто-то покончил с собой… Есть у Некрасова и любовная лирика, очень импульсивная и драматичная. Новое здесь — в том, что часто называют «прозой любви»: способность видеть наряду с поэтической стороной чувства его изнанку — утомление, приливы охлаждения и разочарований, порывы к самоутверждению, мучительство… Тут ближайший аналог Некрасова в прозе — Достоевский, а в поэзии — Тютчев. «Панаевский цикл» выглядит своеобразным романом, историей любви в стихах. Грозовые дни чувства в его цветении, жестокая, испытующая любовная игра, расставания и возвраты, когда обоим уже ясно, что допиваются последние капли: …Не торопи развязки неизбежной! И опять возвращение иллюзий, и снова разрыв, и сожаления об утрате, и раскаяние. Наконец холодное, ироническое обобщение показывает, что любовь умерла — единственная Она стала одной из многих:И без того она не далека: Кипим сильней, последней жаждой полны, Но в сердце тайный холод и тоска… Так осенью бурливее река, Но холодней бушующие волны… О слезы женские, с придачей И свое чувство, и себя герой видит уже со стороны, в безжалостном трезвом свете рассудка. Истеричная женщина, малодушный мужчина, мечтающий о покое хотя бы ценой лицемерия. — «В лице своем читает скуку / И рабства темное клеймо», — никто из русских поэтов до Некрасова не посчитал возможным говорить об этом мутном и горьком осадке на дне любовной чаши.Нервических, тяжелых драм! Вы долго были мне задачей, Я долго слепо верил вам И много вынес мук мятежных, Теперь я знаю наконец: Не слабости созданий нежных — Вы их могущества венец. …………………………… Зачем не мог я прежде видеть? Ее не стоило любить, Ее не стоит ненавидеть, О ней не стоит говорить. Некрасов — мастер типов. В его стихах впервые появились те «герои времени», которых позднее опишут Островский, Тургенев, Гончаров. Например, в поэме «Саша» уже просматриваются контуры «Рудина». Характеристика героя уместилась в полсотни строк: человек умный, красноречивый, увлекающийся — но неустойчивый и слабый. Всё, что высоко, разумно, свободно, В «Рыцаре на час» прорываются «автопсихологические» мотивы. Страдания героя — от того, что глубоких чувств, благородных мыслей и намерений больше в его душе, чем сил сражаться до конца:Сердцу его и доступно и сродно, Только дающая силу и власть В слове и в деле чужда ему страсть. …Что ему книга последняя скажет, То на душе его сверху и ляжет: Верить, не верить — ему всё равно, Лишь бы доказано было умно!.. Что враги? пусть клевещут язвительней — Собственный внутренний голос осуждает героя куда суровее, чем это сделали бы враги и друзья.Я пощады у них не прошу, Не придумать им казни мучительней Той, которую в сердце ношу! Что друзья? Наши силы неровные, Я ни в чем середины не знал, Что обходят они, хладнокровные, Я на все безрассудно дерзал… Покорись, о ничтожное племя, Малодушие виделось Некрасову психологическим изъяном личности, сформировавшейся в эпоху террора:Неизбежной и горькой судьбе! Захватило вас трудное время Не готовыми к трудной борьбе. Вы еще не в могиле, вы живы, Но для дела вы мёртвы давно, Суждены вам благие порывы, Но свершить ничего не дано. На всех, рожденных в двадцать пятом Даже выдающийся человек рискует увязнуть в пошлости, в болоте вынужденных жизнью компромиссов. Пусть причина их в беспокойстве о других, не о себе — так или иначе, это падение. «Не рыдай так безумно над ним, / Хорошо умереть молодым!..» — вырвалось у Некрасова, когда погиб Писарев.Году иль около того, Отяготел жестокий фатум: Не выйти нам из-под него. Я не продам за деньги мненья, Без крайней нужды не солгу… Но — гибнуть жертвой убежденья Я не могу… я не могу… …Перед ним преклониться не стыдно, Сочетание «герой времени» обычно пишется в кавычках. Герои без кавычек у Некрасова тоже есть: старый декабрист в поэме «Дедушка», Трубецкая и Волконская в «Русских женщинах»…Вспомни, сколькие пали в борьбе, Сколько раз уже было тебе За великое имя обидно!.. Изобильная, счастливая жизнь затерянного за Байкалом селения, быт которого преобразуют ссыльные декабристы, предстает у Некрасова своего рода утопией на историческом материале: «Воля и труд человека / Дивные дива творят». Она образует резкий контраст с картинами крепостной России. В тяжелый час на что может такая страна рассчитывать, на кого опереться? Красноречивым воззваньем А вот героем современности Некрасов видит прежде всего поэта.Не разогреешь рабов, Не озаришь пониманьем Темных и грубых умов. Поздно! Народ угнетенный Глух перед общей бедой. Горе стране разоренной, Горе стране отсталóй! Но тема поэта и поэзии у Некрасова движется в двух расходящихся руслах. Когда его предшественники писали о поэте-пророке, они писали о себе. Пророк в пушкинском «Пророке» — это сам Пушкин. В лермонтовском — Лермонтов. У Некрасова самоотождествление с героем-поэтом происходит лишь там, где он предстает в образе «героя времени» — подверженного сомнениям, слабости, ошибкам. Поэт-пророк — это стихотворения о других: о Шиллере, Гоголе, Шевченко, Белинском, Добролюбове, Чернышевском (понятие «поэт» трактуется широко). И почти во всех случаях это, увы, некрологи… Участь поэта-гражданина, проповедующего любовь «враждебным словом отрицанья», противопоставлена отрадному уделу «незлобивого поэта» и становится всё трагичнее: Со всех сторон его клянут — Пушкинский «Пророк» заканчивается призывом «жечь сердца». У Лермонтова — второй акт этой драмы: пророка изгоняют в пустыню, провожая насмешками и проклятиями. А у Некрасова —И только труп его увидя, Как много сделал он, поймут, И как любил он, ненавидя! Его еще покамест не распяли, Но это стихотворение посвящено Чернышевскому. Для себя Некрасов не сооружает в стихах памятников и не воздвигает распятий, во всяком случае таких, которые наводили бы на торжественные аналогии. Пушкин не сомневается, что слух о нем «пройдет по всей Руси великой», Некрасов говорит о том же народе: «Быть может, я умру, неведомый ему…».Но час придет — он будет на кресте; Его послал Бог Гнева и Печали Рабам земли напомнить о Христе. В до-некрасовской лирике поэт и толпа противостояли друг другу. Некрасов же чувствует себя причастным к ней — именно к толпе, а не к народу: к ее пошлости, низости, духовному рабству. Зачем меня на части рвете, Умирать для того лишь, чтоб «им яснее доказать, / Что прочен только путь неправый» — бессмысленно, а «жить в позоре» — невыносимо тяжело.Клеймите именем раба?.. Я от костей твоих и плоти, Остервенелая толпа!.. Откуда взялись эти мрачные чувства? «Современник», редактором которого Некрасов состоял много лет, был изданием леворадикальным. Причем существующим в условиях цензуры. От редактора требовалось лавировать, поддерживать знакомства с «полезными» людьми, к которым Некрасов часто не питал никаких симпатий. В журнале сотрудничали известные писатели и критики — каждый с собственными устремлениями и амбициями. Их отношения тоже приходилось улаживать, и не всегда это получалось. Некрасов нажил много врагов. А тот образ жизни, к которому вынуждало его положение (многочисленные знакомства, карточная игра, крупные суммы денег, проходившие через его руки), давал им обильный материал для нападок и клеветы, прекрасно подтверждавших изречение Лихтенберга: «Высшее, до чего может подняться мелкий человек, — это найти, чем попрекнуть тех, кто лучше его самого». Поэт очень страдал от этого. Но ради дела он жертвовал и покоем, и той легкой славой, которой мог бы спокойно достичь со своим талантом, и обратился к злобе дня, не рассчитывая, что о нем будут помнить потомки: «Я умру — моя померкнет слава…» …ей долгим, ярким светом Но хуже всего оказалось то, что случилось в 1866 году.Не гореть на имени моем — Мне борьба мешала быть поэтом, Песни мне мешали быть бойцом. После покушения Каракозова на Александра II правительство стало спешно «наводить порядок». «Современник», уже имевший цензурные взыскания, очутился на пороге закрытия. Пытаясь спасти журнал, Некрасов поехал на торжественный обед в честь графа Муравьева, на которого в основном эту миссию наведения порядка и возложили. Это был владелец пресловутого дома с парадным подъездом, находившегося напротив квартиры Некрасова на Литейном (где сейчас музей поэта). Незадолго перед тем Муравьев подавил польское восстание, заслужив при этом прозвище «Вешатель». И ему-то Некрасов прочел хвалебную оду, рассчитывая этим жестом лояльности спасти свой журнал. Ода не помогла: «Современник» запретили. Зато Некрасова осудили все — и дружно: «Ликует враг, молчит в недоуменье / Вчерашний друг, качая головой…». Он рискнул своей репутацией, полагая, что это оправдано надеждой сохранить для публики единственный уже, по сути дела, идеологически независимый журнал. Не сделай он такой попытки, его, наверное, тоже бы осуждали. Но тяжелее всего было не улюлюканье и попреки, а раскаяние: он не мог простить сам себе. Практически сразу Некрасов понял свою ошибку: поэт, на которого русское общество привыкло смотреть как на свою совесть, — в этом качестве он был и предметом восхищения, и объектом ненависти, — этот поэт не имел права лгать в своих стихах. Тут была та грань компромисса, которой не следовало преступать. В своем лице Некрасов подорвал веру в саму поэзию, в ее искренность, высокое назначение. Отсюда в его поздней лирике — надрыв и трагедия, чувство тяжкой вины, которую в представлении поэта уравновесить могла только неугасающая любовь к «родной стороне»: За то, что я, черствея с каждым годом, Умирал Некрасов от рака, долго и тяжело. Последний прижизненный сборник стихов так и назван — «Последние песни»: поэт уже знал, что других не будет. Картина Крамского запечатлела его в работе над этими песнями: он лежит на диване, исхудавший, с изжелта-бледным лицом, в тон простыням. Ее умел в душе моей спасти, За каплю крови, общую с народом, Мои вины, о родина! прости!.. Смерть оборвала работу над поэмой «Кому на Руси жить хорошо». Она пополнила список ключевых текстов русской литературы, которые остались незаконченными или имитируют незаконченность: «Евгений Онегин», «Мертвые души», «Война и мир», «Братья Карамазовы»… Когда-то ее трактовали как поэму революционную, за счет аксиоматических отождествлений: Некрасов = Гриша Добросклонов, «рать неисчислимая» = восставший народ и пр. Хотя даже чисто психологически трудно представить, чтобы поэт на краю могилы звал Русь к кровопролитию. Вопрос, который поставил Некрасов, одновременно и простой, и трудный. Русь после реформы. Почему она не изменилась по существу? И сложный вопрос высказан устами мужиков, с намеренной простотой: «Кому живется весело, вольготно на Руси?» Фольклорная утопия — сказочная страна молочных рек и кисельных берегов. «Покой, богатство, честь» — благополучие и достаток. Кто же может почитать себя таким счастливцем в новой Руси? Некрасовские мужики называют шесть кандидатур: помещик, чиновник, поп, купец, министр и царь. С каждым из них они по замыслу поэта, должны были встретиться — даже с царем, во время охоты. Но встречи состоялись только с попом и помещиком. Всё прочее так и осталось в набросках. Вероятно, ответ на вопрос, таким образом поставленный, виделся слишком уж очевидным. Сельский поп со своей нищей мужицкой паствой и сам нищий. Раздолье помещика тоже покончилось с реформой. Итак, уже нет крепостного права, привилегированный класс лишился части своих привилегий — но кому же стало лучше? Естественно, участь народа по-прежнему наитяжелейшая. Но в разоренной, неустроенной стране мог ли быть счастливым даже и сам царь, на чью жизнь уже неоднократно покушались (и спустя 3 года после смерти Некрасова убили)? Писатель Короленко вспоминал, каким увидел Александра II незадолго до этого: «Меня поразило лицо этого несчастного человека. Оно было отекшее, изборожденное морщинами, нездоровое и… несчастное. Так начать и так кончить!..» У Короленко, постоянно скитавшегося по тюрьмам и ссылкам «политического преступника», не могло быть симпатий к верховной власти и ее носителям. Но его болезненно поразил контраст: царь, который провел долгожданную реформу, под конец пал жертвой террористов-народников. И вместо вопроса «Кому живется весело?» возникает другой: «кто всех грешней?» Один сказал: кабатчики, Почему вообще стали говорить о грехах?Другой сказал: помещики, А третий — мужики. Религиозное сознание опирается на представление о господстве нравственного закона. Несчастье — предупреждение либо кара за грехи. У Герцена вопрос: кто виноват? — риторический, фиктивный: сознание Герцена не религиозно. Для него не существует вопроса о вине — только о причинах неудовлетворительного порядка вещей. Но для простодушно верующих некрасовских крестьян этот вопрос обретает свой исходный смысл. За чью же вину Бог карает людей? Первая версия — «кабатчики» — отзывается начальным замыслом: показать, что на Руси счастлив только «пьяненький». Позднее Некрасов от этой идеи отказался: она выглядела слишком уж тощей. Но следы «пьяной» темы в поэме остались: например, глава «Пьяная ночь». Или сказочная птичка, удружившая мужикам скатертью-самобранкой, — она делает важную оговорку: «водки можно требовать / В день ровно по ведру». Это условие героям предстояло, очевидно, нарушить. Но интереснее другое: мера, которую птичка считает разумной и умеренной. Ведро (стандартная мера емкости — 12,3 литра) на семь мужиков. То есть 1 ¾ литра на человека в день! Любопытно вот еще что. В самом начале поэмы герои в азарте спора отошли по дороге «верст тридцать» от места, где встретились, и садятся передохнуть «под лесом при дороженьке»: За водкой двое сбегали, Не совсем понятно, куда так быстро «сбегали» за водкой некрасовские герои, далеко отошедшие от любого жилья. Похоже, что Некрасов просто не обратил на эту неувязку внимания: подсознательная уверенность, что водка есть везде. Факт, в какой-то мере отражающий и подлинное положение вещей. Торговлю алкоголем монопольно сохраняло за собой государство, но почему-то именно здесь в отношении цен неизменно держалось умеренности (принцип «пьяным народом легче управлять»).А прочие покудова Стаканчик изготовили, Бересты понадрав. У каждого крестьянина При всех сменах властей и политических систем это положение не менялось. Попытка ввести «сухой» или хотя бы «полусухой» закон была предпринята только дважды: первый раз — перед Октябрьской революцией, второй — незадолго до перестройки и краха Советской власти. Такое впечатление, что народ протрезвел — и…Душа что туча черная — Гневна, грозна, — и надо бы Громам греметь оттудова, Кровавым лить дождям, А всё вином кончается. Но очевидно, что пьянство — не корень, а плод зла, социального неблагоустройства. И вопрос снова возвращается к исходной точке: кто всех грешней, кто виноват, что нет на Руси счастливых? Ожидаемый ответ — помещики. Меру их грехов показывает история разбойника Кудеяра. Покаявшийся на старости лет злодей получает молитвенное откровение: преступления его простятся, когда он срежет своим разбойничьим ножом вековой дуб. Труд практически безнадежный — и все же дуб падает… когда бывший разбойник в порыве гнева убивает мимоезжего пана, со смехом поведавшего, как он терзает и казнит своих холопов. Такая неортодоксальная мораль — в духе, если не в букве Евангелия. Бывший разбойник формально преступает заповедь «не убий», чтобы по существу исполнить заповедь «возлюби ближнего своего». Сострадание к жертвам злодея-пана берет верх над, казалось бы, благоразумной мыслью, что кающемуся убийце не стоит брать на душу новый грех убийства. Кудеяр пожалел страдающих людей больше, чем себя, и за это прощен. Как же тяжко должен быть виновен перед Богом и людьми помещик, чтобы небесный суд не только не находил греха его убить, но даже прощал за это былые вины! Он оказывается как бы исключенным из заповеди «не убий». Однако другой спорщик твердит свое: самый тяжкий грех — крестьянский. В доказательство поведана история старосты Глеба, который, польстившись на посулы наследников богатого адмирала, сжигает завещание — вольную для его крепостных. Этот грех назван «иудиным» — грехом предательства. Недаром традиция осуждает не римлян и не Пилата, а Иуду — соплеменника и сподвижника Христа: предать можно только своего. Глеб сам крестьянин, он знает, что такое крепостная кабала, но обрекает этой участи односельчан. В этом смысле он даже хуже садиста-помещика, который в крестьянах не видит людей — неудивительно, что ему их не жаль. Почему же все должны нести расплату за одного Глеба? А в том-то и дело, что он не один. Мужики у Некрасова разные. Рядом с Матреной, дедом Савелием, Ермилом Гириным и пр. — целая галерея добровольных рабов, холопов по призванию, стукачей, больших и мелких предателей… Новое время выдвигает из народа и такой малопривлекательный тип, как мужик-демагог: Каких-то слов особенных А тут прямо современные ассоциации возникают:Наслушался: Атечество, Москва первопрестольная, Душа великорусская. «Я — русский мужичок!» — Горланил диким голосом… Влас за крестьян ходатаем, Конечно, Некрасов не верит, что таковы мужики в большинстве. Но частица Иуды дремлет в душе каждого, даже очень хорошего человека.Живет в Москве... был в Питере... А толку что-то нет! Это доказывает история еще одного старосты, Ермила Гирина. Он справедлив и бескорыстен — но и на него нашлась проруха. При рекрутском наборе вместо своего младшего брата Ермил сдает сына вдовы. Угрызения совести едва не доводят его до самоубийства. И, даже исправив свой проступок, Ермил не хочет оставаться старостой. Этот случай рассказан не для «разоблачения» симпатичного персонажа. Здесь евангельский прототип — апостол Петр, трижды отрекшийся от Иисуса, когда того арестовывали. Даже в такой душе дремлет Иуда, хоть Петр и был уверен в обратном («никогда не соблазнюсь…»). Тем не менее именно ему, знающему искушение и грех, вверены ключи от царствия небесного. Иудин грех вырастает из заботы о своем благе, отдельном от блага ближнего («своя рубашка к телу ближе»). А сила народа — в единстве. Больше того, сам народ есть единство. Забывая об этом, он предает свою собственную сущность, отрекается от того, чем силен, и становится легкой жертвой притеснителей («разделяй и властвуй»). Поэма вообще богата евангельскими реминисценциями. Некрасов хотел поставить сложные вопросы — о предназначении, смысле жизни и счастье людей — в форме, доступной для самого широкого читателя. Между тем народ читал разве что пресловутого «милорда глупого» (популярный лубочный роман). Единственная серьезная книга, входившая в круг народного чтения, — как раз Евангелие. Его образы, мотивы, идеи были всем знакомы, и поэт на них опирается. Например, оттуда пришел в поэму образ двух жизненных дорог: одна — торная дорога «страстей раба», другая — тернистый путь честного человека (Мф., VII, 14-15); образ сева и сеятеля, который сопряжен с темой духовной проповеди (ср. знаменитый призыв: «Сейте разумное, доброе, вечное!»). Но и сам дух Евангелия близок некрасовской поэме. Путь «заступников народных» (среди которых Некрасов называет писателей — Белинского и Гоголя) сродни искупительной жертве Христа. Не только Иуде, но и Христу человек может быть сопричастен; выбор зависит от него. А от этого выбора, в свой черед, зависит будущее народа и страны. Рай, к которому зовет Некрасов, — земной. Его не обрести в одиночку, замкнувшись в собственной душевной гармонии. Путь к личному душевному спасению, игнорирующий беду ближних, неприемлем. Отставной дьячок толкует мужикам, что счастье — «в благодушестве». Но его прогоняют: «Проваливай!» И как бы ни был Некрасову симпатичен Гриша Добросклонов, поэт не разделяет его наивной веры, что отмена крепостного права вырвала самый корень зла. В многоголосном хоре поэмы радостные ожидания Гриши дополняются горькой песней нищего отставного солдата, зловещими посулами старого раскольника: Горе вам, горе, пропащие головы! Чьему пророчеству суждено сбыться — решать самим людям.Были оборваны — будете голы вы, Били вас палками, розгами, кнутьями, Будете биты железными прутьями! Веру в способность народа подняться до высоты христианского идеала — в массе, а не в отдельных лишь своих представителях, — Некрасов обретает в том, что в людях живет тяга к правде-справедливости. Недаром русское слово «правда», однокоренное с «праведностью», обладает полноценным вторым значением (truth, Wahrheit, vérité — «правда-истина», но не «правда-справедливость»). Уже в 1830-40-е гг. целые группы крестьян отправлялись искать мифическое Беловодье. Мужик-мечтатель Касьян («Записки охотника» Тургенева) рассказывает о земле, где «яблоки растут золотые на серебряных ветках и живет всяк человек в довольстве и справедливости». А в 1898 г. на поиски праведной земли были отправлены своими станичниками три уральских казака. Они объехали полмира: Одесса, Константинополь, Афон, Смирна, Патмос, Родос, Кипр, Бейрут, Сидон, Яффа, Иерусалим, Порт-Саид, Суэцкий канал, Цейлон, Сингапур, Сайгон, Гонконг, Шанхай, Нагасаки… В пьесе Горького «На дне» Лука рассказывает характерную для «правдоискательского» сознания историю: про человека, который попросил ученого найти в книгах праведную землю. А когда ее не обнаружилось, обругал ученого, пошел домой и удавился. Если нет такой земли — стало быть, и жить незачем. Основной посыл некрасовской поэмы — внешние перемены жизни сами по себе ничего не дают, пока ничто не меняется в людях. Не увеличится «сумма счастья» — ни общественного, ни личного, — пока действует принцип хаты с краю. Таким образом, последним произведением реалиста Некрасова стала народно-христианская утопия. Переживание огромности этого разрыва — между реальностью и идеалом («…жаль только, жить в эту пору прекрасную…») — закрепило в национальной памяти образ Некрасова как певца русской хандры. Свернуть сообщение Показать полностью
19 Показать 7 комментариев |
|
#даты #литература #длиннопост
200 лет со дня рождения Ф.М.Достоевского. Уже первая его вещь — «Бедные люди» — доставила автору славу «нового Гоголя». И Гоголь там был. Только вывернутый наизнанку. Герой повести, немолодой чиновник-переписчик Макар Девушкин, получил шанс увидеть себя в литературном зеркале. Ему — читателю очень простодушному — подсунули «Станционного смотрителя» и «Шинель». Пушкин его порадовал. Гоголь — возмутил. В первой истории Девушкин увидел правду, но… возвышающую его правду. Красивое, благородное горе страдающего отца, Самсона Вырина: «Дело-то оно общее, маточка, и над вами и надо мной может случиться. И граф, что на Невском или на набережной живет, у них все по-своему, по высшему тону, но и он будет то же самое, все может случиться...» Есть, значит, такие ситуации, такие повороты судьбы, в которых он, Девушкин-Вырин, равен графу. А вот в «Шинели» утешительно красивых страданий нет. Есть страдания некрасивые, унизительные. Их уже не разделить с «графом, который на Невском живет». Нищеты, голода и холода на долю Девушкина досталось не меньше, чем на долю Башмачкина. Но по-настоящему его терзает лишь уязвленное самолюбие. Объект внимания автора — не социальное, а психологическое. Девушкин негодует на Гоголя, который не пожелал спасти своего героя: вот если бы генерал не выгнал Башмачкина, а вошел в его положение!.. Такой добрый генерал встретится самому Девушкину. Но в мире униженных и оскорбленных доброта никого и ничего не спасает: доброта отравлена изначально. Макар Алексеевич и сам добрый человек. Но он несколько раз описывает своего соседа — нищего чиновника Горшкова: Такой седенький, маленький; ходит в таком засаленном, в таком истертом платье, что больно смотреть; куда хуже моего! Жалкий, хилый такой (встречаемся мы с ним иногда в коридоре); коленки у него дрожат, руки дрожат, голова дрожит, уж от болезни, что ли, какой, бог его знает; робкий, боится всех, ходит стороночкой; уж я застенчив подчас, а этот еще хуже... Описания горшковских злоключений пространны и продиктованы искренним состраданием. Но не менее искренне (хотя совершенно не сознается автором этих описаний) — удовольствие. Подавленный своим жалким положением человек может утешиться только еще более жалким положением ближнего. И вот наступает час, когда несчастный Горшков является к соседу побираться…Макар долго его расспрашивает, хорошо запоминает и пересказывает подробности беседы, плачевного вида и униженных манер Горшкова: Разговорился я с ним: да как же вы, батюшка, спрашиваю, так зануждались, да еще при таких нуждах комнату в пять рублей серебром нанимаете? Объяснил он мне… Жаль, жаль, очень жаль его, маточка! Я его обласкал. Человек-то он затерянный, запутанный; покровительства ищет, так вот я его и обласкал. Разве Девушкин, сам страдающий от пренебрежения окружающих, не способен понять, как мучительны его расспросы и вся эта вынужденная исповедь?Конечно, способен, но почему-то не хочет. Он отдает Горшкову свои последние двадцать копеек — но назвать их подарком не поворачивается язык. Это плата — за чужое унижение и собственное самоутверждение. Девушкин помогает соседу от чистого сердца, жалеет его от души, но… даже в самой бескорыстной помощи присутствует оттенок: ты не можешь, а я могу! Причем Девушкин ничуть не отдает себе в этом отчета. «Дурной» человек делал бы это сознательно. Уже в «Бедных людях» возникла эта тема: в человеческой природе нет нравственных первоэлементов — «чистого добра» и «чистого зла» — только сложные соединения. Это шокирующее открытие получит развитие в «Двойнике», герой которого, как позже Дориан Грей, даст своему желанию власть над собой — и станет его жертвой. Достоевский успел написать еще несколько повестей — а потом грянула катастрофа: разгром вольнодумного «кружка Петрашевского», суд и смертный приговор. Позже он опишет в «Идиоте» печально знаменитый трагический фарс на Семеновском плацу. За несколько секунд до приведения приговора в исполнение был оглашен императорский указ, заменявший смертную казнь разными сроками каторги. Каторжные впечатления писателя позднее отразились в «Записках из Мертвого дома». И естественно, что книга о каторге стала книгой о Зле. Злом оказалась уже сама идея «исправительной кары»: с каторги куда чаще выходят люди погибшие, чем исправившиеся. Вдобавок одинаковое наказание применяется к разным людям, в разных обстоятельствах — и больше всех страдает человек, всех менее виноватый, случайно оступившийся, и без того убитый сознанием своего греха. Рядом с бандитами — те, перед кем общество виновно больше, чем они перед обществом: жертвы нищеты, невежества, деспотизма, даже обычаев (горцы с их кровной местью). Здесь и люди, которые нравственно выше, а не ниже большинства: декабристы, польские повстанцы, отстаивавшие независимость родины… И поскольку человеческое правосудие не безгрешно, на каторгу попадают также жертвы судебных ошибок. Итак, в Мертвом доме — люди и очень скверные, и очень хорошие; но больше всего средних, обыкновенных. Как и по ту сторону решетки. И здесь выход к другой стороне проблемы. Достоевский отмечает, что «народ по всей России называет преступление несчастьем, а преступников — несчастными». Почему же такое имя применяется ко всем, даже без разбора вины? На каторге перед глазами писателя прошла такая череда разнообразных человеческих драм, что он не мог не почувствовать: нет человека, застрахованного от опасности хотя бы раз в жизни переступить закон. Достаточно оказаться в той точке времени и пространства, где подстерегает опасность споткнуться: «От сумы да от тюрьмы не зарекайся». Способность понимать и творить добро неотделима от «первородного греха» — способности понимать и творить зло. И преступник с этой точки зрения — тот, в ком, более или менее случайно, эта потенция реализовалась: нечто вроде козла отпущения, искупающего темное начало общечеловеческой природы. (Что, разумеется, не может служить оправданием.) Да и само зло оказалось разным. Демоническое могло обладать даже некой мрачной притягательной силой. Но есть и другое, безоговорочно гнусное: не зло гордыни «сверхчеловека», а зло растления и распада, бессмысленного садизма. Пугала невозможность его разумного объяснения. Сколько раз самых страшных маньяков признавали психически здоровыми, а расследование их «обстоятельств» и «наследственности» обнаруживало полное благополучие по всем пунктам? Жуткие нравственные деформации возникают точно из ничего, и это ужасает более всего: в какие же глубины человеческого «я» тянутся их корни? Отсюда Достоевский выводит свое представление об иррациональной природе человека. Самые глубинные импульсы — НЕ рассудочного происхождения. Это одна из главных тем романа «Униженные и оскорбленные», героев которого критик назвал «униженными, упивающимися собственным унижением». Они лелеют свое право быть оскорбленными, право ненавидеть, ибо это почти единственное земное их достояние. Нелли не хочет принять благополучия, даже богатства, за которыми ей надо обратиться к отцу; потому что принять их — значит в какой-то мере простить то, что было, оценить на деньги страдания и смерть своей матери, собственные несчастья и унижение. Они слишком дорого ей стоили, и нет таких земных благ, ради которых она расстанется со своим правом умереть непримиренной и непростившей. Иррациональное в человеческой душе высвечивает также концепция «любви-страдания». Критика сочла художественно неубедительной любовь героини к бесхарактерному юноше. Из Алеши кто угодно вьет веревки, а сам он способен навязывать свою волю только тем, кто имел несчастье его полюбить. У него нет даже тени подозрения, что он несет за них какую-то ответственность. Он кроткий, милый, по-своему любит Наташу; но он не способен задуматься, что ожидает соблазненную им девушку, и лишь утешается мечтами, что все устроится «как-нибудь». Больше того: наивный эгоизм делает источником горя даже достоинства Алеши. Непосредственность и искренность заставляют его каяться в своих изменах, рассказывать, как симпатична ему выбранная отцом невеста, и у Наташи же (разрывая ей сердце) просить совета и утешения. А что — логично: он же страдает при виде ее страданий, значит, надо его пожалеть и приласкать! Эмоции выплескиваются из Алеши легко, и покаяние не только облегчает его, но и умиротворяет. Ничто не ляжет тяжким грузом на его душу. «Булат железо и кисель не режет», — говорит русская пословица. Вечный мальчик, милый и инфантильный, он принадлежит к типу людей, тем более опасных в любви, что они добры и обаятельны: людей, на которых нельзя положиться. Действительно, как же Наташа полюбила такого человека? Очень неразумно. Но разве любят разумом? Другая вынесенная с каторги тема — преступления и зла — тоже навсегда поселилась в прозе Достоевского. «Преступление и наказание» часто трактуется в духе концепции «среды»: общество калечит свои жертвы не только физически, но и духовно, отправляя их на панель, в кабак, на каторгу. К этому назидательно добавляют, что убивать все же нельзя и это доказывают угрызения совести Раскольникова. Убивать, конечно, нельзя, но в прочем сразу требуются уточнения. Во-первых, в романе есть герой, который с большим воодушевлением излагает как раз теорию «среды»: «Всё зависит, в какой обстановке и в какой среде человек. Всё от среды, а сам человек есть ничто», — говорит некто Лебезятников... которого автор аттестует как одного из легиона «всему недоучившихся самодуров», что приклеиваются к модным идеям. Во-вторых, Раскольников НЕ чувствует угрызений, признаваясь в убийстве! Во всяком случае, таких, которые он мог бы опознать. Он до конца убежден в истинности своей теории, а охватившее его страшное чувство отчуждения от всех людей объясняет лишь тем, что задача оказалась ему не по плечу. К чему сводится его теория? «Убей ее и возьми ее деньги, с тем чтобы с их помощию посвятить потом себя на служение всему человечеству и общему делу: как ты думаешь, не загладится ли одно крошечное преступленьице тысячами добрых дел?» — говорит студент в трактире. Раскольников поражается: в его собственной голове бродят «такие же точно мысли». Идея как бы витает в воздухе. Собственно, почему бы и нет? Если бы, скажем, некое великое открытие не могло состояться без человеческой жертвы, разве гений (условный «Ньютон») не может взять это на свою совесть? «Одна смерть и сто жизней взамен — да ведь тут арифметика!» Раскольников спокойно уточняет, что это не дает Ньютону право резать встречных и поперечных; а у «не-Ньютонов» и вовсе нет никаких прав. Вот две составляющие этой доктрины: арифметика и теория разрядов, или «наполеоновская идея». Пушкинский Борис Годунов, решаясь на убийство царевича, вероятно, тоже утешал себя «арифметикой» («за одну жизнь — тысячи жизней...»), да и теорией разрядов заодно: разве можно считать, будто правитель государства — обычный человек, на которого распространяются обычные законы? Годунов страшно ошибся. Возможно, сработал неучтенный фактор? Все-таки он убил ребенка, к тому же — законного наследника престола. Ведь именно это лишает его поддержки народа. А если поставить «чистый» эксперимент? Пусть это будет не ребенок, а гнусная, зловредная старуха, «которую убить сорок грехов простят»? Ведь минус на минус должен дать плюс. Уничтожь зло — и сотворишь добро. Еще Байрон сожалел, что Наполеон использовал свою власть во зло. И герой одного из романов Ж.Санд говорит: «Если бы гений Наполеона вдохновлен был учением утопистов, возможно, оно преобразовало бы мир». Благие намерения бессильны, ибо мораль ограничивает их в средствах для достижения цели. А «наполеоны», не стесняющие себя моралью, действуют во имя собственного успеха. Раскольникова соблазняет идея синтеза целей Мессии и средств Наполеона. И даже с признанием в полицию он идет, не разуверившись в самой идее, идет только оттого, что «проба» показала: он — не право имеющий, а дрожащая тварь. И как честный человек (хоть это-то он хочет за собой оставить) Раскольников должен признать, что посягнул на не принадлежащие ему права. Раскаяние — «он бы обрадовался ему! Муки и слезы — ведь это тоже жизнь. Но он не раскаивался в своем преступлении». Иными словами, герой так и не находит слабое звено в цепи логических рассуждений, которые толкают его на убийство. В поисках этого слабого звена обычно указывают на невозможность синтеза гуманной идеи и аморальных средств. Средства не столько оправдывают цель, сколько изменяют ее под себя. Во имя любви к Богу велись религиозные войны и совершались массовые убийства «ближних»; во имя любви к людям и социальной справедливости развязывался кровавый революционный террор. Самовольно возвысившись над людьми, нельзя сохранить к ним прежний интерес и сострадание, потому что с этой новой высоты все видится с иной («наполеоновской») точки зрения: зачем помогать слабому и нежизнеспособному? — пусть оно гибнет (и Дарвин с нами)! Так как совесть представляет собой комплекс абсолютных моральных запретов на некоторые действия, не исключая тех, которые разум квалифицирует как удовлетворительные при данных обстоятельствах («за одну жизнь — тысячи жизней...»), существование совести плохо совместимо с последовательным рационализмом. Логика Раскольникова опирается именно на такой рационализм. И она близорука. Герой рассуждает, что само по себе убийство отвратительной старухи-ростовщицы — даже и не зло. Но в мире ничто не существует само по себе. Ни один человек не в состоянии просчитать цепь событий и изолировать бесчисленные непредусмотренные последствия единичного поступка («логика предугадает три случая, а их миллион…»). И Раскольникову не раз дается возможность в этом убедиться. На пути к убийству он натыкается на целую череду случайностей. То, что происходит с ним самим после убийства, тоже не поддается контролю. Он лихорадочно мечется по квартире, теряет время, забывает даже запереть дверь, в которую входит Лизавета, вернувшаяся раньше, чем он рассчитывал... Кстати, Раскольников почти и не вспоминает об убийстве Лизаветы, хотя вот здесь-то бы и каяться. И не удивительно. Ее гибель — только следствие, причина всему — смерть старухи, то самое «маленькое» зло, за которым тянется все остальное. В орбиту преступления втягиваются судьбы все новых людей, а где-то на заднем плане маячит опубликованная Раскольниковым статья, излагающая теорию «крови по совести», — кому-то она еще попадется на глаза! А самое страшное зло, похоже, он причинил себе… Идея Раскольникова отбрасывает своеобразную двойную тень в свете двух своих проекций: теории «арифметики» и наполеоновского «права сильного». Первая тень — Лужин: последовательно плоский рационализм. «Доведите до последствий, что вы давеча проповедовали, и выйдет, что людей можно резать», — со злобой замечает Раскольников. Злоба эта — не оттого ли, что по его теории тоже «людей можно резать», а в конце концов приходится признаться: «Я просто убил; для себя убил, для себя одного»? Вторая тень — Свидригайлов: последовательное воплощение идеи «человека по ту сторону добра и зла». Эффектно его появление в романе. Когда Раскольников пробуждается от страшного сна, в котором пытается (и никак не может!) снова убить старуху, он видит пристально разглядывающего его незнакомца. Свидригайлов появляется точно из его кошмара, из подполья сознания. И между ними завязывается странный разговор, в ходе которого у Свидригайлова вырывается невольная реплика: — Ну, не сказал ли я, что между нами есть какая-то точка общая, а?.. Давеча, как я вошел, тут же и сказал себе: «Это тот самый и есть!» Может показаться, что речь об убийстве. Это и пугает Раскольникова. Но разговор с Сонечкой Свидригайлов подслушает только вечером. Он действительно не знает, почему вырвались у него слова «тот самый». Они имеют объяснение только на метафизическом уровне романа: героя узнает его двойник.— Что это такое: тот самый? Про что вы это? — вскричал Раскольников. — Про что? А право, не знаю, про что... — чистосердечно, и как-то запутавшись, пробормотал Свидригайлов. Двойники — проекции в альтернативное будущее: каким Родион мог бы стать, выдержав свою «пробу». Замечательно здесь фабульное сходство с «Отверженными» (Достоевский восхищался этим романом Гюго). В череде приключений Жана Вальжана есть особенно драматический эпизод, когда совесть побуждает его донести на себя и пойти на каторгу, чтобы спасти невинного, а рассудок убеждает, что такой шаг самым печальным образом отразится на судьбе множества людей, которые сегодня зависят от его доброй воли. Однако, в отличие от Раскольникова, Жан Вальжан не рассудочный человек: он живет сердцем и ясно слышит голос совести, уничтожающий нравственную казуистику, подсказанную умом, — хотя это не делает его выбор более легким. Но, возможно, самым трагичным из романов Достоевского оказался роман о судьбе Добра и Красоты. «Идиот» — роман о втором пришествии (и повторном распятии) Христа. Мотив «пришествия» реализован нарочито приземленно: зябким осенним утром в Петербург приезжает неприметный молодой человек, долго лечившийся в Швейцарии от эпилепсии. Он возвращается к людям как бы ниоткуда — из своего безумия. Само его имя — Лев Мышкин — знаковое: сочетание силы со слабостью. И то и другое — в его беспредельной доброте. Не случайно к нему так тянутся люди, особенно дети. В мире страшно не хватает доброты. Но люди отучились иметь с ней дело. Душой они влекутся к Мышкину, рассудком презирают его как юродивого, слабоумного. Идиот — это оценка, вынесенная Мышкину рассудком, а сквозь нее просвечивает другая оценка — людям, выносящим такой приговор, и миру, в котором они живут. Любовь к людям помогает Мышкину глубоко понимать и тонко судить о них, потому что дает со-чувствие, со-переживание. Как и у Чацкого, у него «ум с сердцем не в ладу», но Мышкиным управляет не ум, а именно сердце. Потому он видит и понимает скрытое от других (особенно светлое), но не видит и не понимает того, что ясно всем прочим. Он радостно замечает Ганечке Иволгину: — Теперь я вижу, что вас не только за злодея, но и за слишком испорченного человека считать нельзя. Вы, по-моему, просто самый обыкновенный человек, какой только может быть, разве только что слабый очень и нисколько не оригинальный. Он прав, но… он совершенно не ожидает, что его собеседник может оскорбиться, хотя такую реакцию любой на его месте предвидел бы без труда. И Ганечка цедит в ответ:— Заметьте себе, милый князь, что нет ничего обиднее человеку нашего времени и племени, как сказать ему, что он не оригинален, слаб характером, без особенных талантов и человек обыкновенный. Вы меня даже хорошим подлецом не удостоили счесть... Мышкин чужд зла, и потому у него то и дело не оказывается ключа к этой стороне человеческой души. Его вера в лучшее в людях справедлива — в каком-то идеальном смысле, — но мешает понимать такие вещи, как уязвленное тщеславие или ревность.В «Идиоте» звучит знаменитая фраза: «мир спасет красота». Но говорит ее не автор — это слова Мышкина. В действительности Красота и Добро не спасают мира: напротив, мир губит их. Красота (Настасья Филипповна) унижена и осквернена, она сделалась предметом купли-продажи, добро заклеймено как идиотизм. Люди нуждаются в Добре и Красоте, но грязнят и убивают то и другое, потому что не поднимаются до них, а желают просто использовать, стащить вниз, в свою тьму. Пытаясь спасти Настасью Филипповну, Мышкин невольно толкает обезумевшего от ревности Рогожина на убийство. И чем ближе к Мышкину тот или иной человек, тем драматичнее оказывается его судьба. Получается, что не знающий зла лишен возможности творить добро! И «князь Христос» возвращается туда, откуда пришел к людям: в свое безумие. Повторное пришествие завершается повторным распятием. Христиане привыкли повторять имя Учителя, но забыли его самого и его заветы: в романе упорно возникает тема смерти, казни, насилия — знак того, что люди отпали от Христа. Достоевский использует материалы реальной уголовной хроники: среди них — история крестьянина, которому приглянулись серебряные часы товарища. Перед тем как зарезать его, он возводит глаза к небу, крестится и говорит: «Господи, прости ради Христа!». Поражает «формальное» в этом поступке: человек призывает Бога в свидетели нарушения самой важной Его заповеди. Ритуалы (жест и слова) видятся чем-то самоценным. Неоднократно упоминается в романе нашумевшее дело Витольда Горского — 18-летнего гимназиста, убившего с целью ограбления шесть человек в доме, где он давал частные уроки. Достоевский особенно акцентирует реплику адвоката на суде: — Естественно, говорит, что моему клиенту по бедности пришло в голову совершить убийство шести человек, да и кому же на его месте не пришло бы это в голову? Умышленное убийство шести человек представлено «естественным» следствием данных обстоятельств (бедность); более того, «естественной» признается и такая логика адвоката.Вот отчего Достоевский не желал принять теории «среды»: она в его глазах исключает такие понятия, как мораль, личная ответственность и т.п. Человеку нужны деньги, и он «естественно» убивает; общество так же «естественно» обороняется от убийцы судом и каторгой. Если это все естественно, значит, свобода — пустое слово. В таком мире нет и не может быть места для Бога. Роман продолжает тему извращения идеи: адвокат «был в полнейшем убеждении, что он говорит самую либеральную, самую гуманную и прогрессивную вещь, какую только можно сказать в наше время». Отсюда тянется ниточка к «Бесам». Книга о Христе дополняется книгой о Сатане. Последние три романа в той или иной степени стали откликом на теракты, начало которым положил выстрел Каракозова. «Бесы» возникли из стремления понять, как стало возможно в России подобное явление. В череде «бесов» и «бесноватых» есть фанатики и авантюристы, есть люди просто недалекие или подлые, есть умные и искренние, но увлеченные ложно понятыми идеями. Есть и те, к кому приходит запоздалое раскаяние. В этой галерее выделяется своеобразная бесовская «троица»: идеолог, организатор и харизматик-экспериментатор «по ту сторону добра и зла». А «отцы» этого поколения «детей» — люди, которые по-страусиному закрывали глаза на ужас и грязь жизни, чтобы невозбранно упиваться своими тонкими чувствами. Из произведений Достоевского именно «Бесы» — роман-предупреждение — оказались особенно ненавистны сталинскому режиму. Все рабы и в рабстве равны. В крайних случаях клевета и убийство, а главное – равенство. Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов. Высокий уровень наук и талантов доступен только высшим способностям, не надо высших способностей!.. Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза, Шекспир побивается каменьями… Мы пустим пьянство, сплетни, донос; мы пустим неслыханный разврат; мы всякого гения потушим в младенчестве… Народ пьян, матери пьяны, дети пьяны, церкви пусты... дайте взрасти поколению!.. Одно или два поколения разврата теперь необходимо; разврата неслыханного, подленького, когда человек обращается в гадкую, трусливую, жестокую, себялюбивую мразь, — вот чего надо! А тут еще свеженькой кровушки, чтоб попривык... Герои последних романов Достоевского — молодые люди, несущие в себе дух брожения 1870-х годов: Аркадий в «Подростке», целая галерея детей и юношей в «Братьях Карамазовых». Они уже начинают размышлять над жизнью, но еще не выработали иммунитета к разным, в том числе опасным, идейным влияниям.Достоевский видел, что ожесточение террористов питалось не личной ненавистью к императору. Они убивали и сами шли на смерть ради идеи — возможно, справедливой и гуманной в своей основе, но тоже позволившей себе «кровь по совести». Почему, какими путями бескорыстные и самоотверженные люди (уже не «бесы»!) приходят к подножию эшафота в качестве убийц? В фамилии Карамазов явно отзывался Каракозов. И одним из вариантов окончания романа была смерть Алеши на эшафоте, хотя ни этого, ни какого-либо другого окончания «Братья…» не получили: автор успел написать только один том. Главный вопрос «Братьев Карамазовых» — мера ответственности человека в мире, где царит зло. Иван Карамазов ставит во главе счета, предъявленного им Творцу, страдания невинных детей («слезинка ребенка») — они особенно очевидно воплощают в его глазах мировую несправедливость: — Зачем мне отмщение, зачем мне ад для мучителей, что тут ад может поправить, когда те <жертвы> уже замучены?.. И если страдания детей пошли на пополнение той суммы страданий, которая необходима была для покупки истины, то я утверждаю заранее, что вся истина не стоит такой цены… Не Бога я не принимаю, Алеша, а только билет Ему почтительнейше возвращаю. Мир, как он есть, устроен плохо; Бог жесток, или Он устранился от дел людских — следовательно, его все равно что и нет. От этого рассуждения — прямая дорога к идее о личностях, «право имеющих» заступить опустелое место.Иван, как и Раскольников, прав. Но лишь внутри своего собственного рассуждения. Ошибка не в фактах — они справедливы, — а в близорукой логике. Герой судит так, словно находится ВНЕ этого мира со всем его злом и несправедливостью. Между тем сюжет романа выстроен таким образом, что все четверо братьев, хотя и в разной степени, несут свою долю вины в смерти отца. Братья Карамазовы символически воплощают четыре стороны человеческой природы: эмоциональная (Дмитрий), интеллектуальная (Иван), духовная (Алеша) и физическая (Смердяков). И каждая из них срабатывает на своем уровне. Со Смердяковым проще всего. Это плоть, ничем не просветленная: ни сердцем, ни умом, ни душой. Это «исполнитель» на физическом плане. Но трус Смердяков не смог бы убить без ненависти Дмитрия, который на всех углах проклинал папашу и тем обеспечил убийце прекрасное алиби. Достоевский показал, как «мысленный грех», чистая эмоция ненависти, материализуется, из слова превращаясь в дело. Свой вклад в преступление вносит и мыслитель Иван. Его теория замешана на искренней любви и боли за страдания человечества; но когда идея отпущена «в мир», она обретает собственную жизнь: слушатели приспосабливают ее к своему пониманию. Гуманистические порывы Ивана Смердякову недоступны: если для Ивана «все позволено» — горький упрек Богу, то для Смердякова, понимающего все (в том числе Библию!) буквально, это призыв к действию. Все позволено — значит, можно убить и ограбить папеньку. Смердяков — убивающая рука. Иван — мозг, вручающий убийце теоретическое оружие. Дмитрий — сердце, кипящие страсти, эмоциональный импульс ненависти. Вина кроткого Алеши — самая умозрительная. В роковую минуту, когда все решалось, когда он был нужен своим братьям и мог предотвратить трагедию (этот момент в романе специально подчеркивается), Алеша поглощен своим наивным горем: несбывшимся чудом. Скончался его учитель, инок Зосима, и юноша тщетно ожидает, что тело праведника явит чудо нетления. Когда этого не случается, Алеша так поглощен своей обидой на Бога, что (вопреки напоминанию старца) просто забывает об отце и братьях. «Мог спасти, но не спас». «Человек ищет не столько Бога, сколько чудес», — говорится в сочиненной Иваном «Легенде о Великом Инквизиторе». Но Христос не сходит с креста, когда кричат ему: «Сойди — и уверуем, что это Ты». Он не хочет порабощать человека чудом; ему нужны свободные последователи, уверовавшие в его истину, а не восторги рабов пред ужаснувшим их могуществом. И эта же слабость — жажда чудес, «доказательств» — открывается даже в душе искренне верующего Алеши. На бунт Ивана в романе дан только косвенный ответ — не словами, но через сюжет в целом. Иван судит мир так, как если бы он стоял в стороне от него. Между тем происходящее показывает, что зло творится руками самих людей, которым дано знание добра и зла — и свобода выбора. Общая вина семьи Карамазовых (отца перед детьми, их — перед отцом и друг перед другом) есть общая вина всей семьи человечества, каждого перед каждым. Для Смердякова возможна только физическая смерть, для остальных сыновей Федора Павловича — то или иное искупление. Люди свободны и заблуждаться, но зато они обретают истинный путь сами, а не как гонимое стадо. Человек должен пройти в жизни собственное испытание и прийти к истине не потому, что ее навязали силой, а потому, что это истина. В этом смысл свободы человека. Поэтому Зосима посылает Алешу из монастыря «в мир». И это возвращает к открытию, сделанному еще в «Бедных людях». Человеческая душа не может быть разложена на частные, далее не делимые «характеристики» и «свойства». Любое действие, мысль, чувство — двойственны, соприкасаются и с добром, и со злом. Личность подобна полю, возникающему между полюсами магнита. Нельзя отделить «плюс» от «минуса»: на месте разлома немедленно возникают новые полюса. Исчезнет их разность — исчезнет и поле. Проявлением бесконечной двойственности становится главное свойство человека: свобода, способность к выбору. Человек существует как человек, лишь пока он выбирает между добром и злом; пусть даже он всегда будет выбирать одно и то же, лишь бы он знал свой выбор и его смысл. Даже проявления негативизма («чем хуже, тем лучше») отвечают, по Достоевскому, глубинной потребности Я: быть свободным, не управляемым ничем, будь то чужая воля или трезвые соображения, требующие рациональной, «полезной» реакции. Поэтому персонажи Достоевского так восстают, когда ощущают посягательство другого на свою свободу, попытки манипуляции, даже в благих целях. Именно в этом пункте Достоевский радикально разошелся с доктриной «разумного эгоизма» Чернышевского — в ее вульгаризованной версии. В соответствии с парадоксальной природой творчества Достоевского, его кумирами всегда были «гармоничные» авторы: Рафаэль, Лоррен, Гюго, Пушкин… И в своих размышлениях о свободе человека, о добре и зле Достоевский тоже оказался близок столь непохожему на него Пушкину: Рекли безумцы: — Нет свободы! И им поверили народы, И безразлично в их очах Добро и зло — всё стало тенью, Всё было предано презренью, Как ветру предан дольный прах. Свернуть сообщение Показать полностью
22 Показать 2 комментария |
|
#даты #литература #длиннопост
Какой-то на редкость юбилейный год выдался. А август вообще вне конкуренции: это уже четвертый! 150 лет со дня рождения Теодора Драйзера. «Американская литература до и после его времени отличается почти так же, как биология до и после Дарвина», — сказал современник Драйзера, сатирик и критик Г.Менкен. Имя Драйзера было первым, пришедшим на память создателям соционической теории, когда они подыскивали яркие культурные этикетки для соционического типа «этико-сенсорный интроверт» — он же Хранитель (Conservator). Речь о бросающейся в глаза черте его творчества. Сегодня Драйзера легко принять за моралиста. Но этого «моралиста» и «консерватора» всю жизнь травили за аморальность и подрыв общественных устоев. «Сестра Керри» была подвергнута гонениям со стороны издателей и респектабельной литературной элиты, запрещения «Гения» добивались хранители пуританской морали, а на «Американскую трагедию» обрушились адепты американской мечты. Драйзера не желали печатать, уже напечатанное не желали рекламировать, а то, что все же выходило в свет, сразу объявлялось безнравственным, клеветническим и антипатриотичным. Американский образ жизни требовалось изображать в приглаженном и отлакированном виде. В общем, напоминает биографию какого-нибудь критично настроенного советского писателя эпохи застоя. Так что едва ли не всю жизнь Драйзер сидел на изрядной финансовой мели. Как ни странно, это его спасло: когда он возвращался из служебной «командировки» в Европу (в то время Драйзер был журналистом-обозревателем), то исключительно пустой карман помешал ему воспользоваться разрекламированным сервисом «Титаника». В таких случаях обычно поминают «судьбу». Драйзер, в сущности, писал классические «романы карьеры», столь любимые Бальзаком. Хотя первые два его романа — о женщинах, и развиваются они так, как и следовало ожидать. Попытки заработать на жизнь «неквалифицированным трудом» терпят крах в самом начале, и героиня «Сестры Керри» становится попросту содержанкой — сначала одного мужчины, а потом другого. У Керри есть и душевная тонкость, и талант. Но ни то, ни другое, по большому счету, не востребовано — и даже она сама слабо осознает их присутствие: все оттеснено погоней за жизненным успехом, т. е. за максимальным комфортом. И комфорта Керри в конце концов достигает. Но только происходит это так, как бывает порой во сне, когда обнаруживаешь, что умеешь летать — вот только несет тебя упорно не в том направлении, куда ты стремишься. Керри пользуется успехом у мужчин, но тот единственный человек, которого она могла бы действительно полюбить, оказывается в ее жизни случайным прохожим. Керри добивается успеха в качестве артистки мюзик-холла, но остается не у дел ее незаурядный талант драматической актрисы. И в конце романа, когда она сидит у окна в своей уютной квартирке, в кресле-качалке, автор обращается к ней со словами сострадания: О Керри, Керри! О, слепые влечения человеческого сердца! «Вперед, вперед!» — твердит оно, стремясь туда, куда ведет его красота. Звякнет ли бубенчик одинокой овцы на тихом пастбище, сверкнет ли красотою сельский уголок, обдаст ли душевным теплом мимолетный взгляд, — сердце чувствует, отвечает, летит навстречу. И только когда устанут ноги и надежда обманет, а сердце защемит и наполнится томлением, знай, что для тебя не уготовано ни пресыщения, ни удовлетворения. В своей качалке у окна ты будешь одиноко сидеть, мечтая и тоскуя! В своей качалке у окна ты будешь мечтать о таком счастье, какого тебе никогда не изведать! Издатели устроили «Сестре Керри» бойкот. Продано было всего 456 экземпляров книги — автор получил 68 долларов и 40 центов гонорара. (После выхода этого романа Драйзеру приходилось добывать пропитание, как сейчас говорят, неквалифицированным физическим трудом: в частности, в качестве чернорабочего на железной дороге, с жалованьем сначала 15, а потом 17,5 цента в час.)Другой женский характер выведен в романе «Дженни Герхардт». Здесь особенно много автобиографического материала: Дженни выросла в многодетной семье немца-иммигранта (как и сам Драйзер — девятый ребенок), тоже испытала давление сурового религиозного фанатизма отца, тоже с ранней юности оказалась втянута в борьбу за кусок хлеба. В отличие от Керри, Дженни — тип жертвенный, заранее обреченный как будто не только жестокими законами общества, но и самой судьбой: хотя она обладает даром трогать и располагать к себе сердца окружающих, ее преследуют неудачи. Маленькие люди не созданы для счастья — только для вопроса: «что же дальше?», который раз от раза звучит все безнадежнее. Критика обрушилась на Драйзера не только за мрачность изображенной им картины, но и за ее глубокую аморальность: автор изображает женщин, вступающих во внебрачные связи!! Один из величайших борцов за нравственность, Адольф Гитлер, запретил в Германии книги Драйзера, как «подрывающие мораль и нравы». Новая Америка, которую отразил Драйзер, очень мало напоминала Америку, которую видели Ирвинг, Купер или Готорн. «Для того чтобы добиться успеха... человеку необходимо — пусть чисто внешне — считаться с общепринятыми нормами. Больше ничего не требуется…» — заявляет герой драйзеровской «трилогии желания», Фрэнк Каупервуд. А глубинный закон жизни он выводит для себя еще в детстве, наблюдая за тем, как омар в аквариуме пожирает беззащитную каракатицу. «Под словами На Господа уповаем, выбитыми на нашем долларе, следовало бы добавить: И к черту тех, кто слабее», — заметил однажды Драйзер. Драмы Керри и Дженни, относительно бесправных женщин с ограниченными социальными возможностями, очевидны: они лежат на поверхности. Драма сильного и энергичного мужчины — глубже, и маскируется видимостью успеха. Каупервуд с легкостью лжет другим, но никогда не лжет себе: единственное, что важно в жизни, — это удовлетворение желаний. И мир «трилогии желания» есть мир финансовых операций, сопоставимый по степени разработки разве что с бальзаковским. Три города, в которых разворачивается деятельность Каупервуда (Филадельфия, Чикаго и Лондон), три женщины, которых он любил = желал, три этапа его карьеры: «Финансист», «Титан», «Стоик»… «Снова гигантские авантюры, снова борьба за их осуществление. Снова прежняя беспокойная жажда ощущений и новизны, которую ему никогда не утолить до конца...» Интересно, что писатель, всю жизнь воевавший с католической церковью, свою трилогию сделал чем-то вроде художественной иллюстрации к библейским стихам: «У ненасытимости две дочери: давай, давай! Вот три ненасытимых, и четыре, которые не скажут: довольно! Преисподняя и утроба бесплодная, земля, которая не насыщается водою, и огонь, который не говорит: довольно!» (Притч. 30: 15–16). К концу жизни, проведенной в этой отчаянной борьбе, Каупервуд начинает испытывать потребность оставить что-то после себя. Он задумывает построить на свои миллионы госпиталь для бедных и пышную гробницу для себя; но в итоге построить удается только никому не нужную гробницу. Все накопленное им состояние разлетается прахом под натиском судебных тяжб. Еще в процессе работы над трилогией писатель закончил и издал роман «Гений» — о судьбе художника. А в качестве образца, которому следовал герой «Гения», художник Юджин Витла, Драйзер избрал творчество русского художника-баталиста В.Верещагина. Писатель был хорошо знаком с его картинами, которые экспонировались в США. «Гений» Драйзеру был дороже прочих романов. Но критика отозвалась о нем в уже привычном ключе: слишком реалистичный, а также слишком угнетающий и неприятный; и роман был немедленно запрещен за «провокационную трактовку сексуальности». Однако ни одно из его произведений, которые раз за разом поднимали новую волну скандала, не получило такого резонанса, как знаменитая «Американская трагедия» — возможно, самый «документальный» из романов Драйзера. Ее сюжет был построен на основе примерно 15-ти однотипных уголовных прецедентов, из которых больше всего использована история некоего Честера Джиллетта, утопившего беременную любовницу, чтобы заключить выгодный брак. Родители Джиллетта были богатыми, но глубоко религиозными людьми, что в конечном итоге заставило их отказаться от материальных благ и вступить в Армию спасения. Тема отвержения навязываемых догматов возникнет позже и в романе «Оплот», где младший сын ортодоксального квакера практически повторяет печальную историю драйзеровского Клайда Грифитса. Естественно, работа Драйзера как писателя выразилась не в том, чтобы просто перенести реальные события на бумагу и прикрепить к ним «мораль»: Моя цель не заключалась в морализировании — упаси Бог, — но в том, чтобы по возможности вскрыть подоплеку и психологию реальной жизни, которые если и не принесут отпущения грехов, то хоть как-то объяснят, отчего происходят подобные убийства. Клайд Грифитс — не злодей, и это, наверное, и есть самое трагичное в «Американской трагедии». Он обычный средний человек, разделяющий обычную систему ценностей, ядро которой — успех и богатство. Времена простодушной веры, вселявшей в сердца «страх Божий», миновали, а тем ритуалам и формулам, которые уцелели от прошлого, не удается замаскировать свою пустоту: родители Клайда, как и его прототипа Ч.Джиллетта, как и отец самого Драйзера, навязчивыми проповедями добиваются только того, что поселяют в сердце сына отвращение и к религии, и к вере.«Огромная нравственная сила нужна, чтобы заменить собой оковы предрассудков. По стопам Реформации идет падение нравов», — писал соотечественник Драйзера, философ и проповедник Р.У.Эмерсон. Этой силы нет у Клайда, как у многих других людей. Герою Драйзера не повезло в том смысле, что не многим доводится оказаться перед таким ужасным искушением. Если бы перед Клайдом не замаячил в самый неподходящий момент призрак богатства, он прожил бы самую обычную жизнь добропорядочного американского обывателя (каким он, в сущности, и был). По признанию Драйзера, он получал множество писем, авторы которых утверждали: «Я мог бы оказаться на месте Клайда Грифитса». Писатель прикидывал несколько вариантов заглавия романа, прежде чем сделать окончательный выбор. Он назвал его «Американской трагедией» не потому, что трагично существование преступников и преступности само по себе: трагедия в том, что в душе самого обыкновенного, среднего человека живет готовность пробиваться к комфорту любой ценой — и страх преступления есть лишь страх перед возможным разоблачением. Во всем прочем Клайд ожидает для себя только «любви и счастья». Отвечая на заданный самому себе вопрос: «как происходят подобные убийства?», Драйзер показывает, что Клайд начинает всего лишь с сожалений (в его случае вполне ожидаемых) и предается мечтам — как было бы неплохо, если бы случай освободил его от ставшей помехой любовницы. А потом случай услужливо подкидывает ему идею, которую он с досады начинает вертеть в уме так и сяк: ведь это же просто фантазии, ничего такого… А потом Клайд, не в силах ни на что решиться, предпринимает ряд шагов, которые позволили бы ему откладывать решение как можно дольше, сохраняя иллюзию контроля над ситуацией, — очень распространенная и, опять же, очень понятная человеческая черта. А потом наступает момент, когда он оказывается с Робертой посреди озера, в лодке, арендованной на чужое имя, и с ужасом понимает, что дальше ничего откладывать уже не получится. Все вышло как-то словно само собой. Здесь возникает значимое расхождение с историей прототипа. Джиллетт оглушил свою любовницу и утопил ее. Клайд же ни на одно мгновение не признается себе, что решил убить Роберту, — более того, он и действительно не решается. Он толкает ее от раздражения, от злости на нее и на самого себя. И когда лодка переворачивается и девушка начинает тонуть, Клайд даже и в этот момент не может выбрать: стоит ли спасти ее — или лучше дать ей утонуть: ведь все вышло именно так, как он хотел, и он тут даже ни при чем… Роберта становится жертвой не столько его «преступного умысла», сколько бесхарактерности: В конце концов разве он замышляет преступление? Нет, он просто думает, что если бы случилось такое несчастье, если бы только оно могло случиться… Да, но если бы только оно могло случиться! Темная и злая мысль, которую он не должен, не должен допускать. НЕ ДОЛЖЕН. И все же… все же… Интересно, что похожий сюжетный ход (только не такой драматичный) Драйзер уже использовал раньше в «Сестре Керри»: герой стоит перед незапертым служебным сейфом, и в голове его крутится воистину гамлетовский вопрос: красть или не красть? Пока он колеблется, дверца сейфа захлопывается, и деньги остаются у него в руках. Плоховато у героев Драйзера обстоит дело с пресловутым «законом в себе», которым так восхищался Кант, — вот и плывут они по жизни, отданные на волю случая. Как говорится, когда корабль не повинуется рулю, он повинуется подводным камням. Разумеется, Клайд виновен — в том смысле, в котором говорится о «мысленном грехе». Более того, Драйзер показывает, так сказать, механизм «материализации» такого греха: как из мысли он незаметно становится делом. Однако приговор Клайду выносят за то, чего он, с юридической точки зрения, все-таки не совершал. Причем речь не просто о судебной ошибке: и следствие, и сам процесс ведутся не в интересах выяснения истины, а с целью укрепления «шаткого политического престижа» прокурора-республиканца. В этом смысле прокурор — тот же Клайд Грифитс, только в другом общественном положении и в других обстоятельствах. Судьба Клайда зависит не столько от доказательств его вины и положений закона, сколько от того, какой исход дела более выгоден его судьям. 3-я книга романа — следствие и суд — фактически является документальным произведением. По свидетельству американских критиков, многие из речей на судебном процессе над Клайдом являлись копией тех, которые были действительно произнесены в зале суда над Ч. Джиллеттом. «Американская трагедия» наделала еще больше шума, чем предыдущие романы Драйзера, и была заклеймена представителями католической церкви. В частности, под ее давлением суд присяжных в Бостоне отказался снять запрет с распространения книги в этом городе. Присяжные, как оказалось впоследствии, не имели ни малейшего представления о содержании романа и были уверены, что в нем проповедуются идеи… контроля над рождаемостью. Судья не разрешил Драйзеру и адвокату издателя изложить краткое содержание романа. Таким образом, присяжные вынесли свое решение, даже не зная содержания книги. Кинокомпания Paramount Pictures приобрела у автора права на экранизацию и заказала сценарий С.Эйзенштейну, но впоследствии (в ходе набиравшей обороты антисоветской кампании) отказалась от его сценария под предлогом «депрессивности»: «Нам бы лучше простую крепкую полицейскую историю об убийстве… и о любви мальчика и девочки…». В итоге фильм поставил режиссёр Й. фон Штернберг. После выхода картины в 1931 году Драйзер, которому нравился первоначальный сценарий Эйзенштейна, безуспешно подавал судебный иск против Paramount. По его мнению, киностудия исказила смысл романа. Спустя еще 20 лет Дж. Стивенс снял фильм «Место под солнцем», получивший 6 «Оскаров» и «Золотой глобус», но этой экранизации Драйзер уже не увидел. Я верую в энтузиазм и гений человечества, в увлеченность красотой: ведь о такой увлеченности свидетельствуют священные имена Будды, Зороастра, пророков, Христа, апостола Павла, Сократа — имена всех, кто умел мечтать, слагать песни или совершал благие и прекрасные деяния в истории человечества. Я верую, что нет правды более глубокой, чем та, что ведет к таинственной связи между красотой и счастьем; между добротой и миролюбием; между масштабной, дальновидной политикой и общественным благополучием и процветанием. Однако существует ли прямая связь между этой правдой и помыслами и деяниями отдельного индивида, ежечасно и ежедневно, — этого я не знаю. Т.Драйзер — из личного «Символа веры». Свернуть сообщение Показать полностью
13 |
|
#даты #литература #длиннопост
150 лет со дня рождения Леонида Андреева. Андреев родился на Орловщине, где появились на свет также Тургенев, Лесков, Тютчев, Фет, Апухтин, Пришвин, Борис Зайцев… В Орле родился и М.Бахтин — один из столпов современного литературоведения. Здесь находился приход священника Булгакова — деда будущего писателя. После Москвы и Петербурга это самое «урожайное» на литераторов место России. Но других бонусов при рождении, не считая таланта, Андреев не получил. Он был еще подростком, когда после смерти отца на его плечи свалилась большая семья (мать и пятеро младших братьев и сестер), и зарабатывал репетиторством и писанием портретов на заказ: «Условия мои таковы: портрет поясной, почти в натуральную величину — 10 р. Если же дама, и платье у нее с финтифлюшками, то дороже на 2–3 рубля». (В зрелом возрасте Андреев тоже будет иногда писать картины, но уже ради удовольствия; кроме того, он станет одним из «пионеров» цветной фотографии.) Показать полностью
 2 213 |
|
#литература #даты #длиннопост
250 лет со дня рождения. Само имя Вальтера Скотта — свидетельство давней и не затухавшей популярности писателя в России: оно сохранило старую, начала позапрошлого века транслитерацию на немецкий манер (сейчас его писали бы «Уолтер»). Скотт происходил из знатного шотландского рода и гордился этим. Смальгольмский замок (тот самый, из его прославленной баллады, переведенной на русский В.Жуковским) принадлежал кузену Скотта, а сама баллада была написана по условию, поставленному хозяином, которого Скотт попросил произвести частичную реставрацию замка. Но, как и для Пушкина, для Скотта важно было не громкое имя, а запечатленная в нем история. Он выказывал больше почтения вождю обнищавшего шотландского клана, чем свежеиспеченному английскому лорду. К снобизму отношение у него было ироническое. Когда в 1820 году Геральдическая палата попросила его набросать щит герба, он заметил: Это было совсем нетрудно — ведь до Унии Королевств мои предки, подобно другим джентльменам Пограничного края, триста лет промышляли убийствами, кражами да разбоем; с воцарения Иакова и до революции подвизались в богохранимом парламентском войске, то есть лицемерили, распевали псалмы и т. п.; при последних Стюартах преследовали других и сами подвергались гонениям; охотились, пили кларет, учиняли мятежи и дуэли вплоть до времен моего отца и деда… Геральдический щит и девиз на моем гербе не запятнаны ничем, кроме пограничных разбойничьих вылазок да государственных измен — преступлений, смею надеяться, вполне джентльменских. В литературу Скотта привел интерес к родному фольклору. «Песни шотландской границы» он собирал сам, с риском для жизни скитаясь по труднодоступным местам горной Шотландии, и впоследствии редактировал. За песнями появились баллады и поэмы — целых 20 лет Скотт пользовался огромной славой в качестве поэта.Интересно, что уже в самой первой его поэме — «Песнь последнего менестреля» — обнаружилась бесценная для любого (а особенно для «исторического») писателя способность. Из двух самых популярных ее отрывков один проникнут чувствами, которых Скотту не доводилось испытывать, а другой рисует зрелище, которого он никогда не видал. Скотт до этого и Ла-Манша-то ни разу не пересек, а между тем его строки о переживаниях скитальца, узревшего родимый край после долгой разлуки, были у всех на устах. Еще большей известностью пользовались строфы о Мелрозском аббатстве, которые соблазнили на ночные прогулки к развалинам бесчисленных любителей. …в темной ночи величаво черны Скотт признавался с юмором: «Повинен в том, что задурял людям головы, посылая их любоваться на развалины Мелроза в лунном свете, чем сам я никогда не занимался. И это довольно странно — я ведь часто останавливался в Мелрозе на ночлег, когда не удавалось расположиться где-нибудь поблизости; просто не верится, что мне так и не выпало случая увидеть его при луне».И арки окон, и проломы стены, А в лунном холодном, неверном сиянье Разрушенной башни страшны очертанья… И на каменный пол от цветного окна Кровавые пятна бросала луна… Пер. с англ. Т.Гнедич Следующие его поэмы имели еще более оглушительный успех, в том числе в России. Повесть А.А.Бестужева-Марлинского «Страшное гадание» навеяна скоттовской «Девой озера»; а русские переводчики поэм Скотта всегда «оглядывались» на лермонтовский четырехстопный ямб — близость их бросалась в глаза. Этот феномен называется ритмическая цитата: Старик, ты хмуришься опять? Что можешь ты еще сказать? Я знаю, он — храбрец, старик, Но как морские волны дик. Он честь блюдет — покуда гнев Не вспыхнет, сердцем овладев… В.Скотт. Дева озера (пер. с англ. В.Карпа) Старик! я слышал много раз, Но когда над Англией начала восходить звезда Байрона, Скотт не пожелал с ним соперничать: с чистой совестью присоединился к хору славословий в адрес преемника и… преспокойно переключился на романы. (Байрон говорил, что, повстречай он на своем пути не одного Скотта, а нескольких, он бы уверовал в человеческую добродетель.) Хотя к тому времени Скотту было уже 43 года, и какой-нибудь скептик, пожалуй, решил бы, что начинать поздновато. К счастью, скептиком он не был.Что ты меня от смерти спас — Зачем? … угрюм и одинок, Грозой оторванный листок, Я вырос в сумрачных стенах, Душой дитя, судьбой монах… М.Лермонтов. Мцыри Первый роман Скотта (а за ним и все последующие) вышел без подписи. Он честно решил добывать новую славу с нуля — наверное, также и опасался рисковать уже завоеванной репутацией. Но успех в прозе оказался не меньший. Так, после выхода «Вудстока» в город началось настоящее паломничество желающих увидеть место, где кипели описанные в романе страсти; когда же Скотт в порядке опыта написал роман в духе своей любимой Джейн Остин («Сент-Ронанские воды» — единственное его произведение, где действие отнесено к современности), жители Иннерлейтена возликовали, признав топографию собственного городка, и потребовали, чтобы их позабытый-позаброшенный источник был переименован в Сент-Ронанский. Местечко быстро вошло в моду… О принципах своей работы писатель признавался: «Мне никогда не удавалось составить план, а если и удавалось, так я ни разу его не придерживался». За две недели до окончания работы над книгой он «не больше первого встречного знал о том, что произойдет дальше». Действие романов и повестей Скотта за небольшим исключением происходит в Шотландии или в Англии — и разбросано по времени от XI века до XIX. Названия даны обычно по имени или статусу героя (даже не обязательно главного) либо по месту действия: захватывающие заглавия Скотт считал слишком претенциозными. Бывший главный герой романа сохранил за собой роль «первого любовника», но утратил ведущее положение в сюжете. Скотт собрал и обновил настоящую энциклопедию беллетристических клише: Амплуа: герой и героиня (иногда более одной пары), злодей, суровый отец, верный слуга, чудак-мономан, авантюрист, трикстер, интриган, вероломный спутник, таинственный незнакомец или обладатель «тайного знания» (пророк)… Сквозные мотивы: препятствия в любви, кровная вражда, тайный брак, конфликт убеждений, путешествие, погоня, двойник, самозванство, нападение, плен, побег, ложное обвинение, ревность, похищение, найденный ребенок, тайна происхождения, пророчество… Локусы: дорога, гостиница, замок, дворец, монастырь, стан разбойников, охота, пир, война, мятеж, дуэль, турнир, осада, суд, допрос… До Скотта историческая проза существовала в двух разновидностях. Авторы так называемых антикварных романов интересовались орудиями, одеждой, памятниками, но не психологией людей. А сочинители романов галантно-героических живописали персонажей как своего рода психологических «попаданцев», наделенных мировоззрением современных англичан. Скотт избегает намеков на современность или подчеркивания контрастов (как делали его предшественники) и видит неразрывную цепь событий: прошлое — не параллель, а именно источник настоящего. В создании национального и старинного колорита он держится умеренности: вводить в произведение «слова и чувства, общие у нас с нашими предками, а не наделять их теми, что свойственны исключительно их потомкам». Скотт пишет о вечном, но исторически окрашенном. Такой роман расширял сферу понимания и сочувствия читателя. Ограниченный человек понимает только то, что ему подобно, — всё непохожее вызывает его раздражение или ненависть. Захваленный философами и классиками «просвещенный» читатель XVIII века ощущал себя перлом мироздания и интересовался только собственными совершенствами. Скотт же показал, что цивилизация не сводится к текущему моменту и достойны внимания не только добродетели современного мещанина. И для человека, жившего 200 лет назад, он достиг редкой широты взглядов: в его изображении султан Саладин, мусульманин, едва ли не мудрее и обаятельнее своего противника — доблестного короля-крестоносца Ричарда Львиное Сердце («Талисман»). Неспособность людей представить себе ценности, отличные от их собственных, является, по Скотту, источником многих бед и в частной жизни, и в истории. Это одна из причин того, почему интриганы в его романах терпят крах, даже когда пытаются действовать во благо (Норна в «Пирате», цыган Хайраддин в «Квентине Дорварде»). Невозможно с ограниченным человеческим знанием подменить собой Провидение (законы истории), и так же невозможно решить за другого человека, в чем же заключается его благо. Уже в первом своем романе, «Уэверли», Скотт посмеялся над условными романными моделями. Если (рассуждает он) выбрать подзаголовок «повесть былых времен», читатель будет ожидать готического романа тайн со всеми его штампами, вплоть до уханья совы в развалинах; если поставить «перевод с немецкого», то ждать будут распутных аббатов и деспотических герцогов, масонов и иллюминатов, пещер и кинжалов; если обозначить его «чувствительной повестью», то потребуется героиня с каштановыми локонами и арфой, сбегающая из замка в хижину… и т. п. Мотивируется и выбор имени героя. Распространенные «литературные имена», наподобие Говарда, Мортимера или Стенли, связаны с реальными историческими событиями (для русского уха так звучат фамилии типа Курбский или Шереметев). Белмур, Белвил, Белгрейв — условный герой-любовник (вроде нашего Милона или Миловзора). Скотт же избирает фамилию реальную, но не обремененную готовыми ассоциациями: Уэверли — лицо частное и одновременно типичное. (Очень похоже рассуждает Пушкин о выборе имени «Татьяна» как «нетипичном» для романа.) В «Уэверли» рассказ о шотландских событиях 1745 года — последняя попытка реставрации Стюартов — ведется от лица юноши-англичанина, чужака. Это позволяет английской аудитории Скотта вместе с рассказчиком постепенно освоиться с экзотическими нравами горной Шотландии. Историческая правда для Скотта не тождественна точности дат и костюмов. Передать дух времени важнее, чем увлечься описанием «заклепок» и жертвовать целым ради мелких деталей: точного места какой-либо стычки или могилы второстепенного персонажа. Исторический роман есть как бы точка, в которой история как наука сливается с искусством… Когда читаем исторический роман В.Скотта, то как бы делаемся современниками эпохи, гражданами страны, в которой совершается событие романа, и получаем о них, в форме живого созерцания, более верное понятие, нежели какое могла бы нам дать о них какая угодно история. Вправду ли легендарный Томас Стихотворец предсказал смерть короля — не так уж важно; но важно, что шотландцы сочинили (или сохранили) это предсказание: оно стало свидетельством мнения целого народа, которое иначе как через эту легенду нельзя было узнать. Предания и поверья в романах Скотта характеризуют сознание людей. Так же и «сверхъестественное» существует лишь в представлении героев, как средство анализа их души и совести (ср. в «Борисе Годунове»: «мальчики кровавые в глазах…»). Суеверия действуют — но действуют через человеческую психологию.В.Белинский. Разделение поэзии на роды и виды Все следующие произведения Скотта выходили в свет с подписью «автор Уэверли». Хотя со временем эта тайна превратилась в чистую условность, почти до самой смерти Скотт не признавался в авторстве романов и находил для этого сотню причин. «Гай Мэннеринг» окончательно утвердил репутацию «автора Уэверли» как сочинителя бестселлеров и стал предтечей прославленных детективов. Герой романа, адвокат Плейделл, считается одним из первых сыщиков в литературе: за ним последуют Баккет («Холодный дом» Диккенса), Кафф («Лунный камень» Коллинза), Дюпен Эдгара По и Шерлок Холмс. «Антикварий» понравился публике еще больше и стал любимой книгой самого Скотта: в характер главного персонажа он вложил очень много личного. Работая над ним, Скотт попросил приятеля подыскать для эпиграфа отрывок из пьесы, но в итоге, потеряв терпение, решил, что проще придумать его самому. С тех пор всякий раз, как подходящая цитата на память не приходила, он лихо сочинял несколько строк «старинной пьесы» или «древней баллады». Увлечение Скотта фольклором тоже пошло в дело. Например, в «Пертской красавице» любви героини добиваются трое соискателей: вождь клана, наследник феодального престола и простой кузнец — за последнего она в итоге и выходит замуж. Или в «Квентине Дорварде» — для острого сюжетного хода взят известный сказочный мотив: предсказание впавшего в немилость, но сообразительного звездочета королю, что тот умрет за сутки до смерти звездочета. Слава «шотландского чародея» в России достигла вершины. Пушкин выписывал его романы в Михайловскую ссылку — и в зрелые годы восхищался Скоттом ничуть не меньше. А циник и мизантроп Печорин перед дуэлью читает «Пуритан», почти забывая о завтрашнем поединке: …я читал сначала с усилием, потом забылся, увлеченный волшебным вымыслом… Неужели шотландскому барду на том свете не платят за каждую отрадную минуту, которую дарит его книга?.. Герой «Пуритан» — юноша, одинаково осуждающий все формы нетерпимости, прикрываются ли они идеей порядка или истинной веры, — деспотизм приверженцев короля и фанатизм республиканцев: «Я не хочу видеть вокруг себя только насилие и ярость, то под личиной законной власти, то под влиянием религиозного рвения». Но судьба поставила его между двух огней, и необычайно трудно, а главное — опасно сохранить обыкновенную человеческую порядочность, когда над его головой столкнулись две непримиримые правды.В сходной отчаянной ситуации окажется позже Петруша Гринев из «Капитанской дочки». Екатерина — законная «дворянская царица», но Пугачев как «мужицкий царь» тоже в своем роде есть носитель некой справедливости. И тут обычному человеку уже не удержаться на уровне своей «обычности»: надо либо опуститься до прямой низости, либо быть готовым умереть ради соблюдения завета «береги честь смолоду»! Тема конфликта «двух правд» была очень больной. Потомок старинного и знатного шотландского рода, приходившегося сродни Стюартам, Скотт, как и его соотечественники, тяжело переживал утрату Шотландией независимости после заключения унии с Англией; хотя какое-то время даже английский престол занимал шотландец — Иаков I (он действует в динамичном романе «Приключения Найджела»). Но впоследствии попытки Стюартов вернуть себе утраченные позиции оборачивались лишь безрезультатными, не считая пролитой крови, восстаниями; и к ним писатель обращался неоднократно: «Уэверли», «Черный карлик», «Пуритане», «Роб Рой»… Скотт понимает, что современные категории справедливости и несправедливости слишком узки по сравнению со сложностью реальных явлений. В подходе к истории он применяет тот же принцип, что и к оценке «благородного разбойника» Роб Роя: «Многое на свете слишком дурно, чтобы его хвалить, и слишком хорошо, чтобы xyлить». Гордый вождь дикого горного клана по-человечески великолепен, но он воплощает собой вчерашний день, вынужденный уйти в прошлое. Так же обаятелен мятежный Монтроз — а личность герцога Аргайла, отстаивающего «правое дело», вызывает лишь презрение («Легенда о Монтрозе»). Мария Стюарт («Аббат») красива, умна, обаятельна, даже чувствительна и гуманна — но плачевна ее политическая роль. Одно и то же дело может собирать под своими знаменами людей, движимых разными, даже противоположными мотивами. Осаждая разбойничий замок, Седрик Сакс («Айвенго») тревожится о судьбе последнего потомка саксонской династии, рыцарственный король Ричард — о чести благородной дамы, а Локсли (он же Робин Гуд) — о спасении бедного верного шута, не обладающего ничем, кроме личных достоинств. Возможно, для нас это само собой разумеется. Но надо было очень постараться, чтобы додуматься до этого двести лет назад… Одним из важных признаков вальтерскоттовского романа (это выражение стало устоявшимся термином истории литературы) была двуплановость: судьбы вымышленных персонажей разворачиваются на фоне — более или менее близком — реальных исторических событий, причем обе линии взаимно поддерживают друг друга: люди «иллюстрируют» нравы эпохи, а эпоха «объясняет» людей. (У русского последователя Скотта, М.Н.Загоскина, эта логика открыто декларирована в двойных заглавиях: «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году», «Рославлев, или Русские в 1812 году».) Часто герой попадает в гущу событий помимо своей воли, потому что никто не может просто увернуться от истории, жить вне ее. Принципы построения скоттовского многопланового романа Бальзак сравнил с бетховенскими симфониями: каждая линия постепенно находит свое место в развитии действия. А таких линий у Скотта много: даже в одном из самых коротких романов, «Легенда о Монтрозе», их по меньшей мере пять. Примерно в половине романов Скотта исторические личности действуют в качестве персонажей: они могут быть очень важными, но не центральными — их судьбой писатель может распоряжаться лишь в умеренных пределах. А главные герои — обычные люди; автор может взять их даже из той среды, где раньше литература героев вообще не искала. В «Эдинбургской темнице», например, это женщина низкого звания, которая всю жизнь провела между хлевом, кухней и пашней: необразованная, неромантичная и далеко не красавица. Тем не менее Дженни Динс — чуть ли не самый светлый герой писателя. Скотт соблюдает своеобразный баланс. Он избегает искушения непременно показывать «торжество справедливости» в историческом процессе: слишком много разных «справедливостей» тут сталкивается, да и сам ход истории определяется вовсе не принципами кантовской этики. Поэтому судьбы его реальных героев отражают закономерности истории. Например, в «Кенилворте», где описана блестящая и варварская елизаветинская Англия, треугольник «Елизавета / ее фаворит граф Лестер / его тайная жена Эми Робсарт» замешан на борьбе любви и честолюбия в душе Лестера (сложный психологический образ, вдохновивший нашего И.И.Лажечникова с его «Ледяным домом»). В итоге гибнет и Лестер — жертва компромиссов, и честолюбивый злодей-интриган, и бедная Эми — пешка в играх сильных мира сего. Последнее несправедливо, но логически закономерно. А вот в судьбах персонажей вымышленных Скотт обычно позволяет себе воплотить нормативную нравственную закономерность, «торжество добра» — это та же логика, согласно которой спасается от неминуемой, казалось бы, гибели Петруша Гринев: его помиловали и Екатерина, и сам Пугачев. Дженни Динс в «Эдинбургской темнице» спасает свою сестру, потому что твердо верит в ее невиновность; так же действует и Маша Миронова в «Капитанской дочке». Впрочем, неизбежной у Скотта оказывается только кара, которая настигает злодея или грешника. Иногда может не посчастливиться даже безупречным главным героям («Ламмермурская невеста», послужившая импульсом для оперы Г.Доницетти). Совсем «розовых» окончаний у Скотта почти нет: кто-нибудь да пострадает. (Ср. в пушкинской «Метели»: Марья Гавриловна и Бурмин счастливы, но Владимир погиб.) Объяснение такой установке писатель дал в предисловии к самому знаменитому своему роману — «Айвенго». Читатели (а особенно читательницы) нередко возмущались, что герой соединил свою судьбу не с прекрасной и гордой Ревеккой, а с более бесцветной Ровеной. Оговариваясь, что предрассудки эпохи сделали бы брак христианского рыцаря с еврейкой практически невозможным, Скотт добавил главное свое соображение: …автор позволяет себе попутно заметить, что временное благополучие не возвышает, а унижает людей, исполненных истинной добродетели и высокого благородства. Провидение предназначает не эту награду их страданиям и достоинствам. Читателем романов в первую очередь является молодое поколение, и было бы слишком опасно преподносить им роковую доктрину, согласно которой чистота поведения и принципов естественно согласуется или неизменно вознаграждается удовлетворением наших страстей или исполнением наших желаний. Образ Ревекки и ее судьба доказывают, что добродетель не есть нечто, чем можно оплатить жизненную удачу: она самоценна и гарантирует лишь душевный покой.Принято считать, что положительные герои обычно бледнее, чем отрицательные или неоднозначные. Для романов Скотта это правило тоже справедливо: в «Айвенго» гораздо выразительнее выполненные в балладных традициях образы шута и свинопаса, Робин Гуда (Локсли) с товарищами, еврея Исаака с дочерью и баронов-разбойников; в то время как главный герой — типичный рыцарь без страха и упрека. Но и тут автор стремится не слишком отступить от истины. Когда Айвенго узнает, что ухаживающая за его ранами красавица — еврейка, бедная Ревекка сразу отмечает, каким холодноватым становится его обращения (оставаясь учтивым). Рыцарь-крестоносец XII столетия, каким бы идеальным он ни был, просто не может остаться вне предрассудков своего века. Скотт при оценке людей принимает такие вещи во внимание. Ошибки и пороки его персонажей нередко принадлежат времени, зато достоинства — им самим. (Гоголь прошел по этому пути еще дальше: вспомним героя, патриота и сыноубийцу Тараса Бульбу!) Так же идеализирован Ричард Львиное Сердце, воплощающий в романе мысль об исторической необходимости централизации. Однако в уста одного из его противников Скотт вкладывает реплику, от которой непросто отмахнуться, хотя говорит это слуга узурпатора, т. е. «отрицательный герой»: «Ричард — настоящий странствующий рыцарь, всегда готовый на всякие приключения… А важные государственные дела между тем запущены, и даже жизнь его в опасности». О том же твердят королю Айвенго и Локсли. Получается, что быть идеальным государем Ричарду мешает то же самое, что делает его идеальным рыцарем… Одним словом, есть над чем подумать. Тем не менее скоттовский Ричард — лучшая, на данный момент, надежда Англии. Он стал не норманнским королем, а английским — в тот момент, когда поддержал правое дело и вместе с людьми Локсли ополчился на насильников и грабителей. В образе Ричарда Скотт воплотил свою мысль о том, что благополучие страны может быть достигнуто только ценой разумных компромиссов. Отец отрекся от Айвенго, потому что тот — саксонский рыцарь — присягнул королю-норманну, хотя норманнов саксы воспринимают как завоевателей (похожий расклад повторяется в романе «Талисман»). Однако некогда саксы и англы так же пришли на землю, где обитали кельтские племена. Скотт показывает, из каких элементов создавались современные нации, как они складывались в государства. Непосредственными участниками событий сопутствующие трагические конфликты воспринимаются, естественно, крайне эмоционально, и искать в происходящем «справедливость» с человеческой точки зрения бессмысленно. Но Скотт видит — с расстояния в шестьсот с лишком лет — итог: великую нацию, в которую переплавились народы прошлого. Англия — результат их борьбы, и присутствие знатных саксов и норманнов на свадьбе Ровены и Айвенго — «залог будущего мира и согласия двух племен». (Память о прошлом сохранил язык: собственно англосаксонская лексика — бытовая, а языковой слой «высоких» понятий — французского происхождения.) Та же логика работает у Скотта в освещении больной шотландской темы. В романе «Пират» действие происходит на Шетландских островах, коренное население которых, в раннем средневековье колонизированное викингами, позднее подпало под влияние Шотландии — и относилось к шотландцам точно так же, как сами шотландцы относились к англичанам. Родину Скотта непрерывно захлестывали волны завоеваний. На северных островах осели скандинавы; кельты, оттесненные в горы, разделились на враждебные кланы и истребляли друг друга и всех остальных; сассенахи, занимавшие более плодородные долины, отличались от них даже языком; а «южане» составляли общий предмет ненависти всех шотландцев. Писателя не могла не тревожить эта рознь, особенно в свете наполеоновской угрозы. Вопрос «кто первый начал?» всегда неразрешим там, где в дело замешано столько людей с их противоречивыми взглядами и устремлениями. Поэтому Скотт прежде всего стремится подчеркнуть, что при полной противоположности, например, типов роялиста и пресвитерианина (Клеверхауз и Берли в романе «Пуритане») они подобны друг другу в своем ожесточении и непримиримости. И только бедная женщина Бетси Маклюр просто пытается спасти тех людей, которых может спасти, потому что не ищет правых и виноватых, а слушает голос сердца и совести. Милосердие выше закона и выше права. (Ср: серия катастроф в романе «Певерил Пик» является именно следствием действий «в духе закона»: графиня казнила мятежника и бунтовщика, имея на то законное право, но тем самым навлекла бедствия на всех, включая себя.) Скотт горячо симпатизирует соотечественникам, но видит, что клановая Шотландия принадлежит уже уходящим средним векам; какими бы «захватчиками» ни показали себя англичане, в целом Англия представляет исторически более передовую государственную систему. В общем, Скотт умеет видеть события в перспективе, пользуясь бесценным преимуществом автора исторических романов — знанием будущего. Оно отбрасывает свою тень на «настоящее» время повествования. Например, в «Айвенго», где изображена эпоха еще дофеодальная, действует и «феодальная» фигура Ричарда, и даже «буржуазная» — ростовщика Исаака: власть денег здесь уже более чем убедительна и со временем заявит свои права в полный голос. Герои «из разных времен», действующие в общем сюжетном пространстве, есть почти в каждом романе Скотта; и это тоже история — отраженная в человеке (ср. наших «отцов и детей»: Чацкий и Фамусов, Печорин и Максим Максимыч, Базаров и Кирсанов). Судья в «Роб Рое», дружески прощаясь со своим родичем — диким горцем, — обещает в случае нужды денежную поддержку, а тот в ответ клянется «выбить мозги из черепа» любому врагу судьи (средние века и новое время). «Нравы» для Скотта тесно связаны с эпохой, хотя авторы доскоттовских времен вовсе не соотносили их с историей, в лучшем случае видя в описании нравов средство позабавить читателя: вот, мол, какие странные были наши предки. Это еще одна важная для Скотта тема: как сменяются, говоря языком учебников, общественно-экономические формации. В «Квентине Дорварде» (события ХV века) нищий юноша-шотландец влюбился в принцессу. Квентин — дворянин не хуже ее, но важно не рождение, а положение в обществе, состояние; что же касается рождения, — говорит Квентину ее родственник, — «то все мы происходим от Адама и Евы». Попросту говоря, даже важный аристократ уже признает, что вопрос вообще-то в деньгах. Свита французского короля Людовика XI — палачи и лизоблюды — недвусмысленно отражает мнение автора «Квентина Дорварда» о том, какими руками делается история. Однако и здесь личная несимпатичность исторического деятеля (в данном случае — Людовика) не отменяет ни сложности образа, ни исторической правоты героя. Людовик безжалостен и лукав, умен и суеверен, он строит козни и копит деньги, но цель его — сильное и единое государство; он — макиавеллист до Макиавелли: Людовик XI, хоть и был от природы зол, начал борьбу со злом своей эпохи и в значительной мере нейтрализовал его, подобно тому как яды противоположного действия, говорится в медицинских книгах, нейтрализуют друг друга. Существенная подробность: король вводится в повествование как частное лицо — Квентин по одежде принимает его за богатого cyконщика. Тот же прием и в «Капитанской дочке»: первая встреча Гринева с неизвестным ему Пугачевым. У Пушкина это подчеркивает, что его герои знакомятся как «просто люди»; у Скотта же — тот факт, что прозаичный, расчетливый стяжатель Людовик укоренен в быту и в жизни куда прочнее своего врага, живописного «героического анахронизма» Карла Бургундского. Как бы эффектен ни был Карл, будущее — за его антагонистом, по своей роли напоминающим нашего Ивана Калиту.Но хитроумие и интриги приводят Людовика на край гибели, а спасает его честность и верность Квентина, которого он хотел погубить. Как уже было сказано, автор предпочитает обеспечить победу нравственного закона хотя бы в судьбах своих вымышленных героев, раз уж в истории место для него не всегда находится. Так же неоднозначен и Кромвель в «Вудстоке», и герои «Пуритан», о которых Скотт замечает: Их религиозные убеждения отчасти шли из глубины души, отчасти были приняты из соображений практической выгоды. И сердце человеческое так тонко обманывает себя и других, что, очевидно, ни сам Кромвель, ни те, кто, подобно ему, старались проявить особое благочестие, не смогли бы точно сказать, где кончается их восторженная вера и начинается лицемерие. Зло часто порождает добро, и наоборот. В сюжетах Скотта есть место и случайностям, но это, так сказать, «неслучайная «случайность» — из тех, что Пушкин называл «мгновенным, мощным орудием Провидения». Но ни русского, ни английского классика не превратила в релятивистов способность разграничивать личные качества героя и его объективную историческую (или сюжетную) роль. Такая логика сродни евангельскому изречению: «Невозможно не прийти соблазнам, но горе тому, через кого они приходят» (Лк. 17:1).К навязчивому морализаторству Скотт всю жизнь питал отвращение. Все необходимые уроки морали, по его мнению, преподает людям сама жизнь, а литература — лишь в тех случаях, когда писатель не задается осознанной целью кого-то чему-то учить. И в некотором смысле Скотт заложил основы не только исторического романа, но вообще романа нового времени — когда из литературы начинает постепенно выветриваться «нормативность», а романные амплуа мало-помалу начинают претворяться в полноценные характеры. История становления Скотта-писателя — это история маленького мальчика, околдованного местами и преданиями, связанными с жестокими и героическими деяниями, мальчика, который вырос, чтобы постигнуть истинный смысл — с точки зрения человеческих подвигов и страданий — этих жестоких и героических деяний, и нашел способ соединить в своих романах колдовство и действительность. Д.Дайчес. Сэр Вальтер Скотт и его мир Свернуть сообщение Показать полностью
24 Показать 20 комментариев из 24 |
|
#даты #литература #поэзия #длиннопост
#цитаты в большом количестве! Сто лет назад ушел из жизни Александр Блок — «трагический тенор эпохи» (А.Ахматова). Всякое стихотворение — покрывало, растянутое на остриях нескольких слов. Эти слова светятся как звезды. Из-за них существует стихотворение. Максимилиан Волошин написал однажды:А.Блок. Из Записных книжек Рассматривая лица других поэтов, можно ошибиться в определении их специальности: Вячеслава Иванова можно принять за добросовестного профессора, Андрея Белого — за бесноватого, Бальмонта — за знатного испанца, путешествующего инкогнито по России без знания языка, Брюсова — за цыгана, но относительно Блока не может быть никаких сомнений в том, что он поэт… Лицо его выделялось ясным и холодным спокойствием мраморной греческой маски.А еще все современники отмечали, что он никогда не смеялся. Только улыбался… Как многие русские лирики, Блок имел примесь иноземной крови, хотя его мать — чисто русская: внучка исследователя Средней Азии Карелина и дочь профессора ботаники, ректора Петербургского университета Бекетова. Немецкая фамилия досталась будущему поэту от прапрадеда-мекленбуржца Иоганна фон Блока, который переселился в Россию в 1755 году и состоял лейб-медиком при дворе императрицы Елисаветы Петровны. Так что не только «арап Петра Великого», но и врач его дочери имел знаменитого потомка. В одном из последних своих стихотворений — «Скифы» — Блок отметит как черту русского менталитета протеизм и дар культурной ассимиляции: Мы любим всё — и жар холодных числ, Есть поэты, которые всю жизнь проводят в рамках одной-единственной темы или описывают вокруг нее концентрические круги. Блок — из тех, для кого актуальна тема движения, пути:И дар божественных видений, Нам внятно всё — и острый галльский смысл, И сумрачный германский гений… Мы помним все — парижских улиц ад И венецьянские прохлады, Лимонных рощ далекий аромат И Кельна дымные громады… Рожденные в года глухие Ранняя лирика Блока — однострунная: музыка теней, туманов и снегов. Для «суетного мира» у нее три краски: чернота ночи, белизна снега и графитовая серость сумерек; для мира «подлинного» — мистические цвета: золото, синева, лазурь.Пути не помнят своего. Мы — дети страшных лет России — Забыть не в силах ничего. Блок вошел в русскую лирику певцом Незнакомки, «вечно-женственного». Таинственная Она появляется неизменно под уклончивыми именами: Дева, Заря, Купина — и только единожды называется Прекрасной Дамой: Там жду я Прекрасной Дамы Заря, звезда, солнце — не просто небесные тела, а символы Ее. Весна, утро — не время суток, а знак встречи; зима, ночь — разлуки, ветер — Ее приближения.В мерцаньи красном лампад… Но если приглядеться, то Она в «Стихах о Прекрасной Даме» — скорее даже не женщина, хоть бы и идеальная, а… Луна. Отблески лунарного мифа, связанного с темой любовных чар, царства мертвых и т. п., объясняют частоту повторов «плывешь», «всплыла» и странные — если применить их к женщине — образы: В ночь молчаливую чудесен Необычно сплавляются признаки пейзажа и портрета; в облике природы проступают черты женского лица (воспринятая от Вл. Соловьева идея женственной души мира):Мне предстоит твой светлый лик… Ты в белой вьюге, в снежном стоне Опять волшебницей всплыла… Ты рассыпаешь кругом жемчуга… Слышал твой голос таинственный, Ты серебрилась вдали… Ты горишь над высокой горою, Недоступна в Своем терему… Там лучезарным сновиденьем В лазури строгой блещешь Ты… Белая Ты, в глубинах несмутима… Ее необычайный глаз… Закатная, таинственная Дева… Над печальными лугами Мы встречаемся с Тобой… И очи синие бездонные цветут на дальнем берегу… Блок занимает первое место среди русских поэтов по частоте таких образов, как заря, рассвет, закат, туман, мгла, снег, буря, вьюга, ветер, вихрь, костер — и прочих знаков стихий. И он же чаще всех соединяет тему природы с темой другой стихии — любви. Только восходы и закаты первого тома лирики позже сменяются вьюгами и метелями; они связаны с переживанием гибельности:А ты всё та же: лес да поле, да плат узорный до бровей… Нет исхода из вьюг, Вся «вьюжная» тематика «Снегов» — раскрытие метафоры «вихрь страсти». Незнакомка становится Снежной Девой, уводящей в смерть. Она холодная, кружащая, губительная. Она сама — метель. Мир — круг, сфера, бездна; он не имеет границ, он алогичен, но по-прежнему музыкален, хотя музыка сменилась:И погибнуть мне весело, Завела в очарованный круг, Серебром своих вьюг занавесила… Это — дьявольский сплав из многих миров, преимущественно синего и лилового. <…> Врывается сине-лиловый мировой сумрак (лучшее изображение всех этих цветов у Врубеля) при раздирающем аккомпанементе скрипок и напевов, подобных цыганским песням. С неизменным постоянством, в духе любимого поэтом Вагнера, сплетаются темы музыки, любви и смерти — как необоримых стихийных сил.Блок. О современном состоянии русского символизма Образ страсти-вьюги сопровождает даже тему Кармен (хотя, казалось бы, где метель — и где знойная испанская красавица). Цикл «Кармен» посвящен оперной певице Л.А.Дельмас, которую Блок увидел и услышал именно в опере Бизе: Бушует снежная весна, Театр цеплял самые глубинные эмоциональные струны в душе Блока. Даже роман с «Прекрасной Дамой» — Л.Д.Менделеевой — получил решающий толчок после того, как они сыграли Гамлета и Офелию в любительском спектакле. Актрисами были В.А.Щеголева («Черный ворон в сумраке снежном…») и Н.Н.Волохова, которой посвящен цикл «Снежная маска»:Я отвожу глаза от книги… Нет исхода вьюгам певучим! С Волоховой Блок познакомился, когда она играла в его пьесе «Балаганчик». В драматические сочинения Блока вторглась горечь, которой — до поры — не было в его стихах, хотя она уже проникла в жизнь поэта. Он расплачивался за свой юношеский идеализм.Нет заката очам твоим звéздным! Рукою, поднятой к тучам, Ты влечешь меня к безднам!.. Мир из театра стал балаганом, даже балаганчиком, где пляшут марионетки в картонных шлемах, с клюквенным соком в жилах. Ожидаемая мистиками «Дева далекой страны» оказывается сначала Коломбиной, лукавой невестой Пьеро, а потом — картонной куклой. Вот все, что осталось от «Стихов о Прекрасной Даме»: картонный шлем и деревянный меч. Восторженный Арлекин прыгает в распахнутое окно, но даль, видимая в окне, нарисована на бумаге, и Арлекин летит вверх ногами в пустоту. (Этот прием позже появится в таких фильмах, как «Шоу Трумэна» или «О смерти, о любви».) Балаганчик — фальшь, но «настоящая жизнь» — и вовсе фикция. Блоковский театр — подмостки, на которых мечта сталкивается с реальностью. Героиня «Незнакомки» звездой падает в земной мир, где оказывается между грубой пошлостью кабака и утонченной пошлостью светского салона. Для обитания звезд земля не подходит. На перекрестье действительности и мечты — Лангедока эпохи альбигойских войн и легендарной Бретани — существует и рыцарь Бертран («Роза и Крест»). Блоковские драмы — трагедии человеческой любви, стоящей на узкой вершине между двумя обрывами: «любовью ангельской» и «любовью животной». Людям будешь ты зовом бесцельным. Блоку случилось превратить в поэму один из собственных снов. Так появилась на свет «Ночная Фиалка». Странный сон и странная поэма. Она написана свободным стихом и причудливо соединяет картину петербургских болот с легендой о скандинавских королях, рыцарях и певцах, сидящих в избушке за огромной пивной бочкой и погруженных в вековой сон. Странником в мире ты будешь! В этом — твое назначенье, Радость–Страданье твое. Это затишье — пауза перед бурей, принцип симфонического контраста. Наплывает страх перед вторжением хаоса. «Безвременьем» назвал Блок тягостную атмосферу начала нового века, оплетенную «серой паутиной скуки»: «Нет больше домашнего очага… Радость остыла, потухли очаги. Времени больше нет. Двери открыты на вьюжную площадь». В стихах эпохи «безвременья» рождается образ демонической колдовской Руси. Дебри, болота, зарева пожаров, снеговые столбы, где кружатся ведьмы, ночные хороводы разноликих народов, пути и распутья, ветер и вьюга, страшная, нищая Россия — другая блоковская Она, вся в движении, в полете, взметенная и взвихренная. Русь, опоясана реками Сквозь туман болот проступают образы его копошащихся, снующих и шелестящих обитателей: чертенят, «дурачков» («нежить, немочь вод»), «болотного попика» — шекспировских «пузырей земли».И дебрями окружена, С болотами и журавлями, И с мутным взором колдуна… Стихи сборника «Распутья» напоминают записи бреда, ночных кошмаров: пугающие, бессвязные детали урбанистического пейзажа. Вот двойники в костюме Арлекина тащатся по базару: один — юноша, другой — старик. Вот «недвижный кто-то, черный кто-то» считает людей, угрюмо плетущихся через ворота фабрики. Невидимки, карлики, «на Звере багряном Жена»… По городу бегал черный человек. Даже обычная утренняя процедура (по утрам на улицах гасили газовые фонари) выглядит как часть некого инфернального пейзажа. Надрывные и хриплые, как шарманка, песни о проклятии труда, нужды, запоя и разврата смешиваются с мрачной музыкой «Плясок смерти»…Гасил он фонарики, карабкаясь на лестницу… В кабаках, в переулках, в извивах, «Электрический сон наяву» — это «синема», кинематограф. Прогресс не столько изменил жизнь, сколько подчеркнул неизбывность ее трагизма. Сны кинематографа приходят на смену снам театра, однако так и не претворяются в реальность. В «Шагах Командора» «пролетает, брызнув в ночь огнями, / Черный, тихий как сова мотор» — автомобиль; но это ничего не меняет ни для Дон-Жуана, ни для Анны. В «Авиаторе» тема полета — сбывшейся многовековой мечты человечества — связана не с ликованием, а с ужасом:В электрическом сне наяву Я искал бесконечно красивых И бессмертно влюбленных в молву… Иль отравил твой мозг несчастный Жизнь Блока, и прежде всего жизнь в поэзии, протекла под знаком музыки. Он писал: «Когда меня неотступно преследует определенная мысль, я мучительно ищу того звучания, в которое она должна облечься. И в конце концов слышу определенную мелодию. И тогда только приходят слова…». А уже из слов рождаются стихи.Грядущих войн ужасный вид: Ночной летун, во мгле ненастной Земле несущий динамит? Блок не «сочиняет», а слушает некий внутренний голос. Бывшие школьники помнят знаменитый камень преткновения в стихотворении «Фабрика»: авторское написание, которое Блок в этом конкретном случае упорно отстаивал, — «жолтый»: В соседнем доме окна жолты. Это «О» обычно не объясняют толком — только туманно замечают, будто это «знак пошлости», которая, как печать, лежит на отражаемой картине; хотя непонятно, почему О — более пошлая буква, чем Ё. (Школьники, как правило, просто заключают из этого, что Блоку разрешали делать ошибки, а им — нет.) Можно, конечно, рассматривать конкретные контексты, указывать, что О подчеркивает звучный ассонанс (три ударных О рядом), или созвучие с рифмой «болты», выделяя ее (люди как гайки), или создает зрительный образ окна — засасывающей воронки — через саму форму буквы.По вечерам — по вечерам Скрипят задумчивые болты, Подходят люди к воротам… Но в любом случае такое выделение показывает, что здесь эпитет не тождествен просто цвету, эмоционально подчеркнут. Иначе говоря, Блок, с его острым музыкальным чутьем и поэтической интуицией, так слышал — и настаивал на этом. В других случаях он сохраняет общепринятую форму: В черных сучьях дерев обнаженных Есть и другие примеры. Вот рукописная помета для корректора на одном из стихотворений: «Мятели — здесь необходимо сохранить это написание, в противоположность Снежной Маске». (В «Снежной маске» у Блока написание опять же обычное: «метель».)Желтый зимний закат за окном… Кроме «жолтый» и «мятель», у него попадаются также «корридор», «решотка», «павилика», «сгарать», «близь», «отвека» и даже «ввышине». А когда Блок использовал в одном стихотворении образ Эдгара По, то настаивал на собственной транскрипции слова sir — «сőр»: так оно звучало для него «тургеневским звуком с французским оттенком». Всякая моя грамматическая оплошность в стихах не случайна, за ней скрывается то, чем я внутренне не могу пожертвовать. Он, как ваятель Возрождения, отсекал лишнее от бесформенной глыбы мрамора, освобождая красоту, томящуюся внутри:…искусство есть чудовищный и блистательный Ад. Из мрака этого Ада выводит художник свои образы; так Леонардо заранее приготовляет черный фон, чтобы на нем выступали очерки Демонов и Мадонн; так Рембрандт выводит свои сны из черно-красных теней, а Каррьер — из серой сетчатой мглы. Поэма «Возмездие» родилась из разлитого в воздухе напряжения накануне мировой войны, из ощущения «слома времен». Обрывки воспоминаний перемежаются всплывающими знаковыми образами ушедшей и уходящей эпохи: Грибоедов и Достоевский, Врубель и Софья Перовская…Век девятнадцатый, железный, Все отчетливее проступает образ России, с ее «нищей красотою / Зыбучих дюн и северных морей» — образы, ничуть не похожие на идеально-неземные пейзажи первых сборников:Воистину жестокий век! Тобою в мрак ночной, беззвездный Беспечный брошен человек! В ночь умозрительных понятий, Матерьялистских малых дел, Бессильных жалоб и проклятий Бескровных душ и слабых тел!.. …Двадцатый век... Ещё бездомней, Ещё страшнее жизни мгла (Ещё чернее и огромней Тень Люциферова крыла)… Когда в листве сырой и ржавой Все уже определившиеся блоковские темы проходят как бы в контрапункте. Светлая мелодия периодически вспыхивает посреди надвигающегося мрака — рано или поздно «угль превращается в алмаз»:Рябины заалеет гроздь… Над скудной глиной желтого обрыва В степи грустят стога… Сотри случайные черты — Но одновременно звучат и «голоса из хора» — «о том, что никто не придет назад» («Девушка пела в церковном хоре»), о «мраке грядущих дней» («Голос из хора»). И ты увидишь: мир прекрасен. Цикл «Страшный мир» — пространство энтропии, однообразия, утрат, загроможденное предметами: зло грубо-материально. Возникают мотивы «Демона», дантовского «Ада», зловещие «Пляски смерти». Если есть что-то мрачнее картин танцующих мертвецов и закутанного в плащ скелета, то это холодно-равнодушное: Старый, старый сон. Из мрака Фонари бегут — куда? Там — лишь черная вода, Там — забвенье навсегда. Пусто, тихо и темно. Наверху горит окно. Все равно. Я сегодня не помню, что было вчера, То, что было источником надежды, утопает в пошлости мещанского быта, в деталях, для Блока небывало прозаичных.По утрам забываю свои вечера… Когда невзначай в воскресенье Из утраты цельности рождается образ двойника. В октябрьском тумане, среди ветра, дождя и темноты, слышится шепот «стареющего юноши»:Он душу свою потерял, В сыскное не шел отделенье, Свидетелей он не искал, А было их, впрочем, не мало: Дворовый щенок голосил, В воротах старуха стояла, И дворник на чай попросил. …Устал я шататься, Мятеж «лиловых миров» и плач скрипок стихают. «Лиловый сумрак рассеивается; открывается пустая, далекая равнина, а над нею — последнее предостережение — хвостатая звезда. И в разреженном воздухе горький запах миндаля…» — писал Блок в статье «О современном состоянии русского символизма».Промозглым туманом дышать, В чужих зеркалах отражаться И женщин чужих целовать… «Хвостатая звезда» — комета Галлея, которую ждали в 1910 году. По предварительным расчетам (впоследствии оказавшимся ошибочными), она должна была столкнуться с Землей. А «миндаль» — напоминание об Экклезиасте; как и комета, он предвестник катастрофы. Экклезиастовские отголоски слышатся и в теме вечного возвращения: Ты здесь пройдешь, холодный камень тронешь, Одетый страшной святостью веков… Забытый гул погибших городов Странный факт: гул, из которого сложилась для поэта «музыка революции», был для него не метафорическим, а вполне реальным. Блок писал, что принял его сперва за шум землетрясения: «Во время и после окончания „Двенадцати“ я несколько дней ощущал физически, слухом, большой шум ветра — шум слитый (вероятно, шум от крушения старого мира)». Через два дня в этом гуле стала проступать музыка — но незнакомая, не та, что налетала на него раньше в рыданье скрипок и цыганских песнях.И бытия возвратное движенье… В «Двенадцати» «черный вечер» революции, кровавые расправы, крушение старого мира — одновременно «гимн к радости»; ритмы поэмы как бы пьяны хмелем свободы. На Блока гневно обрушились друзья, коллеги, знакомые — из тех, кто не признал Советскую Россию (их было большинство). В своем ответе на обличительное письмо З.Гиппиус Блок заметил, что бессмысленно отрицать ход истории: Неужели Вы не знаете, что „России не будет“ так же, как не стало Рима — не в V веке после Рождества Христова, а в первый год первого века? так же не будет Англии, Германии, Франции. Что мир уже перестроился? Что „старый мир“ уже расплавился? Нельзя было, с точки зрения Блока, «принять» или «не принять» удар молнии из заряженных электричеством туч.В «Двенадцати» применена монтажная техника кинематографа — черно-белого, каким знал его Блок, со свойственным старому киностилю мелодраматизмом. В ночь восстания слышен только голос города: крестьянская, деревенская Россия у Блока безмолвствует — поет городская голытьба, рабочие, фабричный люд, всколыхнувшееся дно столицы. «Двенадцать» — не Россия, а Петербург: его ветер, его метельная ночь, его озорная песня и мещанский говорок. Тема вьюги срастается с темой революции, бунта, мятежа. (Не только у Блока, но и у других классиков встречается написание «мятель», сохраняющее этимологию слова: «смятение», «мятеж».) Музыка «Двенадцати» образуется сменой ритмов. О старом мире Блок говорит классическим, иронически-торжественным размером — четырехстопным пушкинским ямбом: Стоит буржуй, как пес голодный, Ямб контрастирует с подпрыгивающими, притопывающими хореями, которые взвизгивают и дергаются: ритм частушек, гармоники и романсов под шарманку. Революционный Петербург порождает вульгарную мещанскую драму Катьки и Ваньки: «уголовный роман» любви, измены и убийства.Стоит безмолвный, как вопрос. И старый мир, как пес безродный, Стоит за ним, поджавши хвост. Гетры серые носила, (Как непохоже на протяжные, словно звон погребального колокола, хореи, которые можно слышать в «Шагах Командора»: «Донна Анна в смертный час твой встанет, / Анна встанет в смертный час…»)Шоколад Миньон жрала. С юнкерьем гулять ходила — С солдатьем теперь пошла? Третья ритмическая стихия «Двенадцати» — не признающая авторитета размеров своевольная фольклорная «тоника». Под ее знаком проходит тема крушения старого мира. Она выдержана в рваном «кинематографическом» стиле, в гамме черно-белого синема: Черный вечер. Постепенно тоника становится разухабистой: Белый снег. Ветер, ветер! На ногах не стоит человек. Ветер, ветер — На всем Божьем свете! В зубах — цыгарка, примят картуз, Это новые Стеньки и Емельки, пресловутый пушкинский «русский бунт»: На спину б надо бубновый туз! Пальнем-ка пулей в святую Русь!.. — и наконец в черно-белой графике возникает цветовое пятно — красный флаг — и звуки «Варшавянки»:Запирайте етажи — нынче будут грабежи!.. Уж я ножичком полосну, полосну!.. Вперед, вперед, вперед, В последние годы жизни Блок вдруг ощутил тишину. И стихи кончились сами собой. После «Скифов» (1918) он не написал почти ничего, кроме стихотворения-посвящения «Пушкинскому Дому» (Институт Русской Литературы РАН на набережной Макарова, бывш. Тучковой).Рабочий народ! Когда спрашивали, почему он не пишет, Блок постоянно отвечал одно и то же: «Все звуки прекратились. Разве не слышите, что никаких звуков нет?» Корней Чуковский вспоминал, как на заседании редколлегии Блок читал свою вступительную статью к изданию Лермонтова. Ему долго объясняли, что о вещих снах поэта можно не упоминать и что вообще следует писать в более «культурно-просветительном» тоне. «Чем больше Блоку доказывали, что надо писать иначе, тем грустнее, надменнее, замкнутее становилось его лицо. С тех пор и началось его отчуждение от тех, с кем он был принужден заседать. Это отчуждение с каждой неделей росло». За полгода до смерти (в сорок лет) Блок читал на торжественном собрании в Доме литераторов речь, посвященную пушкинской годовщине: «О назначении поэта». Покой и воля. Они необходимы поэту для освобождения гармонии. Но покой и волю тоже отнимают. Не внешний покой, а творческий. Не ребяческую волю, не свободу либеральничать, а творческую волю, тайную свободу… И поэт умирает потому, что дышать ему уже нечем: жизнь потеряла смысл… Он прав — опять фонарь, аптека, Нева, безмолвие, гранит... Как памятник началу века, Там этот человек стоит — Когда он Пушкинскому Дому, Прощаясь, помахал рукой И принял смертную истому Как незаслуженный покой. (Анна Ахматова) Свернуть сообщение Показать полностью
16 Показать 2 комментария |