 | Безымянный арт От MariaGr |
 | Еноты🦝🦝🦝 От Республиканская Партия Фанфикса |

|
13 лет на сайте
8 февраля 2026 |

|
150 подписчиков
8 августа 2025 |

|
100 000 просмотров
26 мая 2025 |

|
12 лет на сайте
8 февраля 2025 |

|
500 читателей
5 декабря 2024 |
|
#даты #литература #цитаты #длиннопост
Урожайный на юбилеи месяц! 200 лет М.Е.Салтыкову-Щедрину. Полистаем немножко. «История одного города». Первое привычно выскакивающее слово — «карикатура». Прототипы некоторых глуповских градоначальников очевидны: Сперанский, Павел I, Александр I, Николай I... Однако целый ряд образов строится на чистом гротеске: у одного персонажа голова фаршированная, у другого на плечах и вовсе механический органчик… И сам глуповский хронотоп растяжим. Вроде бы город, и даже весьма заштатный, временами он ведет себя как государство и даже граничит с Византией (прозрачный намек на историческую отсталость). Переплетаются времена, то и дело всплывают заведомые анахронизмы. Глупов — не пародия на конкретных лиц и события. Это сатирическая модель истории, управляющие ею закономерности, запечатленные в художественном образе. История Глупова есть история циклов: пассивность народа → произвол власти → кризис → бунт → карательные меры → снова пассивность... Судьба любого «диссидента» внутри этого механизма печальна. Автор книги «Письма к другу о водворении на земле добродетели» живо превращается в мятежника: власти без труда находят в его писаниях «в омерзение приводящие злодейства». Ежели Богу угодно, чтоб быть на земле клеветникам, татям, злодеям и душегубцам, — стало быть, всякие потуги на водворение добродетели есть мятеж против замысла Божия. И против государства, само собой! А сам народ? Когда его терпение лопается, он бунтует: глуповцы либо массово падают на колени (за чем обыкновенно следуют административные меры усмирения и пресечения), либо азартно несутся скидывать с колокольни какого-нибудь Степку да Ивашку. И озираются: лучше стало жить? Нет? Тогда топят в речке Порфишку да другого Ивашку; потом Тимошку да третьего Ивашку… Причины, по которым избирается тот или иной козел отпущения, никогда не упоминаются. Впрочем, не ведомы они и самим глуповцам. Закон глуповской жизни заключается в бесконечной повторяемости явлений, в замкнутом круге самовоспроизводящихся отношений власти и народа. Так аллюзии на прошлое волшебным образом превращаются в «пророчества» о будущем. Двоекуров, «цивилизовавший» глуповцев посредством введения горчицы и лаврового листа, — очевидное воспоминание о картофельных бунтах 1830–40-х гг. Но у читателя советской эпохи были и свои ассоциации: кукурузные злоключения хрущевского времени. Однотипные последствия порождались одинаковыми обстоятельствами. Прошло больше ста лет, поменялась власть — но ответственные решения по-прежнему принимал один, притом некомпетентный человек. Такого рода злободневных параллелей в романе множество — причем многие не имеют прямых аналогий в прошлом. Особенно это заметно в последних главах, посвященных правлению Угрюм-Бурчеева. Одна из его наиболее героических затей заключается в попытке остановить течение реки и завести собственное море. Она напоминает знаменитый проект ХХ века — изменение русла северных рек (которое привело бы к экологической катастрофе) и реально осуществленное превращение ряда крупных рек, прежде всего Волги, в «цепь каналов, шлюзов и морей», также обернувшееся печальным нарушением экологического баланса. Глупов переименовывается в «вечно-достойныя памяти великого князя Святослава Игоревича город Непреклонск». Практика повального переименования городов тоже полностью принадлежит уже советской эпохе. Праздников в угрюм-бурчеевском мире два. Один весною, немедленно после таянья снегов, называется «Праздником неуклонности» и служит приготовлением к предстоящим бедствиям; другой — осенью, называется «Праздником предержащих властей» и посвящается воспоминаниям о бедствиях, уже испытанных. От будней эти праздники отличаются только усиленным упражнением в маршировке. Тут легко угадываются первомайские и октябрьские демонстрации; совпадает даже время и повод.Прототипом Угрюм-Бурчеева чаще всего называют Аракчеева, создателя проекта военных поселений. Это справедливо. Но стоит обратить внимание на то, что Щедрин поставил Угрюм-Бурчеева в конце всех глуповских «времен»: после него уже нет ничего. А в необычной визионерской книге Д.Андреева «Роза Мира» подчеркивается поразительное — даже внешнее — сходство этого персонажа со Сталиным. Основа и объяснение этого сходства — тоталитарная казарменная утопия. В угрюм-бурчеевском проекте преобразования города предусмотрена тотальная стандартизация жизни. Одинаково расставлены одинаковые дома, населенные одинаковыми людьми, и окна этих домов солнце и луна «освещают одинаково и в одно и то же время дня и ночи». Распорядок дня, бытовые реалии напоминают о самых уравнительных идеях Т.Мора и Т.Кампанеллы, негативно шаржированных. Само собой, для поддержания этого порядка требуются доносчики и шпионы. В идиотическую утопию попадает и космос, небесная механика. «Над городом парит окруженный облаком градоначальник… Около него… шпион!» Великий план неприятно нарушает существование реки, которая возмущает однообразное благолепие. И река становится искусственным морем — правда, всего на один день. Когда с трудом утвержденная плотина рушится, Угрюм-Бурчеев решает оставить место, где «не повинуются стихии». Зловещая карикатура Исхода — истории скитаний в пустыне израильского племени под водительством Моисея. Новый пророк ведет глуповский народ к земле обетованной. Знаменитая развязка романа — приход ОНО — трактовалась различно. Здесь видели и революцию, и еще более жестокую реакцию… Взаимоисключающие мнения наводят на мысль, что финал имеет более общий смысл. В нем различимы очертания Апокалипсиса: Север потемнел и покрылся тучами; из этих туч нечто неслось на город: не то ливень, не то смерч… Воздух в городе заколeбался, колокола сами собой загудели, деревья взъерошились, животные обезумели и метались по полю, не находя дороги в город. ОНО близилось, и по мере того как близилось, время останавливало бег свой. Наконец земля затряслась, солнце померкло… глуповцы пали ниц. Неисповедимый ужас выступил на всех лицах, охватил все сердца. Идиотство агрессивно: не встретив сопротивления в социуме, оно атакует природу, мироздание. — «Погасить солнце, провертеть в земле дыру, через которую можно было бы наблюдать за тем, что делается в аду, — вот единственные цели, которые истинный прохвост признает достойными своих усилий…». Концом таковых усилий может быть не иначе как та или другая мировая катастрофа. Щедрин не берется предсказывать, какую конкретно форму она примет: военную, социальную, экологическую — ясно только, что бесконечное «глуповство» добром кончиться не может.ОНО пришло… История прекратила течение свое. Точность предсказаний сатирика имеет ту же природу, что точность расчета, выполненного по формуле. Даже портретное сходство объяснимо: да, Угрюм-Бурчеев и внешне похож на Сталина, но также и на Аракчеева, и на Николая I… ведь угрюм-бурчеевщина — их общий знаменатель, да и на кого может быть похож поборник казарменной идеи, как не на солдафона? Военные поселения Аракчеева и ГУЛАГ — звенья единой цепи. Щедрин написал обобщенную модель тоталитарно-полицейского государства, опираясь на которую, можно вывести заключение для всех подобных случаев. «Господа ташкентцы». «Ташкентство» у Щедрина — такой же обобщенный образ имперски-колониального стиля администрирования, «азиатских» методов власти и действия. Как термин отвлеченный, Ташкент есть страна, лежащая всюду, где бьют по зубам и где имеет право гражданственности предание о Макаре, телят не гоняющем. Обыгрывая ассоциативную цепочку «Ташкент — Азия — бараны», Щедрин создает иронический образ баранов-обывателей, которые «к стрижке ласковы, подгибают под себя ноги и ждут». Это тоже ташкентцы.Человек, рассуждающий, что вселенная есть не что иное, как выморочное пространство, существующее для того, чтоб на нем можно было плевать во все стороны, есть ташкентец... Ташкентец-администратор — разрушитель по своей природе, потому что в приказном порядке как-то способнее уничтожать, чем творить. Бесполезно приказывать ему открыть Америку. Но вот если повелеть «всех этих Колумбов привели к одному знаменателю» — «вы не успеете оглянуться, как Колумбы подлинно будут обузданы, а Америка так и останется неоткрытою». Однако самым пугающим видится «преемственность Ташкентов». Одни формы азиатчины сменяются другими, и конца этой череде не предвидится: Я вижу людей, работающих в пользу идей несомненно скверных и опасных и сопровождающих свою работу возгласом: «Пади! задавлю!» — и вижу людей, работающих в пользу идей справедливых и полезных, но тоже сопровождающих свою работу возгласом: «пади! задавлю!» Я не вижу рамок, тех драгоценных рамок, в которых хорошее могло бы упразднять дурное без заушений, без возгласов, обещающих задавить. Неизменность методов внушала писателю серьезные сомнения в новизне проводимых с их помощью идей…«Помпадуры и помпадурши». Сатирик превратил в имя нарицательное фамилию любовницы Людовика ХV. Но «помпадурство», как его видит Щедрин, не сводится к фаворитизму в узком смысле слова. Помпадуры — лица, вознесенные к власти не по заслугам. Помпадур — это любой некомпетентный администратор, любой, кто уверен, что закон для него не писан, а должность существует исключительно для удовлетворения его личных потребностей. «Сделайте меня губернатором — я буду губернатором; сделайте цензором — я буду цензором. Всем быть могу; могу даже быть командиром фрегата «Паллада»…» — вот кредо помпадура, свято убежденного, что никаких познаний для применения власти не требуется. Прототипом этого высказывания послужила знаменитая верноподданническая фраза писателя Кукольника: «Прикажет государь, завтра же буду акушером». Впрочем, и нынешний чиновник так же убежден, что может руководить чем угодно, не будучи специалистом: всё, что требуется — быть преданным власти, «колeбаться вместе с линией партии». Помпадуры бывают и драконствующие, и либеральные, но полемика псевдоубеждений сводится к тому, что первые призывают: «шествуй вперед, но по временам мужайся и отдыхай!», а вторые возражают: «отдыхай, но по временам мужайся и шествуй вперед!» И самые благие намерения помпадура сводятся в лучшем случае к изданию указов о прекращении холеры (коим холера не повинуется) или о разрешении курить на улицах — впрочем, с исключениями, коих следует 81 пункт. В конечном счете наилучшим помпадуром оказывается тот, который ни во что не вмешивается. Он предпочтительнее всех «деятелей», потому что (ядовито замечает автор) «даже малый каменный дом все-таки лучше, нежели большая каменная болезнь». Вроде бы идет эпоха реформ — но пресса опасается их обсуждать. Приступаю к чтению передовой статьи. Начала нет; вместо него: «Мы не раз говорили». Конца нет; вместо него: «Об этом поговорим в другой раз». Средина есть. Она написана пространно, просмакована, даже не лишена гражданской меланхолии, но, хоть убей, я ничего не понимаю. Кто пишет эти странные передовицы? Старые знакомцы русского читателя! Cреди сподвижников помпадуров, помимо Ноздрева, Скотинина и Держиморды, — «лишние люди» из романов Тургенева и Гончарова. Щедрин использует знакомые образы, чтобы показать нравственную деградацию вчерашних «героев времени», скисших после утраты независимых доходов.«Господа Молчалины». На взгляд сатирика, бывшие Чацкие и Рудины оказались ниже своей репутации и призвания. Что они реально сделали? Например, Рудин, вернувшийся из Европы, возглавляет департамент «Распределения богатств». Но года через три, ничего не распределив и соскучившись, уезжает обратно, да и департамент уже переформирован в «Предотвращения и Пресечения». В условиях пореформенной жизни вчерашние «оппозиционеры» показали себя не с лучшей стороны: это просто несколько более бойкие и образованные пустословы, которые не столько, пожалуй, изменились, сколько вполне выявили себя — как родственники Загорецких и Репетиловых. А сами реформы? Я, с своей стороны, нахожу, что все усилия оправдать жизненный сумбур какими-то таинственными переездами из одной исторической области (известной) в другую (неизвестную) — по малой мере бесплодны. Человек слишком склонен утешать себя тем, что зло есть плод переходных порядков и что, погодите, не нынче, так завтра — все установится прочно на своих местах, и тогда добродетель предстанет во всем сиянии торжества. Но вот проходят годы, десятки лет, столетия; добродетель давно уже воссияла, а толку все нет. В ушах все с тою же назойливостью жужжит бесконечная, за душу тянущая песня: «вот погодите, не нынче, так завтра…» Где ручательство, что она не будет жужжать и впредь десятки и сотни лет? Нет, видно есть в божьем мире уголки, где все времена — переходные… И в этих уголках счастливейший удел — молчалинство. Заурядность Молчалиных смягчает их оценку. Что с них взять?В то же время, напоминает Щедрин, при безотчетном посредстве этих людей, их руками творится зло: судьи и палачи «ничего не могли бы, если бы у них под руками не существовало бесчисленных легионов Молчалиных». «Дневник провинциала в Петербурге». Пореформенную Россию охватила лихорадка наживы. В воздухе пахло бешеными деньгами, и «приватизаторы» азартно гонялись за выгодными концессиями. А чем занимается интеллигенция, вкупе с прессой? Мысль небезопасна — стало быть, в ход идет имитация мысли, словоблудие — надо же как-то жить! И желательно хорошо... И вот интеллигенция усердно зарабатывает себе на маслице и пастилу. Трудится экономист, собирая материал для исследования «Куда несет наш крестьянин свои сбережения?» Трудится историк, сочиняя статью «К вопросу о том, макали ли русские цари в соль пальцами или доставали оную посредством ножей?» Трудится филолог, автор диссертации «Русская песня: “Чижик! чижик! где ты был?” перед судом критики»… Для них Щедрин тоже подобрал кличку: «За отсутствием настоящего дела и в видах безобидного препровождения времени» учреждается учено-литературное общество под названием «Вольный Союз Пенкоснимателей». «Вольность» его утверждает себя «в свободе от грамматики, этого старого, изжившего свой век пугала». Устав Союза гласит: В члены Союза Пенкоснимателей имеет право вступить всякий, кто может безобидным образом излагать смутность испытываемых им ощущений. Ни познаний, ни тем менее так называемых идей не требуется. Сатирика всю жизнь преследовали упреки и окрики, смысл которых сводился к тому, что он подрывает «краеугольные камни», на которых общество покоится: семью, собственность и государство.Обо всем рассуждать с таким расчетом, чтобы никогда ничего из сего не выходило. По наружности иметь вид откровенный и смелый, внутренне же трепетать. Ежеминутно обращать внимание читателя на пройденный им славный путь. Обнадеживать, что в будущем ожидает читателей еще того лучше. Всё это — дымовые завесы, обеспечивающие спокойствие и безопасность тех, кто под их прикрытием обделывает свои делишки. Попытка потревожить их в этом почтенном занятии, естественно, вызывает вопли о «потрясении основ». «Благонамеренные речи». Какое же понятие имеет обыватель о государстве? А никакого. Чиновники путают его — кто с начальством, кто с казной... Народ — с полицией и налогами. Образованные люди благородно кивают на Европу: дескать, вот где настоящее государство. А так ли это? Государство ограждает собственность и безопасность. Но это относится к обеспеченному меньшинству. А остальные? Какую их собственность и безопасность это государство обеспечивает? А вот отбирать оно умеет хорошо... Революции и войны в той же Европе показывают, что народ, в сущности, не понимает, ни что он разрушает, ни что ему предлагают защищать. И в глубине души даже убежден, что при любой власти хорошо будет лишь тем, кому и сейчас хорошо, — «уверенность печальная и даже неосновательная, но тем не менее сообщающая самому акту всеобщей подачи голосов характер чистой случайности». А когда у избирателей такое понятие о государстве, чем выборы предпочтительнее метания жребия? Между тем «благонамеренные» усердно бдят: обыватели доносят на инакомыслящих, а столпы правосудия делают себе карьеру на громких судебных процессах. Лгуны, рассуждает Щедрин, бывают двух сортов: лицемерные и искренние. Первые втихомолку потешаются над собственной демагогией и обманутыми ею дурачками; вторые твердо в нее верят, но от того ложь не перестает быть ложью. Лицемерные лгуны суть истинные дельцы современности... Они забрасывают вас всевозможными «краеугольными камнями», загромождают вашу мысль всякими «основами» и тут же, на ваших глазах, на камни паскудят и на основы плюют. Это ревнители тихого разврата... Первый сорт лгунов представляется даже более терпимым: возможно, лицемеры омерзительнее, чем фанатики, но…Лгуны искренние бросают в вас краеугольными камнями вполне добросовестно, нимало не помышляя о том, что камень может убить. Это угрюмые люди, никогда не покидающие марева, созданного их воображением, и с неумолимою последовательностью проводящие это марево в действительность. Личный характер людей играет далеко не первостепенную роль в делах мира сего. Я от души уважаю искренность, но не люблю костров и пыток, которыми она сопровождается, в товариществе с тупоумием. Нет ничего ужаснее, как искренность, примененная к насилию, и общество, руководимое фанатиками лжи, может наверное рассчитывать на предстоящее превращение его в пустыню. В смутных сумерках законодательства, при замешательстве тех, кому препятствует честность или нерасторопность, растут, как грибы, новые состояния и новые дельцы. Им Щедрин дает кличку «чумазые». Существуют они за счет тех, кому деликатно твердят: «Уж очень вы, сударь, просты!»Глупость, с точки зрения обывателя, — неиспользованная возможность смошенничать. Вы могли обыграть в карты и не обыграли, вы ничего не украли, управляя чужим имением, вас надули при покупке: «очень уж вы просты!» «Дурак, а дураков учить надо». Отдал расписку, не получив еще денег, — дурак! Воры обчистили — дурак! Давали взятку, не взял — дурак! «Я слышу наглый панегирик мошенничеству, присваивающему себе наименование ума», — резюмирует рассказчик. «Убежище Монрепо». Пореформенная Россия, казалось, открыла путь к инициативному «свободному труду». Но новые законы не изменили ни старого менталитета, ни старых практик. Механизм, двигавший крепостную экономику, исчез, а нового не завезли. Раньше был страх, работа из-под палки. Теперь… Герой очерка, незадачливый землевладелец, разбирается с идеей наемного труда, листая сельскохозяйственный справочник Бажанова. Там утверждается, что двое рабочих могут вспахать в день десятину земли. Но что значит «могут»? А если не вспашут — что тогда? «Доказывать ли, с Бажановым в руках, что священный долг каждого рабочего — вспахать не менее полудесятины?» Драться с ними? Судиться? Рассчитать небойкого работника? — но завтра другой «не допашет ровно столько же, а быть может, и больше». Русский «вольный работник» — тот же вчерашний крепостной. Отпахав, наемник бросает инструменты под дождиком в поле и, на замечание хозяина, что их надо убрать под навес, — уберет, скрепя сердце. На второе замечание ответит: да что им сделается за ночь! На третье — «ответа не последует, но на лице прочтете явственно: ах, распостылый ты человек!» Четвертый раз напоминать уже не захочется. Зато вокруг Монрепо, зорко наблюдая за его невзгодами, уже кружат те самые «чумазые» — новый культурный слой, состоящий «из кабатчиков, процентщиков, банковых дельцов и прочих казнокрадов и мироедов». Это не новая экономическая сила, а «ублюдки крепостного права», рвущиеся «восстановить оное в свою пользу, в форме менее разбойнической, но несомненно более воровской». Редкий случай — Щедрин высказался почти напрямую: Я люблю Россию до боли сердечной... Я желал видеть мое отечество не столько славным, сколько счастливым. Слава, поставленная в качестве главной цели, к которой должна стремиться страна, очень многим стоит слез; счастье же для всех одинаково желанно... Такой прагматизм кажется мелким: щи и пиво для полного счастья? Не наши ли писатели всегда отстаивали духовные идеалы?Что нужно нашей дорогой родине, чтобы быть вполне счастливой? На мой взгляд, нужно очень немногое, а именно: чтобы мужик русский, говоря стихом Державина, «ел добры щи и пиво пил». Затем всё остальное приложится. Щедрин поясняет: если это есть — значит, государственная казна не расточается, а рубль равен рублю. Если это есть — значит, земля приносит плод сторицею, деревни в изобилии снабжены школами, в массах господствует трудолюбие и любовь к законности, а за границу везутся заправские избытки, а не то, что приходится сбывать во что бы то ни стало, вследствие горькой нужды. Именно степенью довольства и процветания жителей в норме измеряется успешность государства. Вместо того налицо желание отделаться демагогией, словесными заклятиями. Горе, думается мне, тому граду, в котором и улица и кабак безнужно скулят о том, что собственность священна! наверное, в граде сем имеет произойти неслыханнейшее воровство! Это блудливое стремление лечить все язвы пластырями из громких слов и преследовать, как врага отечества, всякого, кто посмел бы усомниться в действенности такой медицины. Отечество смешивают «с государством и правительством, подчиняя представление о первом представлению о двух последних», — трюк, дающий неограниченные полномочия на травлю инакомыслящих.Горе той веси, в которой публицисты безнужно и настоятельно вопиют, что семейство — святыня! наверное, над этой весью невдолге разразится колоссальнейшее прелюбодейство! Горе той стране, в которой шайка шалопаев во все трубы трубит: государство — это священно! Наверное, в этой стране государство в скором времени превратится в расхожий пирог! «Письма к тетеньке». Щедринская «тетенька» — собирательный образ благонамеренной русской интеллигенции, воспитанной на идеях Белинского и Герцена. Ей-то повествователь и надеется раскрыть глаза на уловки власти, желающей под предлогом охраны порядка натравить общественное мнение на всякое инакомыслие как «потрясение основ». Милая тетенька, ежели мы все бросимся хватать и ловить, то кончится тем, что мы друг друга переловим и останемся в дураках. Попытка истребления на корню свободной мысли — «заблуждений», якобы подрывающих общественный порядок, — оценивается Щедриным как дорога к исторической стагнации. Любой прогресс покупается ценой проб и ошибок. Для того чтобы возымела начало культура, кому-то давным-давно необходимо было усомниться в целесообразности сидения в пещере. И если все сомнения взять и запретить, в перспективе предстоит возвращение в первобытное состояние «с обросшими шерстью поясницами, а быть может, и с хвостами!»И не будет у нас ни молока, ни хлеба, ни изобилия плодов земных, не говоря уже о науках и искусствах. А лгуны — где будут они тогда? придут ли они на помощь к погибающему? принесут ли ему облегчение? Нет, не придут и не принесут, потому что им незачем приходить и нечего принести. Еще одна тема — новая, выборная русская администрация. Земство хотя и имело очень ограниченные полномочия, но внушало надежды как первый шаг к демократизации. Как ни странно, этот демократический почин не вызвал восторга у демократа Щедрина. Почему? В земство подались те из вчерашних «хозяев жизни», которые после реформы остались не у дел, люди отменных аппетитов, хотя и не отменных дарований. Кого же и выбирать, как не тех, кто свободен «не только от дела, но и от еды»? Во-первых, они имели за себя самое широкое досужество, а во-вторых, в окрестности еще не утратилась привычка повторять их имена. Личности эти — сатирик присваивает им собирательную фамилию Дракины — нюхом отыскали на новом поприще пирог пожирнее, вокруг которого привычно устроилась старая бюрократия — Сквозники-Дмухановские (фамилия Городничего из «Ревизора»).Эта битва за прерогативы не внушает оптимизма, не только в том смысле, что дорвавшиеся до пирога голодные рыла не обещают ничего, кроме приумножения класса нахлебников на шее общества. Дракины со своим голодным задором видятся явлением настолько злокачественным, что повествователь горестно восклицает: «А мы-то с вами на Сквозника-Дмухановского жаловались!» Щедрин специально оговаривается, что отнюдь не влюблен в Сквозника-Дмухановского, а только призывает помнить, что всё относительно. Раздражает уже притязание Дракина на любовь в качестве народного избранника, «излюбленного человека»: Никогда я его не излюблял, а все мне говорят: излюбил! Никогда я его не выбирал, а только шары клал, а мне говорят: выбрал! С юных лет я ничего не слыхал ни об любвях, ни об выборах, с юных лет скромно обнажал свою грудь и говорил: ешь! Ели ее и Сквозник-Дмухановский, и Держиморда, и Тяпкин-Ляпкин; недоставало Дракина — и вот он — он! А главное —Сквозников-Дмухановских сравнительно немного, тогда как Дракин на каждом шагу словно из-под земли вырос. Они размножились, как кролики, они придут все, целым кагалом. И званые и незваные, и облеченные доверием и не облеченные... Выборная власть, чувствуя свое калифство на час, торопится нахватать впрок, обеспечить на веки вечные и себя и своих присных — и потому рвет свой кусок с азартом, незнакомым даже Сквозникам-Дмухановским, над коими не висит дамоклов меч выборного срока.«Современная идиллия». Интеллигенция занята решением насущной задачи: откреститься от подозрений в неблагонадежности. Ее испуганно-покаянный пыл Щедрин обозвал словечком «годить». — Погодить — ну, приноровиться, что ли, уметь вовремя помолчать, позабыть кой об чем, думать не об том, о чем обычно думается, заниматься не тем, чем обыкновенно занимаетесь... Например: гуляйте больше, в еду ударьтесь, папироски набивайте, письма к родным пишите… Сначала «годить» оказывается как-то непривычно. Любая житейская мелочь провоцирует на рассуждения. Ветчина, которой герой закусывает водку, вызывает вопрос: «А вот кому эта свинья принадлежала? Кто ее выхолил, выкормил? И почему он с нею расстался, а теперь мы, которые ничего не выкармливали, окорока этой свиньи едим?» — «Сказано тебе, погодить!»— С тех самых пор, как я себя помню, я только и делаю, что гожу… — До сих пор мы в одну меру годили, а теперь мера с гарнцем пошла в ход — больше годить надо... И традиционно подозрительные гуманитарии «годят»: пушкинисты собираются издавать «в двух томах с комментариями» пушкинский романс «Черная шаль» (впрочем, за их собраниями, на всякий случай, наблюдает городовой), а ученый историк тратит остаток жизни на подготовку труда «Род купцов Голубятниковых»… Щедрин коснулся даже такой опасной темы, как политические процессы, в частности, знаменитый «процесс 193-х», поводом для привлечения к которому стал не какой-либо криминал, а «внушающий подозрение образ жизни» или «вредный образ мыслей». В «Современной идиллии» это суд над пескарем, который мятежно пренебрег троекратным распоряжением явиться в уху. Ослушание пескарей рассматривается как признак тайного преступного сговора. Таким образом, бежавшие из реки злоумышленники обвиняются: а) в измене отечеству; б) в сопротивлении власти; в) в составлении заговора. «Мелочи жизни». Приведу хотя бы одну цитатку, особенно мне близкую: Над всей школой тяготеет нивелирующая рука циркуляра. Определяются во всей подробности не только пределы и содержание знания, но и число годовых часов, посвящаемых каждой отрасли его. Не стремление к распространению знания стоит на первом плане, а глухая боязнь этого распространения. О характеристических особенностях учащихся забыто вовсе: все предполагаются скроенными по одной мерке, для всех преподается один и тот же обязательный масштаб. Переводный или непереводный балл — вот единственное мерило для оценки, причем не берется в соображение, насколько в этом балле принимает участие слепая случайность. О личности педагога тоже забыто. Он не может ни остановиться лишних пять минут на таком эпизоде знания, который признает важным, ни посвятить пять минут меньше такому эпизоду, который представляется ему недостаточно важным или преждевременным. Он обязывается выполнить букву циркуляра — и больше ничего. Спасибо за подсказку, дорогой Михаил Евграфович!Но, в таком случае, для чего же не прибегнуть к помощи телефона? Набрать бы в центре отборных и вполне подходящих к уровню современных требований педагогов, которые и распространяли бы по телефону свет знания по лицу вселенной… Сказки Щедрина часто используют басенный прием — зооморфизм. Пескари, караси, воблы, зайцы, медведи, орлы и прочая живность — не только дань цензуре. Это и удобный прием выделения доминирующей черты, и средство подчеркнуть дефицит человеческого начала, и способ внушить читателю мысль о том, что отношения щук к карасям, а волков — к зайцам определяются не их личным характером, а их биологическим видом. Кто там пытается растрогать хищников и подкупить их благородством, рассудительностью или смирением? В реальности, как показал еще Герцен, действуют не этические, а причинно-следственные законы — не «за что», а «почему». Роковое заблуждение «карасей-идеалистов» — уверенность, что «щука зря не имеет права глотать». А беда их в том, что щуку вопрос о правах не волнует. «— Едят-то разве “за что”? Разве потому едят, что казнить хотят? Едят потому, что есть хочется — только и всего», — увещевает карася опытный ерш. Но карасю все нипочем — он уповает на заветное слово, которое должно потрясти и усовестить щуку: — Знаешь ли ты, что такое добродетель? ***Щука разинула рот от удивления. Машинально потянула она воду и, вовсе не желая проглотить карася, проглотила его. А ерш, который уж заранее все предвидел и предсказал, выплыл вперед и торжественно провозгласил: — Вот они, диспуты-то наши, каковы! Ненависть преследовала его даже после смерти. В более чем сдержанном некрологе было написано: «Та форма сатиры, которую создал покойный Щедрин ценой растраты своего крупного дарования, отжила свой век». Ну, сатирик-то, должно быть, просто счастлив… Свернуть сообщение - Показать полностью
14 Показать 1 комментарий |
|
#даты #литература #длиннопост
250 лет со дня рождения Эрнста Теодора Вильгельма Гофмана, который впоследствии изменил свое третье имя на Амадей в честь любимого композитора. Родился он на границе пространств и времен, в будущем Калининграде и бывшем Кёнигсберге (Калинину в плане увековечения повезло больше, чем Ленину, Сталину и прочим товарищам, — ирония совершенно в гофмановском вкусе). Междумирье останется спутником Гофмана на всю жизнь и многое определит в его духовном складе. Эпоха революции и наполеоновских войн, постоянно перекраивающаяся карта Европы и спорные территории, то и дело переходившие из рук в руки. Куда бы Гофман ни подался, — Варшава, Бамберг, Дрезден, Лейпциг, — война тащилась за ним по пятам: прусские, австрийские, русские и французские военные мундиры стали для глубоко штатского Эрнста-Теодора привычным зрелищем. Его биография вообще не очень обычна. Показать полностью
 9 929 Показать 3 комментария |
|
#литература #даты #длиннопост
150 лет со дня рождения Джека Лондона. Джек Лондон — автор разносторонний. Однако тема фронтира, анималистика, социальные романы, приключения, фантастика и даже развлекательный «кинороман» «Сердца трех» — все эти пестрые жанры укладываются у него в общий проблемный блок «природа — человек — цивилизация». Человек в этой связке — переходное звено, постоянное поле битвы соперничающих начал, которые так важно — и так трудно — превратить в начала сотрудничающие. Уже в своих ранних анималистических повестях Лондон исследовал прямо противоположные ситуации: пробуждение в домашней собаке древних животных инстинктов («Зов предков») — и превращение дикого волка в «цивилизованное» животное («Белый Клык»). Та же картина наблюдается и в более поздних произведениях: например, жизненные законы, исповедуемые героем романа «Морской волк», — те же самые, что открывает для себя пес в «Зове предков». Показать полностью
21 Показать 3 комментария |
|
#даты #литература #длиннопост
250 лет Джейн Остен (1775–1817). За 41 год своей недлинной жизни она написала шесть романов, о которых нельзя сказать, что они сохраняют популярность вот уже более двухсот лет. Нет — они сегодня более популярны, чем были в XIX веке — и даже чем в ХХ. Тенденция прямо обратная обычному погружению «старинных» писателей в забвение. Сочинения Остен вообще не переводились на русский язык (да-да, и до революции тоже!), пока в 1967 году в серии «Литературные памятники» не вышел роман «Гордость и предубеждение»… и снова пауза. В советских вузах незадачливую Джейн также не изучали. Конкретно у нас XIX век читал специалист по английской классике, который нашел время даже для Бульвер-Литтона (в те времена тоже нам почти не известного) и тем более для сестер Бронте, — но об Остен не было сказано ни слова. Хотя ничто, абсолютно ничто не мешало: программу курса составляет тот, кто его ведет. Показать полностью
 2 228 Показать 1 комментарий |
|
#даты #история #книги
200 лет: 14 декабря 1825 года  Гордин Я.А. Декабристы. Мятеж реформаторов: Изд. доп. и испр. — СПб., 2023. Кто как, а я из школьных уроков истории вынесла убеждение (вуз его не изменил), будто события 14-го декабря были хоть и благородной, но чистейшей авантюрой, заведомо обреченной на поражение. Хотя в основном это убеждение базировалось на знаменитой формуле: «страшно далеки они от народа». Книга-исследование Я.Гордина, построенная на огромном архивном материале, в первых главах подробно рассматривает предпосылки и условия, при которых гвардия в России некогда превратилась в реальную политическую силу, способную смещать царей. Еще одна посылка, от которой автор отталкивается, — глобальное противоречие, заложенное в фундамент петровского государства: Показать полностью
32 Показать 3 комментария |
|
#даты #литература #длиннопост
7 (19) ноября 1825 года в Михайловской ссылке А.С.Пушкин завершил работу над трагедией «Борис Годунов». И год, и число (7 ноября) по отдельности несут в себе значимые для нас политические ассоциации. — «Бывают странные сближенья», — как выразился сам автор по поводу другого своего произведения — шуточной поэмы «Граф Нулин», написанной в том же Михайловском 14 декабря 1825 года — в тот день, когда на Сенатской площади в Петербурге разыгрывалась в лицах одна из ярчайших драм российской истории. «Борис Годунов» — не летопись и не исторический труд: это произведение художественное. И Годунов как литературный персонаж не тождествен историческому Годунову (как исторический Сальери не есть Сальери из «Маленьких трагедий»). Действительно ли Годунов был виновен в том, в чем его обвиняла молва, — этого вопроса Пушкин не ставит и не решает: у него другие задачи. «Тьмы горьких истин нам дороже…» Толчком для создания трагедии послужили Х и ХI тома «Истории государства Российского» Н.М.Карамзина, вышедшие в 1824 году. А в художественном плане пьеса Пушкина близка к историческим хроникам Шекспира, с их соединением стихов и прозы, трагического и комичного. Другое отличие от классической трагедии: «Борис Годунов» не завершался со смертью протагониста. Следом за ней происходят события огромной важности — и происходят уже без Годунова и помимо него. Собственно, власть над происходящим он теряет именно тогда, когда принимает власть над царством. Объяснение этого парадокса подводит к одной из главных идейных посылок трагедии. Пьеса начинается с согласия Бориса принять державу. Но представлено это событие очень нетрадиционно. Ни сам Борис, ни упрашивающие его патриарх и бояре на сцене не присутствуют. Вместо этого — толпа народа, сначала на Красной площади, а затем у Новодевичьего монастыря. Изображены притом даже не первые, а последние ряды этой толпы: им ничего не видно — да, в общем-то, и все равно, и они механически повторяют действия стоящих впереди: О д и н: Это равнодушие, послушная готовность подхватывать суфлируемые «сверху» реплики: «О Боже мой, кто будет нами править? / О горе нам!» — та часть вины, которая лежит на народе. Другая ее часть — на Борисе; притом он принимает ее сознательно.Что там за шум? Д р у г о й: Послушай! что за шум? Народ завыл, там падают, что волны, За рядом ряд… еще… еще… Ну, брат, Дошло до нас; скорее! на колени! Н а р о д: (на коленах. Вой и плач) Ах, смилуйся, отец наш! властвуй нами! Будь наш отец, наш царь! О д и н: (тихо) О чем там плачут? Д р у г о й: А как нам знать? то ведают бояре, Не нам чета. Образ Годунова незадолго перед тем привлек и внимание поэта-декабриста К.Ф.Рылеева, в своих «Думах» трактовавшего этот персонаж в нужном ему духе, как мученика государственной идеи, ради которой он приемлет и терзания совести, и осуждение народа: Пусть злобный рок преследует меня — У Пушкина Годунов сложнее — и по характеру, вероятно, ближе к своему прототипу.Не утомлюся от страданья, И буду царствовать до гроба я Для одного благодеянья… О так! хоть станут проклинать во мне Убийцу отрока святого, Но не забудут же в родной стране И дел полезных Годунова... Исторический Борис Годунов поднялся до трона из опричников Ивана Грозного. Его положение при дворе упрочил сначала брак с дочерью царского любимца Малюты Скуратова, а затем брак его сестры Ирины Годуновой с царевичем, впоследствии государем Федором Иоанновичем. При молодом и простодушном Федоре Годунов, в качестве ближайшего родственника, стал и его другом, и опекуном, и фактическим правителем государства. Помимо Федора, между Годуновым и престолом осталось только одно препятствие — маленький царевич Дмитрий Иоаннович. В 1591 году Дмитрий при туманных обстоятельствах погиб в Угличе. Молва упорно обвиняла в этой смерти Годунова, который после кончины Федора Иоанновича, последовавшей в 1598 году, принял царский венец. Фактически власть давно уже находилась в его руках, а сейчас перешла к нему и формально, так как род Мономаха с потомками Ивана Грозного прекратился. К версии убийства Дмитрия склонялся и Карамзин, добавляя, что в болезненном Федоре Годунов видел «явную жертву скорой естественной смерти» и не спешил, тем более что «как в течение всей жизни, так и при конце ее Феодор не имел иной воли, кроме Борисовой». У Карамзина акцент сделан на властолюбивых устремлениях Годунова. Пушкин же принимает во внимание и общий характер государственной ситуации, который не мог не быть ясен Борису, столько лет стоявшему у трона. Ни слабый здоровьем и юродивый Федор Иоаннович, ни наследующий ему и тоже болезненный ребенок не могут быть реальными носителями власти. Она станет предметом спора честолюбивых бояр (трагедия и начинается рассуждениями князей, что они — царской «Рюриковой крови»). Бог весть, сколько бед ожидает Русь, пока этот спор будет тянуться! Так чем быстрее он кончится — тем лучше! Власть ведь все равно кому-то достанется, так почему бы не ему, Борису? Так и для всех будет лучше — ведь он самый опытный и мудрый политик, следовательно, и лучший правитель. Добиваясь венца, Годунов рассчитывает этим актом объединить свой личный интерес с государственным. «Единое пятно» на его совести (так он его называет в пьесе) — смерть царевича. Смыкание политической и моральной проблематики трагедии происходит именно в этой точке. Убийство — грех для человека. Но для правителя, который несет ответственность за судьбу государства и других людей, — будет ли оно грехом, если его ценой предотвратятся более страшные беды: раздор, мятежи, возможно, гибель тысяч? В «Борисе Годунове» сформулирована теория «маленького зла», ценой которого предполагается купить общее благо, — будущая теория Раскольникова («да ведь тут арифметика…»). Как арифметическую задачу решает ее и Годунов. Но арифметика не срабатывает — ни в том, ни в другом случае. В уравнении возникают неизвестные и не учтенные величины. Предтеч героев Пушкина и Достоевского можно найти уже в Евангелии. На совете иудейских первосвященников и фарисеев, тревожащихся о судьбе народа, на который Иисус может навлечь гнев римлян, Каиафа говорит: «лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб» (Иоан., ХI, 50). Возможно, всё дело в том, кто именно этот «один человек»? Или нет? Годунов получает власть и действительно употребляет ее на полезные для государства дела, но начинания его бессильно падают, оборванные цепочкой фатальных неудач: голод, пожары; глухое возмущение «черни», на которую царь жалуется после тщетных попыток привлечь ее на свою сторону: Живая власть для черни ненавистна, Наконец над страной нависает зловещая тень Самозванца и предводимых им польских дружин.Они любить умеют только мертвых. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Нет, милости не чувствует народ: Твори добро — не скажет он спасибо; Грабь и казни — тебе не будет хуже. Борису кажется, что виной всему неблагодарность народа и череда роковых случайностей («Мне счастья нет»). Если бы Пушкин держался того же мнения, это прикрепило бы трагедию к романтической традиции: герой, противостоящий, с одной стороны, толпе, с другой — враждебному року. Однако весь строй пьесы показывает, что от начала к концу развертывается цепь тесно связанных причин и следствий. Пушкинские строчки легко становились своего рода формулами русской жизни, и «Борис Годунов» не стал в этом плане исключением: и «мальчики кровавые», и «еще одно, последнее сказанье», и «народ безмолвствует»… Среди них и восклицание Годунова: «Тяжела ты, шапка Мономаха!» Его неявный смысл (с явным все понятно) связан с событиями, отраженными, в частности, в одном из первых русских исторических романов — «Клятва при Гробе Господнем» Н.А.Полевого (1832). Исходная точка его сюжета — завещание Владимира Мономаха, который передал великое княжение в обход существующего установления («лествичного права») своему сыну, а не брату; а его сын — своему. В результате вместо одного законного носителя власти появляется несколько претендентов, у каждого из которых имеются какие-то свои права. Василий Косой и его брат Димитрий Шемяка восстают против великого князя Василия Темного — и вот уже русская земля охвачена междоусобной распрей. Даже единократное нарушение закона влечет тяжкие, со временем усугубляющиеся последствия; а попытки насильственного восстановления насильственно же нарушенной справедливости, в свой черед, влекут за собой новое зло. Пушкинский Годунов — наследник Мономаха не по крови, а по духу — повторяет его роковую ошибку. И теперь над Борисом тяготеет троякий суд: Бога, истории и его собственной совести. В той или иной мере все это — отражение народной ненависти, которая видит в нем мало что узурпатора — убийцу. Неурожаи, стихийные бедствия, внезапная смерть жениха царевны Ксении могут, конечно, рассматриваться как вмешательство провиденциальных сил, казнящих грешника. Но ни одно царствование не протекало безоблачно. Подлинно зловещими эти события делает отношение к ним народного мнения, которое видит здесь перст Божий и, следовательно, возлагает ответственность на Бориса («Кто ни умрет, я всех убийца тайный…»). Наконец это обвинение звучит и в открыто брошенной Годунову реплике Юродивого: «Нельзя молиться за царя Ирода — Богородица не велит». Если голос Юродивого — голос народа и Бога (не случайно его партия стала одной из центральных в опере М.П.Мусоргского), то летопись Пимена — приговор народа и Истории. Летописец Пимен появляется в трагедии единственный раз (сцена «Ночь. Келья в Чудовом монастыре») — и только в этом качестве: Да ведают потомки православных Григорий, которого рассказ Пимена и подвигает на его отчаянную затею, подводит итог:Земли родной минувшую судьбу… Борис, Борис! все пред тобой трепещет, Наконец, сам царь с горечью признается себе, что не достиг ни блага для Руси, ни счастья для себя самого: «Ни власть, ни жизнь меня не веселят…». Он мог бы устоять под тяжестью всех упреков, если бы обрел поддержку в сознании своей правоты, — но собственная совесть тоже свидетельствует против него. Со ступеней трона навстречу ему поднимается окровавленный призрак мальчика с державой и скипетром в руках:Никто тебе не смеет и напомнить О жребии несчастного младенца, — А между тем отшельник в темной келье Здесь на тебя донос ужасный пишет, И не уйдешь ты от суда мирского, Как не уйдешь от Божьего суда. Душа сгорит, нальется сердце ядом, Современник Пушкина И.В.Киреевский писал, что в трагедии царствует «тень умерщвленного Дмитрия». Она придает силу Самозванцу, который сам по себе — ничто перед Годуновым. У Отрепьева есть свои достоинства: он предприимчив, храбр, набрался кое-какого воинского опыта, — но это всего лишь авантюрист, и он стремится использовать обстоятельства в своих интересах, в сущности, так же, как это до него сделал Борис — только уже без мыслей об «общем благе» (искренность которых у Бориса проверке не поддается).Как молотком, стучит в ушах упрек, И все тошнит, и голова кружится, И мальчики кровавые в глазах… И рад бежать, да некуда… ужасно! Да, жалок тот, в ком совесть нечиста. Отрепьев лишь повторяет его поступок и его логику: почему бы и не я? Более того, он много проигрывает Борису и опытом, и характером. Удача всего предприятия ставится под удар его опрометчивой откровенностью с честолюбивой красавицей, задумавшей увлечь царевича: «Я не хочу делиться с мертвецом / Любовницей, ему принадлежащей!» Сама Марина находит его несдержанность жалкой: Он из любви со мною проболтался! Не странно, что и Годунов не верит поначалу в серьезную опасность:Дивлюся: как перед моим отцом Из дружбы ты доселе не открылся, От радости пред нашим королем Или еще пред паном Вишневецким Из верного усердия слуги. Кто на меня? Пустое имя, тень — Армия, с которой Самозванец движется на Русь, — жалкая и нестройная орда в сравнении с регулярными войсками Бориса. Но он одерживает одну победу за другой; города сдаются без боя. За него — его имя. Народ видит в нем мстителя за попранную справедливость, не задумываясь еще о том, что за спиной Лжедмитрия — иноземные рати и мрачный закон, согласно которому зло рождает зло.Ужели тень сорвет с меня порфиру, Иль звук лишит детей моих наследства? Безумец я! чего ж я испугался? На призрак сей подуй — и нет его. В трагедию поэт вводит своего предка, Пушкина, и доверяет ему произнести очень важные слова — о силе, которой держится любое историческое движение: Я сам скажу, что войско наше дрянь, Грех Бориса отнюдь не нуждается в непосредственном вмешательстве Провидения, чтобы навлечь кару на его голову. Он сам влечет ее за собой. Именно преступление Годунова лишило его поддержки подданных, породило фигуру Самозванца и открыло дорогу всем дальнейшим бедствиям. Интересно, что в трактовке Карамзина звучат как раз провиденциальные мотивы: внезапная смерть Бориса, как громом его поражающая посреди торжественного приема, видится карой Божьей, которая и решает исход дела:Что казаки лишь только селы грабят, Что поляки лишь хвастают да пьют, А русские… да что и говорить… Перед тобой не стану я лукавить; Но знаешь ли, чем си́льны мы, Басманов? Не войском, нет, не польскою помогой, А мнением; да! мнением народным. «И торжество самозванца было ли верно, когда войско еще не изменяло царю делом; еще стояло, хотя и без усердия, под его знаменами? Только смерть Борисова решила успех обмана». Напротив, у Пушкина смерть царя кажется едва ли не избавлением, потому что все свидетельствует о близком крушении. В «Борисе Годунове» отход Пушкина от фаталистической концепции истории и личности выразился не только в обнажении естественной логики событий. Человеку в мире Пушкина дан свободный выбор, и, как правило, даже выбрав неверный путь, он еще получает возможность поправить свою ошибку. Получает эту возможность и Годунов. Обсуждая с Думой планы усмирения Самозванца, он неожиданно выслушивает такое предложение от патриарха: перенести в Кремль мощи царевича Дмитрия, обнаружившие свою чудотворную силу. Вот мой совет: во Кремль святые мощи В продолжение речи патриарха устанавливается общее смущение, а Борис «несколько раз отирает лицо платком», — гласит авторская ремарка.Перенести, поставить их в соборе Архангельском; народ увидит ясно Тогда обман безбожного злодея, И мощь бесов исчезнет яко прах. Смущение Бориса вызвано не только страхом приблизиться к останкам своей жертвы. Сделать для народа явным их могущество значит, конечно, погубить Самозванца (если он не Дмитрий, то кто же он?), — но это значит также погубить себя. Силу чудесного исцеления, как правило, получают мощи невинноубиенного, мученика. Между тем официальная версия отрицала убийство царевича. В этот момент Борис еще может спасти Русь признанием своего греха. Но он не в силах на это решиться. И тогда судьба его определяется окончательно. Финал трагедии замыкает композиционное и сюжетное кольцо. Снова народ, толпящийся у Борисовых палат. Он шумно приветствует Самозванца. Дети Бориса — царевна Ксения и помазанный на царство после смерти отца Федор — томятся в заключении. Вдруг к ним заходит группа бояр и стрельцов. Из дома доносится крик — и замолкает. На крыльцо выходит Мосальский со словами: — Народ! Мария Годунова и сын ее Феодор отравили себя ядом. Мы видели их мертвые трупы. К власти снова приходит убийца. Возмездие оборачивается кровавым фарсом и очередным преступлением.Народ в ужасе молчит. — Что ж вы молчите? кричите: да здравствует царь Дмитрий Иванович! Народ безмолвствует. К о н е ц Пушкин показывает логику обоюдной драмы власти и народа. Безвластие немыслимо; но власть искушает и развращает своего носителя, соблазняя его, казалось бы, неотразимыми доводами. Можно ли эффективно править людьми, строго блюдя нравственные прописи? В свою очередь, народу суждено убедиться, какие далеко идущие последствия имело его равнодушие в начале трагедии и как опрометчивы были надежды на скорое восстановление справедливости. Грех Бориса, который виделся ему единичным, изолированным злом, долженствующим впоследствии загладиться мудрым управлением, приносит плоды и выходит из-под его контроля еще при его жизни. Его поступок создает, выражаясь юридическим языком, прецедент. Не только Отрепьев спешит повторить его успех: казуистическая логика, оправдывающая благовидными соображениями соблазн нарушения долга и закона, повторяется и в рассуждениях Басманова, которому доверяет войска молодой наследник Годунова. Ему предлагают переметнуться на сторону Самозванца «и тем ему навеки удружить». Обдумывая это предложение, Басманов отталкивается от весьма прозаических и меркантильных соображений о его выгоде и безопасности. Его смущают мысли о позоре, который он навлечет на себя, и, чтобы их заглушить, он пускает в ход магическую формулу: «народные бедствия», которые как будто должна предотвратить его измена: Но изменить присяге! Но заслужить бесчестье в род и род! Доверенность младого венценосца Предательством ужасным заплатить… Опальному изгнаннику легко Обдумывать мятеж и заговор, Но мне ли, мне ль, любимцу государя… Но смерть… но власть… но бедствия народны… Дальнейшие исторические события, оставшиеся за рамками трагедии Пушкина, но ему и его современникам отлично известные, обнаруживают стремительное распространение волны, поднятой Годуновым. Беды Руси не оканчиваются воцарением нового убийцы в 1605 году. В 1606 году он был в свою очередь убит заговорщиками. (Вещий сон о гибели — падение с башни — трижды снится Отрепьеву в трагедии Пушкина.) Но начало уже было положено. В 1607 году на сцену явился Лжедмитрий II, ставленник польско-литовской шляхты («тушинский вор»). Его убили в 1610 году. В 1611 году объявился Лжедмитрий III («псковский вор»), арестованный в 1612 году. Далее следуют печально известные события Смуты, многовластие; польское нашествие… В конце концов Земский собор выбрал на царство 18-летнего отпрыска дома Романовых, со следующей знаменательной оговоркой: «Миша-де Романов молод, разумом еще не вышел и нам будет поваден». Ценой огромных жертв Русь пришла к тому, от чего, как хотелось думать Годунову, он стремился ее уберечь. На троне оказался недоросль. Труп Самозванца был сожжен, а пеплом символически выстрелили из пушки. Жутковатое стихотворение М.Волошина «Дметриус-император», написанное в конце 1917 года, преобразует варварский обряд в художественный образ умножения зла: …И река от трупа отливала, Но это было еще не все. Чтобы устранить дальнейшие возможные посягательства на престол, в 1614 году в Москве, у Серпуховских ворот, был публично повешен сын Марины Мнишек и Лжедмитрия II — трехлетний Ивашко. И земля меня не принимала. На куски разрезали, сожгли, Пепл собрали, пушку зарядили, С четырех застав Москвы палили На четыре стороны земли… Тут тогда меня уж стало много: Я пошел из Польши, из Литвы, Из Путивля, Астрахани, Пскова, Из Оскола, Ливен, из Москвы… Таким образом, трехсотлетнее царство Романовых тоже началось с убийства ребенка. За казнью «Ивашки Ворёнка» последовали новые самозванцы — «Иваны Дмитриевичи»… Прецедентная связь этих событий с дальнейшим ходом истории присутствовала в сознании Пушкина: в «Капитанской дочке» Пугачев (самый известный из десятков самозванцев, выдававших себя уже за свергнутого Петра III) говорит Гриневу: «Разве в старину Гришка Отрепьев не царствовал?» В общем, ни с «кармической», ни с детерминистской точки зрения не удивительно, что Романовым неважно сиделось на престоле: дворцовые перевороты, мятежи, теракты … пока наконец 19 июля 1918 года «круг» Романовых не замкнулся расстрелом всей семьи — опять же включая ребенка. А «годуновская» тема и позднее будет привлекать русских авторов. Самым значительным явлением на этой почве стала драматическая трилогия А.К.Толстого: «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович» и «Царь Борис». Три последовательно сменившихся и ярко контрастных модели правления прямо-таки искушали и подталкивали к сравнению. В «Смерти Иоанна Грозного» (1864) представлен финал царствования в свете своеобразной драматической ретроспективы. В одной из сцен Иоанн в тяжелый час приглашает для совета отрешившегося от мира схимника, и тот предлагает ему призвать на помощь верных воевод: Воротынского, Шуйского, Оболенского, Курбского… Но никого уже нет с Иоанном. С х и м н и к: В заключение звучит имя царевича Ивана, вызывая дикую вспышку гнева: недавно погиб и царевич.А Кашин? А Бутурлин? Серебряный? Морозов? И о а н н: Все казнены. Тирания расшатывает почву под собственными ногами: опираться можно лишь на то, что тебе противостоит. При Иоанне остаются только самые трусливые, никогда не имевшие собственного мнения, — да дальновидные, себе на уме дипломаты вроде Годунова. Чудом уцелевший еще в этой бойне прямодушный Захарьин однажды дерзнет сказать это царю: Ты бессловесных сделал из людей — Весь незаурядный государственный талант Иоанна IV сводится на нет его нежеланием считаться с фактами, даже знать о них, если они не согласуются с его намерениями. — «Я так хочу», — излюбленная им, полнее всего выражающая его реплика; и это «хочу» адресовано не только людям, но и Богу. Слыша весть о поражении под Нарвой, он приказывает повесить гонцов и служить по всем церквам победные молебны: «Не могут быть разбиты / Мои полки! Весть о моей победе / Должна прийти!»И сам теперь, как дуб во чистом поле, Стоишь один, и ни на что не можешь Ты опереться. Между тем как Иоанн блуждает в этих маниакальных миражах, Годунов ненавязчиво и осторожно направляет события. Толстой дает развернутую интерпретацию его характера и мотивов в тот момент, когда звезда Годунова только начинает восходить (в пушкинской трагедии Борис появляется на сцене впервые уже царем). Годунов жаждет полной власти как средства доказать, что возможно с нею сделать. В какой-то момент его даже увлекает «прямой путь» Захарьина; но попытка открыть царю глаза едва не стоит ему головы. Свет правды Захарьина для практического ума Годунова — свет зимнего солнца, неспособного обогреть землю. Моя ж душа борьбы и дела просит! Трагедия недаром называется «Смерть Иоанна Грозного», хотя смерть приходит лишь с развязкой. Путь, избранный Иоанном, делает его обреченным. Последний продуманный удар — одним только словом — наносит Годунов, по сути, совершая убийство. Конец настигает Грозного за игрой в шахматы с шутом, и эта сцена символична. Привычно двигая людей, как пешки, царь неведомо для себя сам является пешкой для своего скромного приближенного.Я не могу мириться так легко! Раздоры, козни, самовластье видеть — И в доблести моей, как в светлой ризе, Утешен быть, что сам я чист и бел! Фигура Годунова вырастает по мере последовательного течения пьес, входящих в драматическую трилогию. Она поднимается всё выше и в списке действующих лиц. В первой драме имя Годунова затеряно где-то в его середине, и сам он — главный двигатель событий — предпочитает держаться в толпе. В последней — его имя выходит в заглавие. В центральной части трилогии Годунов упоминается в списке третьим, после царя и царицы. Он — «правитель царства». «Царь Федор Иоаннович» (1868) — идейная и художественная вершина трилогии. Своеобразие ее, между прочим, и в том, что протагонист — лицо, практически бездеятельное (все продуктивные действия по-прежнему исходят от Годунова), но по-своему более интересное и трагическое, чем даже сам Годунов. Федор Иоаннович — прямая противоположность своему грозному отцу. Было бы непростительной ошибкой (о чем предупреждал сам автор) видеть в нем личность жалкую и комическую, бесхарактерного простака, не знающего, что делать со случайно свалившейся на него огромной властью. Федор прежде всего — человек искренне верующий: не так, как Иоанн, терзаемый нечистой совестью и страшащийся ада, а как добрый христианин, исполняющий завет о любви к людям не столько страха Божия ради, сколько по склонности собственного сердца. И… Добрый, чистый, благоговейно-религиозный Федор совершенно не способен государить: его прекрасные человеческие качества прямо препятствуют любой успешной политической деятельности. Способный видеть в вещах и людях только хорошее, Федор совершает не менее пагубные ошибки, чем Иоанн, подозревавший одно лишь дурное. Драма, опять же, имеет в виду не создать портрет реального лица, а проверить на прочность старую утопию о добром и праведном царе. И с этой целью автор сознательно идеализировал исторического Федора Иоанновича — «слабодушного, кроткого постника», как он назвал его в своем комментарии. Однако Федор не превращен в бесплотного положительного резонера: ему не чужды человеческие слабости, ребячливость, наивность, нередко выставляющая его в смешном свете, маленькие тщеславные претензии. Тем не менее эти комические черточки, по замечанию Толстого, «не что иное как фольга, слегка окрашивающая чистую душу Федора, прозрачную, как горный кристалл. <…> Есть большая разница между тем, что смешно, и тем, что достойно осмеяния». Интересно, что пьеса написана в один год с «Идиотом» Ф.М.Достоевского: оба автора одновременно выходят к изображению трагедии абсолютно прекрасного человека, шире — к теме трагедии добра. Федор — толстовская версия князя Мышкина. Сюжетную основу драмы составляет открытая борьба Годунова с партией князя Шуйского, кипящая у подножия Федорова престола. Кроткий, незлобивый характер Федора превращает Шуйского в вождя заговорщиков («Ты слабостью своею истощил / Терпенье наше!»), а Годунова приводит в отчаяние: еще при Грозном он изощрился в искусстве направлять мысль и руку царя, — но чего стоит его умение при Федоре? Лишь стоит захотеть Доброта Федора не умиротворяет, а разжигает враждующие стороны. Трогательна надежда, с которой он берется примирить противников, и скромная гордость, когда он признается Борису, что не горазд в государственных делах, но смыслит больше его там, где «надо ведать сердце человека». В каком-то смысле он даже оказывается прав: потрясенный его смиренной готовностью сойти с престола, чтобы положить конец распрям, Шуйский восклицает: «Нет, он святой! / Бог не велит подняться на него!..»Последнему, ничтожному врагу — И он к себе царёво склонит сердце, И мной в него вложённое хотенье Он измени́т. Но добрые движения души не властны преломить общий ход событий. Ни Шуйский, ни Годунов не могут уже «разделать, что сделали» (как простодушно предлагает им царь). Трагический нравственный конфликт пьесы образуется тем, что именно мягкость Федора толкает Годунова подослать убийц к царевичу Дмитрию, вокруг которого собираются враги, готовые на открытый мятеж. Чем ярче свет добра и любви, источаемый Федором, тем более сгущается вокруг него тьма. Дмитрий и Шуйский — жертвы Бориса, но оттого лишь, что доверяющий всем царь доверяет и ему. Ужасно прозрение, которое обрушивается на Федора в конце трагедии: Моей виной случилось всё! А я — Крылатая формула Грибоедова «ум с сердцем не в ладу» своеобразно преломлена в сюжете трагедии. Федор хочет править «по сердцу», Борис — «по уму». Аргументы Бориса в этом споре сильны, но слабая логика Федора справедлива — и никакого спасительного средства примирить силу с нравственной правотой не находится.Хотел добра, Арина! Я хотел Всех согласить, все сгладить — Боже, Боже! За что меня поставил ты царем! Заключительная часть трилогии — «Царь Борис» (1869) — подсвечена воспоминаниями о пушкинской и рылеевской трактовках этого образа и о «доктрине Раскольникова» (роман Достоевского вышел тремя годами ранее): Кто упрекнет меня, Но скоро Борису суждено убедиться, что сойти с «пути кровавого» ему возможно, только отказавшись от плодов уже содеянного зла. Призрак убитого Дмитрия облекается в плоть Самозванца, движет на него иноземные полки, смущает народ, мерещится в бессонные ночные часы на престоле. Он должен признаться себе, что всё повторяется: как Грозный, он поставил страну перед угрозой распада, как Грозный, страдает от запоздалого раскаяния и призывает среди ночи для совета схимника, веригами искупающего свое былое соучастие в преступлении Годунова.Что чистотой души не усомнился Я за Руси величье заплатить? Кто, вспомня Русь царя Ивана, ныне Проклятие за то бы мне изрек, Что для ее защиты и спасенья Не пожалел ребенка я отдать Единого?.. Сдается мне, я шел, все шел вперед Каждая из пьес трилогии заключается словом героя, выражающим познанную им истину: но истины эти, при всей их значительности, носят все же частный характер. В полной своей сложности проблема, как видит ее автор, вырисовывается только при соположении этих заключительных реплик. Итог «Смерти Иоанна Грозного» подводится словами Захарьина: «Вот самовластья кара! / Вот распаденья нашего исход!» «Царь Федор Иоаннович» завершается отчаянным восклицанием: «Я — / Хотел добра!..» И, наконец, Борис, умирая, произносит:И мнил пройти великое пространство, Но только круг великий очертил И, утомлен, на то ж вернулся место, Откуда шел. Лишь имена сменились… От зла лишь зло родится — всё едино: Каждому герою представляется, будто он понял допущенную им ошибку. Но если рассматривать трилогию как целое — то где же верное решение, если зло рождается и «от зла», и от добра, и от «самовластья», и от безвластия, и от хитроумного лавирования?Себе ль мы им служить хотим иль царству — Оно ни нам, ни царству впрок нейдет! Конечно, выбор есть всегда. Перефразируя высказывание одного современного исторического романиста, властителю дано выбирать между тремя видами опасностей: теми, какими грозит тирания, теми, которыми чреват идеализм, «и самыми грозными из всех — опасностями компромисса». Свернуть сообщение - Показать полностью
14 Показать 3 комментария |
|
#даты #литература #длиннопост
Сегодня — столетний юбилей Аркадия Стругацкого. Иногда авторы НФ и утопий увлекаются описанием технической картины мира будущего, расписывая свои всевозможные придумки. Это может быть любопытно (прежде всего самому автору и не очень широкому кругу современников) как чисто интеллектуальное упражнение, но на долговечность такие произведения обычно не претендуют. Все-таки литература в первую очередь — рассказ о людях, а не о технике; да и устаревают все технические прожекты с потрясающей быстротой. Герой «Понедельника…» Саша Привалов сталкивается с такой «технической» фантастикой: — Я нашел, как применить здесь нестирающиеся шины из полиструктурного волокна с вырожденными аминными связями и неполными кислородными группами. Но я не знаю пока, как использовать регенерирующий реактор на субтепловых нейтронах. Миша, Мишок! Как быть с реактором? Показать полностью
 8 832 Показать 18 комментариев |
|
#даты #литература
Традиционно пушкинский день, но сегодня еще один крупный литературный юбилей. (А случай вспомнить Пушкина я всегда найду.) …Уважаемый любекский купец Томас Иоганн Генрих Манн полагал, что тяга его наследника (Генриха) к литературе — временная блажь. «Насколько это возможно, — писал он в завещании, — надлежит противиться склонности моего старшего сына к так называемой литературной работе. Для основательной, успешной деятельности в этом направлении у него, по-моему, нет предпосылок — достаточного образования и обширных знаний. Подоплека его склонности — мечтательная распущенность и невнимание к другим... Второму моему сыну не чужды спокойные взгляды, у него добрый нрав, и он найдет себе практическое занятие». Показать полностью
21 |
|
#даты #литература #ex_libris
100 лет назад родился Юкио Мисима — писатель, чье имя обычно сопровождают эпитеты «противоречивый», «неоднозначный» и «скандальный». Это в официально-нейтральных публикациях. Высказывания уровнем пониже и градусом повыше чаще всего располагаются в диапазоне от «реакционер и ультраправый националист» до «ненормальный извращенец». Ультраправый националист — да. Насчет ненормальности сказать что-либо сложно — хотя бы потому, что никто еще толком не определил границы нормальности для человеческой психики, не считая общего туманного представления о «средней температуре по больнице». Да и провести границу между героем и автором (особенно в повествовании от первого лица) не всегда легко, идет ли речь о «Записках из подполья» Достоевского, о «Путешествии на край ночи» Л.Селина или об «Исповеди маски» Мисимы, — хотя как будто уже само слово «маска» должно насторожить читателя. Показать полностью
 2 215 Показать 12 комментариев |
|
#даты #литература #длиннопост
#звери #зверики #зверьё — однозначно-не-моё! При любых Поворотах Судьбы: а) займи прочную, надежную позицию и хорошенько укрепись на ней; б) растаращи вибриссы во все стороны, чтоб держать ситуацию под контролем!  Тяжело дыша, мальчуган остановился и протянул мне веревочку. С конца ее свисало крохотное существо с розовыми лапками, розовым хвостом и красивыми темными глазками, в кремовом меху над которыми прятались вскинутые, как в постоянном удивлении, брови. Это и был долгожданный лунный увари, он же мышиный поссум. Короче, как вы уже поняли, сегодня родился еще один хороший человек. Дж. Даррелл. Три билета до Эдвенчер 100 лет Джеральду Дарреллу! Показать полностью
 42 4252 Показать 6 комментариев |
|
#даты #картинки_в_блогах #художники
150 лет назад родился Николай Константинович Рерих — художник, философ-мистик, писатель, путешественник, археолог, общественный деятель. Всё это в нем существовало не по отдельности, а слитно. Так что проще всего представить Рериха через его картины. Первая работа Рериха, за которую молодой выпускник Академии и получил звание художника, оказалась очень значимой для его будущего творчества. Гонец (1897) Через полвека Рерих напишет: «Не случайно моя первая картина была «Гонец», и с тех пор всякие «Вестники» — моя любимая тема». Другое название картины — «И восстал род на род». Это сообщение гонца — слова из «Повести временных лет», написанной в XII веке монахом Киево-Печерского монастыря Нестором. В середине IX века славяне объединились против варягов, которым платили дань, и изгнали их. А потом разгорелась новая борьба — за власть, в результате которой славяне снова стали искать себе заморского князя: И изгнаша варягы за море, и не даша имъ дани, и почаша сами в собѣ володѣти. И не бѣ в нихъ правды, и въста родъ на род, и быша усобицѣ в них, и воевати сами на ся почаша...  Показать полностью
 31 3123 Показать 2 комментария |
|
#даты #литература #длиннопост
В этом году — 100-летний юбилей у нескольких советских писателей из самого младшего поколения фронтовиков. И в этом смысле — столетний юбилей прозы, которую иногда называют «лейтенантской». Юрий Васильевич Бондарев (15 марта 1924 — 29 марта 2020) Родился он в г. Орске Оренбургской губернии, в семье народного следователя, участника Первой мировой войны (из крестьян); мать — из рабочей среды. Детство Юрия прошло в Замоскворечье, куда Бондаревы переехали в 1931 г. После окончания школы Юрий поступил в пехотное училище и через три месяца был направлен на фронт. Участник Сталинградской битвы (командир минометного расчета). В числе прочих наград Бондарева — две медали «За отвагу» и орден Отечественной войны I степени. По окончании войны Бондарев завершил обучение в Чкаловском артиллерийском училище, но был демобилизован по ранениям в звании младшего лейтенанта. В 1951 г. окончил Литературный институт. Показать полностью
 6 624 Показать 6 комментариев |
|
#даты #литература #длиннопост
Я всегда был и, по-видимому, навсегда останусь журналистом. Г.К.Честертон — Этот великий человек был, в сущности, всего лишь журналистом, но зато каким журналистом! 150 лет назад родился Гилберт Кийт Честертон.Дж. Б. Шоу В журналистском багаже Честертона — произведения публициста и писателя, критика и историка литературы, богослова и поэта, эссеиста и иллюстратора. Само по себе это мало о чем говорит. Недостаточно хвататься за всё подряд, чтобы тобой восхищался кто-то вроде Бернарда Шоу. Но стихи Честертона читали по английскому радио в самый темный и в самый светлый час второй мировой войны. Если это не признание, тогда такой вещи как признание вообще не существует. Показать полностью
 2 224 Показать 9 комментариев |
|
#даты #литература #длиннопост
Мне представляется, что на мир, в котором мы живем, можно смотреть без отвращения только потому, что есть красота, которую человек время от времени создает из хаоса. Картины, музыка, книги, которые он пишет, жизнь, которую ему удается прожить. Еще один январский юбилей: 150 лет Сомерсету Моэму.Будущий писатель родился в семье юриста британского посольства во Франции. Его родным языком был французский. Семи лет от роду мальчик потерял мать, а еще через три года — и отца. Его отослали к родственникам в Англию, где он оказался на попечении дяди-пастора, человека эгоистичного и ограниченного. В школе над ним смеялись из-за французского акцента, заикания… Моэм рос болезненным и замкнутым ребенком. Показать полностью
 7 717 Показать 5 комментариев |
|
#даты #литература
Нет, лучше начать не так. В XVIII веке в Лондоне жил-был один литератор средней руки, по совместительству приторговывавший картинами: литература — ремесло неверное и не особо хлебное. Звали его Уильям, а фамилию немного придержу: нужна же мне какая-то интрига! Его сын, Уильям-младший, унаследовал от отца не только имя, но и увлечение живописью. Только он стал уже не просто знатоком, а известным по английским масштабам художником. Его излюбленные сюжеты — пейзажи и сентиментальные жанровые сценки в «предвикторианском» вкусе, большей частью из сельского быта. Вот такие: Бездомный котенок Счастлив, как король На пшеничном поле Продавец вишен Раннее утро 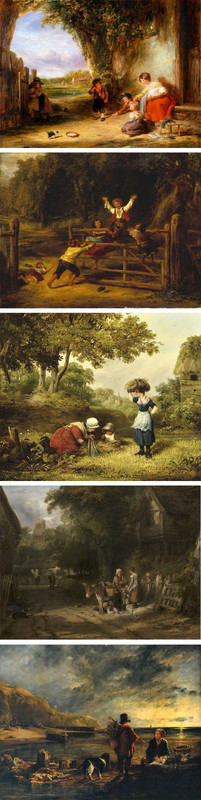 Показать полностью
 6 628 Показать 2 комментария |
|
#даты #литература #поэзия #цитаты #длиннопост
150 лет со дня рождения Валерия Брюсова Есть в Москве Брюсов переулок. Как известно, назван он в честь графа Якова Вилимовича Брюса, одного из «птенцов гнезда Петрова» — генерал-фельдмаршала, дипломата, инженера и ученого, чей предок происходил из древнего шотландского рода и переселился в Россию в середине XVII века, после утраты Шотландией независимости. В народе Яков Вилимович имел репутацию чернокнижника («колдун на Сухаревой башне»). У Брюса, само собой, были крепостные крестьяне — «Брюсовы». Одному из носителей этой фамилии в 1850-х годах удалось мелочной торговлей собрать достаточно деньжонок и выкупиться на волю. Кузьма Брюсов до конца своих дней был полуграмотен. Его сын Яков (родившийся тоже крепостным, но «доросший» до купеческого звания) — уже человек довольно образованный, поклонник Некрасова и Чернышевского, убежденный демократ и дарвинист. А сын Якова — Валерий Брюсов — окончил историко-филологический факультет Московского университета и стал выдающимся эрудитом. Брюсов прожил всего 50 лет — но любой словарь выдаст примерно такую его характеристику: «поэт, прозаик, драматург, переводчик, журналист, редактор, литературовед, литературный критик и историк; теоретик и один из основоположников русского символизма». В юности он сказал: «Я хочу жить так, чтобы в истории всеобщей литературы обо мне было две строчки. И они будут!» Энергичный, деятельный характер этого человека сочетался с амбициозностью и страстной жаждой знания: Свободно владея (кроме русского) языками латинским и французским, я знаю настолько, чтобы читать без словаря, языки: древнегреческий, немецкий, английский, итальянский; с некоторым трудом могу читать по-испански и по-шведски; имею понятие о языках: санскритском, польском, чешском, болгарском, сербском. Заглядывал в грамматики языков: древнееврейского, древнеегипетского, арабского, древнеперсидского и японского. Характерное выражение — «научный оккультизм». Чисто брюсовская черта: даже в спиритизме (который был тогда в моде) его притягивало внешнее сходство с экспериментальной наукой. Недаром любимым предметом Брюсова в юности была математика.В чем я специалист? 1) Современная русская поэзия. 2) Пушкин и его эпоха. Тютчев. 3) Отчасти вся история русской литературы. 4) Современная французская поэзия. 5) Отчасти французский романтизм. 6) XVI век. 7) Научный оккультизм. Спиритизм. 8) Данте; его время. 9) Позднейшая эпоха римской литературы. 10) Эстетика и философия искусства. Но, Боже мой! Как жалок этот горделивый перечень сравнительно с тем, чего я не знаю. Весь мир политических наук, все очарование наук естественных, физика и химия с их новыми поразительными горизонтами, все изучение жизни на земле, зоология, ботаника, соблазны прикладной механики, истинное знание истории искусств, целые миры, о которых я едва наслышан, древность Египта, Индия, государство Майев, мифическая Атлантида, современный Восток с его удивительной жизнью, медицина, познание самого себя и умозрения новых философов, о которых я узнаю из вторых, из третьих рук. Если бы мне жить сто жизней — они не насытили бы всей жажды познания, которая сжигает меня! В библиотеке Брюсова насчитывалось около 5000 томов. Из них:• 200 томов энциклопедических и прочих словарей и грамматик • 241 том — античный отдел • 224 — Пушкин и литература о нем • 330 — прочие русские классики и литературоведение в целом • 1135 — писатели эпохи символизма • 676 — французская литература • 129 — английская • 93 — немецкая • 66 — итальянская • 80 — армянская • 220 — искусство • 143 — философия • 43 — история религии • 64 — математика • 47 — естествознание • 233 — альманахи, русские и зарубежные • 1018 — журналы В одной из своих статей Брюсов сделал тонкое замечание о пушкинском Сальери: он не завистник — от Моцарта Сальери отличает иной склад художественного дарования, которое исходит не от наитий, а от выстроенного алгоритма («поверить алгеброй гармонию»). Статья называлась «Пушкин и Баратынский» — они, по мнению Брюсова, были характернейшими представителями этих двух типов. И себя он тоже относил к «сальерианцам». Такой необычный для поэта рационалистический и одновременно экстенсивный склад мышления не мог не дать довольно любопытных результатов. Здесь пролегает черта, отделяющая Брюсова от Блока, «старших» символистов» от «младших». Младшие шли вглубь. Старшие — и Брюсов прежде всего — раскидывались вширь. Поэтический мир его в большей степени внешний, чем внутренний. Это своего рода музей с галереей экспонатов: пейзажи, портреты, памятники искусства, исторические события, верования, идеи, «мгновения»… Брюсов жаден — он не желает оставить что-либо непознанным и невоспетым: Мой дух не изнемог во мгле противоречий, Хотел того Брюсов или нет, последняя строчка выглядит как признание внутреннего холода: под покровом кипучей активности, внешне бурных эмоций — трезвый взгляд регистратора и аналитика.Не обессилел ум в сцепленьях роковых. Я все мечты люблю, мне дороги все речи, И всем богам я посвящаю стих… Я посещал сады Лицеев, Академий, На воске отмечал реченья мудрецов, Как верный ученик, я был ласкаем всеми, Но сам любил лишь сочетанья слов. Стремление к всеохватности отражается даже в названиях поэтических сборников и циклов Брюсова, где в тех или иных формах вылезает множественное число — плюс отсутствие ложной скромности: Juvenilia (Юношеское), Chefs d’oeuvre (Шедевры), Me eum esse (Это я), Tertia vigilia (Третья стража), Urbi et Orbi (Миру и Городу — формула Папы!), Stephanos (Венок), Все напевы, Зеркало теней, Семь цветов радуги, Девятая камена, Последние мечты, В такие дни, Миг, Дали, Меа (Спеши)… Брюсов мечтал запечатлеть в циклах «Сны человечества» все формы культурного сознания и все типы мышления. Даже сборник его работ о русских поэтах был озаглавлен так, чтобы объять всё и вся: «Далекие и близкие». И вышло так, что человеку с подобным складом мышления довелось стать провозвестником и лидером русского символизма — причем вовсе не по причине почившего на нем благословения музы или тому подобных таинственных феноменов, а вследствие целенаправленного решения. Преклоняясь перед Пушкиным, Брюсов тем не менее считал, что новая эпоха нуждается в новом языке: «Что если бы я вздумал на гомеровском языке писать трактат по спектральному анализу?» В 20 лет он записал в своем дневнике: Талант, даже гений, честно дадут только медленный успех, если дадут его. Это мало! Мне мало. Надо выбрать иное… Найти путеводную звезду в тумане. И я вижу ее: это декадентство. Да! Что ни говорить, ложно ли оно. смешно ли, но оно идет вперед, развивается, и будущее будет принадлежать ему, особенно когда оно найдет достойного вождя. А этим вождем буду я! Сказано — сделано. Через год вышел первый сборник его стихов. Затем — лет десять насмешек и возмущения критиков. И только потом пришло признание.Парадокс заключался в том, что пророком и вождем символистов стал поэт, по своей натуре и характеру дарования меньше всего склонный к символизму. О чем речь, можно увидеть на примере одного из самых известных брюсовских стихотворений: Тень несозданных созданий Стихотворение названо «Творчество». Сколько глубокомысленных интерпретаций на его основе было построено, какие проникновения в глубочайшие творческие тайны виделись критикам за этими строчками! Колыхается во сне, Словно лопасти латаний На эмалевой стене. Фиолетовые руки На эмалевой стене Полусонно чертят звуки В звонко-звучной тишине. И прозрачные киоски В звонко-звучной тишине Вырастают, словно блестки, При лазоревой луне. Всходит месяц обнаженный При лазоревой луне… Звуки реют полусонно, Звуки ластятся ко мне. Тайны созданных созданий С лаской ластятся ко мне, И трепещет тень латаний На эмалевой стене. А из противоположного лагеря неслись обвинения в отсутствии здравого смысла. Владимир Соловьев ехидничал: Обнаженному месяцу восходить при лазоревой луне не только неприлично, но и вовсе невозможно, так как месяц и луна суть только два названия для одного и того же предмета. Между тем основа у стихотворения самая тривиально-биографическая. Поэт задремал вечером у печки. Загадочное слово «латания» означает пальму (в данном случае комнатную), а эмалевая стена — это печные изразцы, в которых отражаются пальмовые листья-лопасти: их тени похожи на «фиолетовые руки». Месяц тоже отражается на изразцах в виде «лазоревой луны» — вот оно, возмутившее Соловьева удвоение небесного светила.Короче, никаких символических шарад Брюсов тут не стремился загадывать: он просто образно описал состояние полусна-полуяви, пробуждающее художественное воображение. (Другое дело, что поэтический текст сам по себе является структурой смыслопорождающей…) В плане критических придирок особенно прославилось брюсовское одностишие: «О, закрой свои бледные ноги!» Критик язвительно замечал, что хотя бы это стихотворение имеет несомненный и ясный смысл: Для полной ясности следовало бы, пожалуй, прибавить: „ибо иначе простудишься“, но и без этого совет г. Брюсова, обращенный, очевидно, к особе, страдающей малокровием, есть самое осмысленное произведение всей символической литературы. Нападки Соловьева, однако, привлекли к начинающему поэту внимание публики. И понеслось…Но хотя сам Брюсов был символистом весьма сомнительным, теорию символизма он разработал, попутно разгромив оппонентов. Сторонников доктрины «гражданственности» в искусстве (Некрасов и К°) он сравнил с мальчиком Томом из «Принца и нищего», который колол орехи государственной печатью Англии. «Чистое искусство» (Фет и К°), по мнению Брюсова, предлагает любоваться блеском этой печати; а филология и вовсе подменяет вопрос о предназначении искусства вопросом о генезисе и составе, как если бы ту же печать разложили в алхимическом тигеле. Подлинный смысл искусства, по заявлению Брюсова, — в интуитивном откровении тайн бытия. Между тем этому требованию, по сути, отвечало только творчество «младших символистов» во главе с Блоком, которые — еще один парадокс! — вдохновлялись прежде всего философией и поэзией того самого Соловьева, что так жестоко раскритиковал Брюсова. А вот в лирике Брюсова, как и его сподвижника Бальмонта, никаких особенных «тайн бытия» не наблюдается: символ стал для них только средством словесного искусства. Стихи Брюсова пластичны и скульптурны. Он любит меру, число, чертеж; он интеллектуален и даже рассудочен. По оценке А.Белого, при всей своей тематической пестроте Брюсов неизменен: он лишь проводит свое творчество сквозь строй все новых и новых технических завоеваний. «Он только отделывал свой материал, и этот материал — всегда мрамор». Знавшим Брюсова людям неизменно приходило на ум сравнение с магом. Стройный, гибкий, как хлыст, брюнет в черном сюртуке, со скрещенными на груди руками (типичная его поза), скульптурной лепки лицо, насупленные брови и гипнотические черные глаза… Однако «черный маг», увлекавшийся изучением оккультизма, потомок крепостных «колдуна с Сухаревой башни», сам ни во что иррациональное не верил. В одной из своих заметок он так высказался по этому поводу: В одном знакомом мне семействе к прислуге приехал погостить из деревни ее сын, мальчик лет шести. Вернувшись в деревню, он рассказывал: «Господа-то (те, у кого служила его мать) живут очень небогато: всей скотины у них – собака да кошка!» Мальчик не мог себе представить иного богатства, как выражающегося в обладании коровами и лошадьми. Этого деревенского мальчика напоминают мне критики-мистики, когда с горестью говорят о «духовной» бедности тех, кто не религиозен, не обладает верой в божество и таинства. Интересно, что неспособность к религиозно-мистическим переживаниям сочеталась у Брюсова с нелюбовью к музыке (хотя он свободно читал ноты и умел играть на фортепиано). В этом отношении Брюсов являлся полной противоположностью Александра Блока, в чьих глазах мир был исполнен тайных значений и сакральных смыслов, а музыка становилась способом их постижения. Они двое представляли собой своего рода ИНЬ и ЯН русской поэзии.Лирические герои Брюсова многочисленны и многолики — и это тоже отличает его от Блока (да и от большинства лириков). Но почти всегда это Сильная Личность. В этот же ряд попадает и романтически-отстраненный Поэт — «юноша бледный со взором горящим». Но чаще всего брюсовские гимны Сверхличности вдохновляются легендами. Вот — скифы, вот — халдейский пастух, познавший ход небесных светил; вот в пустыне иероглифы, гласящие о победах Рамзеса; вот Александр Великий, называющий себя сыном бога Аммона; вот Клеопатра и Антоний, Старый Викинг, Дон-Жуан, Мария Стюарт, Наполеон, Данте в Венеции… Оживают герои мифов: Деметра, Орфей и Эвридика, Медея, Тезей и Ариадна, Ахиллес у алтаря, Орфей и аргонавты… Не только сюжет, но само торжественное звучание чеканного стиха создает образы, похожие на медальные профили (недоброжелатели сравнивали брюсовские стихи с паноптикумом восковых фигур): Я — вождь земных царей и царь, Ассаргадон. Склонность поэта к перевоплощению распространялась не только на героев истории. У него есть стихотворения, написанные «от лица» очень неожиданных персонажей: Владыки и вожди, вам говорю я: горе! Едва я принял власть, на нас восстал Сидон. Сидон я ниспроверг и камни бросил в море… «Я — мотылек ночной…» «Я — мумия, мертвая мумия…» «Мы — электрические светы» (именно так, во множественном числе!) «Зимние дымы» («Хорошо нам, вольным дымам…») — и т. д. Эта страсть к метаморфозам предопределила и увлечение переводами. По обилию блестящих переводов Брюсова можно поставить рядом только с Жуковским. Особенно ему удавались переводы с французского, прежде всего — Эмиль Верхарн. Поэта зачаровывает дыхание истории, доносящееся из темной пропасти веков: Где океан, век за веком, стучась о граниты, Для брюсовских супергероев органичны экзотичные декорации: египетские пирамиды, леса криптомерий, безумные баядерки, идолы острова Пасхи…Тайны свои разглашает в задумчивом гуле, Высится остров, давно моряками забытый, — Ultima Thule. Другая тема Брюсова созвучна Бодлеру и Верхарну: мрачная поэзия современного города, его суета, резкие контрасты, электрический свет и кружение ночных теней. …Она прошла и опьянила От этой «Прохожей» Брюсова тянутся нити к блоковской «Незнакомке». Еще до Блока открыл он и тему «страшного мира». Брюсов — певец цивилизации — любил порядок, меру и строй, но был околдован хаосом, разрушением и гибелью. Ощущение близкой опасности вызывало к жизни образы, похожие на смутные, тревожные сны:Томящим запахом духов, И быстрым взором оттенила Возможность невозможных снов. Сквозь уличный железный грохот, И пьян от синего огня, Я вдруг заслышал жадный хохот, И змеи оплели меня. Мы бродим в неконченом здании Поэма «Конь блед» с эпиграфом из Апокалипсиса ведет к пугающей мысли: для современного человечества, завороженного дьявольским наваждением города, нет ни смерти, ни воскресения. Сама ритмика стихотворения производит впечатление грузной механической силы:По шатким, дрожащим лесам, В каком-то тупом ожидании, Не веря вечерним часам. Нам страшны размеры громадные Безвестной растущей тюрьмы. Над безднами, жалкие, жадные, Стоим, зачарованы, мы… Улица была — как буря. Толпы проходили, Если сюда ворвется сам всадник-Смерть, водоворот приостановится лишь на мгновенье: потом нахлынут новые толпы… Безумному кружению призраков суждена дурная бесконечность.Словно их преследовал неотвратимый Рок. Мчались омнибусы, кэбы и автомобили, Был неисчерпаем яростный людской поток… Брюсов стал, возможно, величайшим экспериментатором в области техники русского стиха, использовавшим все возможные формы ритмики и открывшим новые («надобно так уметь писать, чтобы ваши стихи гипнотизировали читателя...»). И тот же импульс к универсальности — в жанрах. Перед читателем, как на параде, проходят элегии, буколики, оды, песни, баллады, думы, послания, картины, эпос, сонеты, терцины, секстины, октавы, рондо, газеллы, триолеты, дифирамбы, акростихи, романтические поэмы, антологии… Как известно, стихотворные размеры в целом делятся на двухсложные и трехсложные. Хотя стопы большей «мерности» тоже существуют, о них обычно не вспоминают. Просто потому, что даже в русском языке трудно найти столько длинных слов, чтобы обеспечить такие размеры. Брюсову — не трудно! Например, пеон — четырехсложный размер. В зависимости от того, на какой слог падает ударение, он бывает четырех типов, которые называются просто по номеру ударного слога. В стихотворении «Фонарики» использован «пеон-второй». Вот несколько строк: Столетия — фонарики! о, сколько вас во тьме, Пеон-третий:На прочной нити времени, протянутой в уме! Огни многообразные, вы тешите мой взгляд... То яркие, то тусклые фонарики горят. Век Данте — блеск таинственный, зловеще золотой... Лазурное сияние, о Леонардо, — твой!.. Большая лампа Лютера — луч, устремленный вниз... Две маленькие звездочки, век суетных маркиз... Сноп молний — Революция! За ним громадный шар, О ты! век девятнадцатый, беспламенный пожар!.. Застонали, зазвенели золотые веретёна, Вообще-то многосложные размеры для нашей поэзии достаточно органичны, но устойчиво связаны с фольклорной традицией — из-за малого числа ударений строчки приобретают характерную распевность. Например, пентон — и вовсе пятисложный размер: ударение стабильно приходится на третий слог из пяти. У А.К.Толстого:В опьяняющем сплетеньи упоительного звона… Кабы зна́ла я, кабы ве́дала, Еще один значимый момент — клаузула (ритмическое окончание). Это число слогов за последним ударным гласным в строчке. Бывают клаузулы мужские (ударение на последний слог в строчке) — например, рифмы «любовь / кровь». Клаузулы женские (на предпоследний) — «время / племя». Дактилические (на третий от конца) — «народное / свободное». И даже гипердактилические (на четвертый): «рябиновые / рубиновые».Не смотре́ла бы из око́шечка Я на мо́лодца разуда́лого, Как он е́хал по нашей у́лице… Для Брюсова не проблема забраться и подальше. Вот начало стихотворения, где ударение приходится на пятый от конца слог: Холод, тело тайно ско́вывающий, Брюсов издал целую книгу — «Опыты по метрике и ритмике, по эвфонии и созвучиям, по строфике и формам». Например, стихотворение, где наблюдается последовательное, через каждые 2 строчки, уменьшение клаузулы — от 6-сложной к нулевой — начинается строчками:Холод, душу очаро́вывающий… От луны лучи протя́гиваются, К сердцу иглами притра́гиваются… Ветки, темным балдахином све́шивающиеся, Другая разновидность игры с метром — разностопность. Пример строфы, где первая строчка — это 3-стопный анапест, вторая — 4-стопный, третья — 5-стопный, 4-я — опять 4-стопный:Шумы речки, с дальней песней сме́шивающиеся… Вся дрожа, я стою на подъезде А тут через строчку чередуются разные размеры: дактиль и амфибрахий. В стиховедении этот редко встречающийся фокус называется «трехсложник с вариациями анакруз»:Перед дверью, куда я вошла накануне, И в печальные строфы слагаются буквы созвездий. О туманные ночи в палящем июне! В мире широком, в море шумящем Нередко Брюсов использует эффект цезуры: в середине строки возникает пауза за счет пропуска одного слога. Ниже — строфа из стихотворения, написанного ямбом, где в каждой строчке аж по 3 цезуры (отмечены значком /):Мы — гребень встающей волны. Странно и сладко жить настоящим, Предчувствием песни полны. Туман осенний / струится грустно / над серой далью / нагих полей, Так же активно работает Брюсов и с фонетикой стиха: аллитерации, ассонансы (повторяющиеся согласные и гласные) — все виды созвучий, которые создают дополнительную гипнотическую напевность. В данном случае это повторы А, Ю и ТА:И сумрак тусклый, / спускаясь с неба, / над миром виснет / все тяжелей, Туман осенний / струится грустно / над серой далью / в немой тиши, И сумрак тусклый / как будто виснет / над темным миром / моей души. Ранняя осень любви умирающей. Ритмические изыски сочетаются с фонетическими:Тайно люблю золотые цвета Осени ранней, любви умирающей. Ветви прозрачны, аллея пуста, В сини бледнеющей, веющей, тающей Странная тишь, красота, чистота… Близ медлительного Нила, / там, где озеро Мерида, / в царстве пламенного Ра, В этом стихотворении использован пеон-третий; двойная цезура сочетается с тройной внутренней рифмой: -ИЛА / -ИДА / -РА; а строфы (из трех строчек) укорачиваются в конце.Ты давно меня любила, / как Озириса Изида, / друг, царица и сестра! И клонила / пирамида / тень на наши вечера… Технические навыки Брюсов усовершенствовал до степени невероятной. Поэт В.Шершеневич вспоминал, что как-то послал ему акростих, в подражание латинскому поэту Авсонию, где можно было прочесть «Валерию Брюсову» по диагоналям и «от автора» — по вертикали. Адресат немедленно ответил стихотворением, в котором по двум диагоналям можно было прочесть «Подражать Авсонию уже мастерство», а по вертикалям — «Вадиму Шершеневичу от Валерия Брюсова». Почему он растрачивал столько сил на подобные ученические опыты? В «Сонете к форме» Брюсов изложил свое кредо: безупречная форма — единственный способ существования для произведения искусства: Есть тонкие властительные связи И сама индивидуальность поэта, по утверждению Брюсова, выражается не в чувствах и мыслях, представленных в его стихах, а в приемах творчества, в любимых образах, метафорах, размерах и рифмах. Не случайно Блок в дарственной надписи на своем сборнике назвал Брюсова «законодателем и кормщиком русского стиха».Меж контуром и запахом цветка. Так бриллиант невидим нам, пока Под гранями не оживет в алмазе. Так образы изменчивых фантазий, Бегущие, как в небе облака, Окаменев, живут потом века В отточенной и завершенной фразе... Еще одна часть наследия Брюсова — проза. Здесь вовсю развернулась его страсть к необычному — археология, экзотика и фантастика. Рассказ «Республика Южного Креста» — антиутопия, написанная еще до замятинского «Мы». Звездный город на Южном полюсе отделен от внешнего мира громадной крышей, всегда освещенной электричеством. В этом разумном муравейнике возникает вдруг эпидемия — мания противоречия. Люди начинают делать противоположное тому, что они хотят. Картины гибели, озверения, массового безумия — традиции Жюля Верна и Уэллса сочетаются здесь с Эдгаром По. Брюсов стремился пересадить на отечественную почву приемы иностранной беллетристики: на него сыпались упреки в дурном вкусе, болезненном декадентском эротизме в духе Лиль-Адана и Бодлера (сборник рассказов «Земная ось»)… Его влекла идея взаимопроникновения иллюзии и действительности, порождающая фантастические метаморфозы во внутреннем мире человека: Нет определенной границы между миром реальным и воображаемым, между „сном“ и „явью“, „жизнью“ и „фантазией“. То, что мы считаем воображаемым, — может быть высшая реальность мира, а всеми признанная реальность — может быть самый страшный бред. Отличительная особенность брюсовской прозы — сочетание рассудочности и иррациональности, логики и абсурда, местами смутно напоминающее будущие «культурологические детективы» Умберто Эко.Роман «Огненный Ангел был встречен критикой с холодным недоумением: ни под один из существовавших в русской литературе жанров он не подходил. Для исторического романа он был слишком фантастичным, для психологического — слишком неправдоподобным. Содержание романа автор исхитрился втиснуть в «полное название», стилизованное под старинную манеру синопсисов: „Огненный Ангел“, или правдивая повесть, в которой рассказывается о дьяволе, не раз являвшемся в образе светлого духа одной девушке и соблазнившем ее на разные греховные поступки, о богопротивных занятиях магией, гоетейей и некромантией, о суде над оной девушкой под председательством его преподобия архиепископа Трирского, а также о встречах и беседах с рыцарем и трижды доктором Агриппою из Неттесгейма и доктором Фаустом, записанная очевидцем. По затейливости роман напоминает одновременно «Эликсиры сатаны» Гофмана и «Саламбо» Флобера. Запутанный авантюрный сюжет, приключения и мистика соединяются в нем с педантической «научностью» и многочисленными примечаниями: Брюсов не впустую хвалился, что сведущ в оккультных науках. Они служат созданию глубины и вносят ноту иронического остранения. Пересказ «Огненного ангела» может создать иллюзию (но только иллюзию!), будто это роман «вальтерскоттовского» типа. Кельн, XVI век. Главный герой Рупрехт, гуманист и воин, возвращается из Америки, где провел пять лет. На дороге, в одинокой гостинице, он знакомится с красавицей Ренатой. Когда Рената была ребенком, к ней явился огненный ангел Мадиэль и обещал вернуться снова в человеческом образе. И через несколько лет появился белокурый граф Генрих фон Оттергейм, который увез Ренату в свой замок. Но вскоре Генрих исчез, а Ренату стали терзать злые духи. Рупрехт становится спутником Ренаты в поисках графа Генриха; со временем девушка проникается к Генриху жгучей ненавистью и требует от Рупрехта, чтобы он за нее отомстил. Под ее влиянием герой начинает заниматься магией (тут и сцены полета на шабаш, и вызов дьявола, и книги по демонологии). Затем в сюжет врываются Агриппа Неттесгеймский, а также доктор Фауст и Мефистофель… Роман подсвечен неслабыми психологическими амбициями. В натуре Ренаты воспаленное воображение, мистицизм, вырастающий из сознания греховности и жажды искупления, бесплодное стремление к святости и неутолимая потребность в любви превращены в патологические симптомы. На этом примере иллюстрируется феномен истерии средневековых ведьм. Вдобавок этот закрученный сюжет наложен на реальный «любовный треугольник» из биографии автора, где роль Рупрехта досталась самому Брюсову, а Ренатой и графом Генрихом стали поэтесса Нина Петровская и писатель-символист Андрей Белый. (Любовные истории, как правило трагические, тянулись за Брюсовым всю его недлинную жизнь, будто в нем действительно было что-то «роковое».) За «Огненным ангелом» последовал роман из римской жизни — «Алтарь Победы», впрочем, тоже не имевший успеха. Традиционно поэты тяготели к греческой культуре в противовес «великодержавным» варварам-римлянам, а вот Брюсова живо интересовали именно римляне. Он сам признавался, что существуют миры, для него внутренне закрытые, — прежде всего мир Библии; что ему близка Ассирия, но не Египет, а Греция интересна «лишь постольку, поскольку она отразилась в Риме». Хотя Брюсова и влекла психология людей «рубежа», поэт М.Волошин в своих воспоминаниях отмечал, что ему был чужд изысканный эстетизм и утонченный вкус культур изнеженных и слабеющих: «В этом отношении никто дальше, чем он, не стоит от идеи декаданса»… Это наблюдение подтвердилось. Добившись всеобщего признания как лидер русского символизма, Брюсов без сожаления оставил эту роль, объявив, что периоды «порывов» и «революций» в сфере творчества — только база для обновления классического академизма. Ему было скучно стоять на месте — даже на месте вождя бунтарей: Брюсов рвался вперед, жадно хватаясь за все новое. Так, например, в 1916 году он увлекся армянской культурой, за полгода выучил язык и проглотил огромное количество книг по теме, читал лекции в Тифлисе, Баку, Эривани… Результатом стал выход антологии «Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней», составленной из переводов крупнейших русских поэтов, которых Брюсов привлек к работе (в том числе, разумеется, и переводов самого Брюсова), под его же редакцией. «Поэзия Армении…» и до сего дня считается эталоном жанра и переиздается в неизменном составе. Не удивительно, что Брюсов с его жаждой постоянного обновления жизни оказался среди тех немногих, кто после революции сразу признал советскую власть. Также не удивительно, что его поступок объясняли с самых разных точек зрения, в диапазоне от «понял и принял» до «продался». Неуязвимой для сомнений остается только причина, указанная самим поэтом: «Что бы нас ни ожидало в будущем, мы должны пронести свет нашей национальной культуры сквозь эти бури…». Он сделал все, что смог, — за оставшиеся ему несколько лет. Заведовал отделом научных библиотек Наркомпроса, Московской Книжной палатой, организовал и возглавил Литературный отдел при Наркомпросе, а затем — Высший литературно-художественный институт, который в обиходе называли «Брюсовским»: на его базе позднее был создан современный Литературный институт им. Горького. Огромные силы Брюсов вложил в чтение лекций, в труды по пушкинистике и по технике стиха, издательскую и редакторскую работу... И, конечно, он продолжал писать стихи, где все явственнее проступала «научная» тема: «электроплуг, электротраллер — чудовища грядущих дней», мир атомов и электронов, мечты о космических полетах… Наука нового века была близка Брюсову пафосом завоеваний, демонстрацией бесконечного богатства мира. Он сгорел быстро — в 50 лет. И оставил после себя очень много. Добрая четверть наследия Брюсова не издана еще и сегодня, кое-что опубликовано спустя десятки лет после его смерти. (Так случилось, например, с трагедией «Диктатор», написанной в 1921 году, — она была отклонена как идеологически ложная: «в социалистическом государстве не может быть почвы для появления диктатора». Пьеса вышла в свет только с началом перестройки.) Крупнейший русский стиховед, М.Л.Гаспаров, писал о Брюсове: Его можно не перечитывать, его можно осуждать за холодность и сухость, ему можно предпочитать Блока, Маяковского, Есенина, Пастернака... Но нельзя не признавать, что без Брюсова русская поэзия не имела бы ни Блока, ни Пастернака, ни даже Есенина и Маяковского — или же имела бы их неузнаваемо иными. Миновать школу Брюсова было невозможно ни для кого. Героем собственных стихов — и известного врубелевского портрета — предстает Брюсов в строках своего пожизненного друга и соперника Андрея Белого: У ног веков нестройный рокот, катясь, бунтует в вечном сне. И голос ваш — орлиный клекот — растет в холодной вышине. В венце огня, — над царством скуки, над временем вознесены, — застывший маг, сложивший руки, пророк безвременной весны. Свернуть сообщение - Показать полностью
21 Показать 6 комментариев |
|
#даты #литература #длиннопост
100 лет со дня рождения Итало Кальвино. 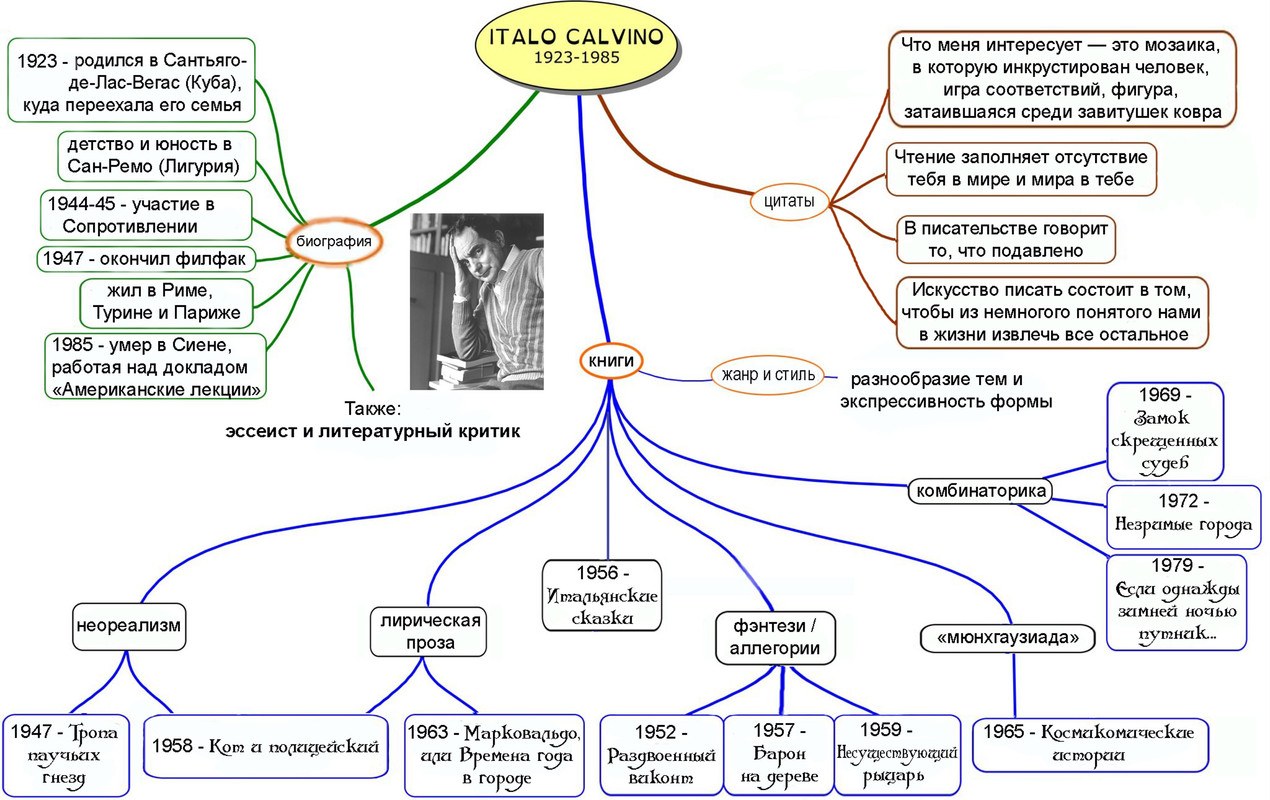 Вероятно, будущий писатель вообще не появился бы на свет, если бы его отец в свое время не влип в неприятную историю, связанную с русским революционным движением. Агроном и ботаник Марио Кальвино был убежденным анархистом. В 1907 году Марио снабдил своим паспортом русского эсера-террориста Всеволода Лебединцева, с которым познакомился в Риме. Менее чем через год Лебединцева арестовали в Петербурге по обвинению в покушении на министра юстиции, предали военному суду и повесили. (Под именем Вернера этот человек выведен в знаменитом «Рассказе о семи повешенных» Леонида Андреева.) Показать полностью
 10 1010 |
|
#даты #старое_кино
В этом году сразу три столетних юбилея у людей, которых имеет смысл вспомнить вместе. Тем более что они и работали вместе. И были важной частью феномена под названием «советская комедия». Народный артист СССР Леонид Гайдай (30 января 1923 — 19 ноября 1993) Леонид Гайдай родился в Амурской губернии, куда еще до революции был отправлен в ссылку его отец — член эсеровской организации. Все трое сегодняшних юбиляров — из поколения школьного выпуска 21 июня 1941 года. Леонид воевал в разведке, в 1943 году был тяжело ранен и после длительного лечения в госпитале признан инвалидом II группы. Кавалер Ордена Отечественной войны I степени и медали «За боевые заслуги» (потом, конечно, был еще ряд штатских наград). После войны Гайдай учился в театральной студии в Иркутске, затем окончил ВГИК — и в итоге стал сценаристом и режиссером, снявшим — согласно проведенному в 1995 году опросу зрителей — лучшие отечественные комедии. Показать полностью
 4 443 Показать 3 комментария |
|
#даты #литература #поэзия
100 лет со дня рождения польской поэтессы: ВИСЛАВА ШИМБОРСКА (2.07.1923 – 1.02.2012) — лауреат Нобелевской премии по литературе 1996 года, с формулировкой: «За поэзию, которая с предельной точностью описывает исторические и биологические явления в контексте человеческой реальности». Ниже — три характерных стихотворения Шимборской (верлибры). Перевод с польского Н.Астафьевой. 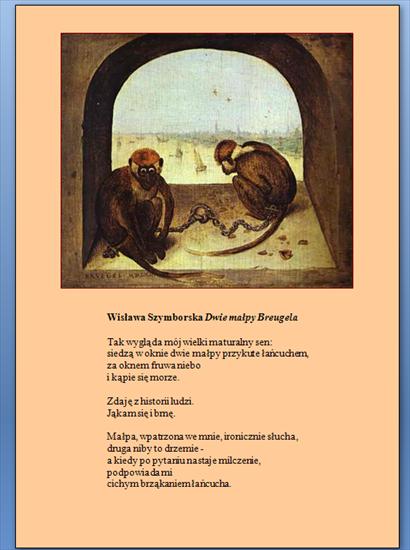 ДВЕ ОБЕЗЬЯНЫ БРЕЙГЕЛЯ Таков мой вечный экзаменационный сон: в окне сидят две обезьяны, скованные цепью, а за окном плещется море и порхает небо. Сдаю историю людей. Плету и заикаюсь. Глядит с иронией одна из обезьян, другая как бы спит в оцепененье; когда же на вопрос молчу, замявшись, я, она подсказывает мне Показать полностью
13 Показать 2 комментария |
|
#литература #театр #даты #длиннопост
200 лет со дня рождения А.Н.Островского Год назад был 400-летний юбилей другого великого драматурга — Мольера. За два столетия на смену образам-типам пришли образы-характеры. Давно подсчитано, что в 47 оригинальных пьесах Островского действуют 728 персонажей. Они образуют целый мир, своеобразную «человеческую комедию» по Островскому. Ниже — некоторые из них. «Свои люди — сочтемся!» Подхалюзин Это делец новейшей формации, идущей на смену старому поколению: он уже не питает смехотворных предрассудков насчет того, что «своих» надувать и подставлять грешно. Показать полностью
 12 1222 Показать 8 комментариев |